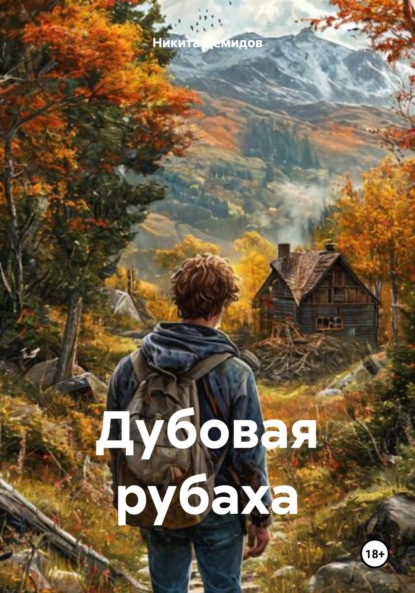По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дубовая рубаха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– О чем болтаете? – сквозь смех и пытаясь успокоится проговорил Олег.
– Да так, – ответил я недоверчиво – есть тут кое-что.
– Что? Ну что? О чем вы говорите? – пробормотал он как-то нервно, почти неразборчиво.
– Да занятия хотим в субботу прогулять, вот думаем как, – раздражено отчеканил Нурлан.
Олег захохотал и побежал прочь от нас, нелепо размахивая руками и как-то запрокидывая назад голову.
Спустя буквально минуту, из-за угла вышли Олег и другие наши одноклассники, и тыча в меня с Нурланом пальцами хохотали.
– Мы знаем ваш секрет! – в один голос кричали они – Знаем ваш секрет, иногородние!
Из их компании выбежал Олег и подбежал к нам. Он отчаянно смеялся над своей проделкой, о которой мы еще и не знали ничего. Подбежав к нам, он чуть не врезавшись в меня, развернулся и отбежав шага два, сделав тем самым круг, снова двинулся в нашу сторону. Кружа таким образом рядом с нами, он выпучив глаза так, что они казалось вываляться из глазниц, очевидно хотел что-то сказать, но был настолько этим рассмешен, что лишь ржал словно взбешенная лошадь, представляя собой зрелище откровенно дурацкое.
Наконец успокоившись он встал от нас в нескольких шагах и тяжело дыша стал рассказывать о той, в его представлении, злой шутке которую он с нами сыграл.
– На самом деле, – начал Олег – я просто притворялся вашим другом. Вы мне совершенно не нужны.
– И что? – спросил Нурлан, с неизменным своим презрением.
– А то, что я расскажу об этом учителям, и вас дураков, накажут, – закончив, Олег захохотал и снова стал кружить, рядом с нами.
– Ну и Бог с тобой, – произнес я вслух, так чтобы он все услышал, но не обращаясь к нему непосредственно.
– То есть как? – тут же остановился наш одноклассник – И вам не обидно, что я вас провел?
Перестав обращать внимание на нашего ошеломленного одноклассника, мы занялись обсуждением матча, который неделей ранее назначили на сегодняшний день.
Олег всячески пытался выудить из нас хоть какие-то слова, толкал меня и Нурлана в плечо, лишь бы мы посмотрели в его сторону, но все его попытки успехом не увенчались. Я ни столько оскорбленный тем, что этот шут поступил со мной подло, сколько тем, что в его голове вообще появился такой гадкий план, совершенно не хотел с ним разговаривать. Нурлана же скорее матч интересовал больше, чем этот кружащий рядом с нами дурачок, и он с блеском в глазах расписывал мне каждый удар по мячу, который нанесет сегодня.
Первое зерно сомнения в окружающих меня детях было заронено в душу проделкой Олега. В деревне, где я жил до этого, подобных подлостей, или чего-то очень на них похожего просто не было. Там дети были проще и более открыты. Если им что-то в тебе не нравилось то они об этом говорили, либо просто затевали драку. Но не взирая на это, я тем не менее с охотой вступал в разговоры со всеми своими одноклассниками, потому как желал соприкоснуться с тем самым миром, который я видел в их глазах. Не испытывая каких либо трудностей на своем пути, я в скором времени узнал абсолютно все об этой таинственной вселенной, к которой у меня не было доступа. Оказалось, что мои одноклассники все как один боготворили комиксы. Я же в то время, в той мере, в какой это может себе позволить ребенок, увлекся культурой древних греков, и стал поглядывать на своих одноклассников, возившихся с этой нарисованной ерундой, немного свысока.
Но необходимо отдать должное и им. Рассмотрев во мне это высокомерие, они все более отдалялись от меня, и совсем скоро мне, убежденному, как мне тогда казалось, последователю Аристотеля, пришлось с кулаками отстаивать своё право посещать школу.
5
Можно сказать, что с тех самых пор в моей жизни наступил период изоляции. Видя, что мои интересы не находят отзыва в одноклассниках и прекрасно понимая, что то чем живут они совершенно для меня неприемлемо, я большую часть времени проводил за чтением книг. Жизнь моя представляла собой следующую, весьма бесхитростную комбинацию, основными пунктами которой были – дом, школа и библиотека, с редкими перерывами на одинокие прогулки, когда я ползал по огромным горам снега и мнил себя римским легионером. Нурлан, ставший моим другом мало чем отличался от остальных, и мои с ним взаимоотношения объяснялись лишь тем, что оба мы жили в пригороде.
Если быть совсем уж откровенным, то моими настоящими друзьями были ребята с деревни, с которыми я вел переписку в течении нескольких лет, покуда и этот вид отношений не изжил себя. В этих письмах, приходивших ко мне раз в месяц, заключалась значительная часть моей жизни. Всякий раз когда мама приносила почту, я с радостными выкриками выхватывал у неё из рук конверт и бежал в свою комнатку, чтобы поскорее сесть за чтение. Внимательно вглядываясь в выведенные корявым почерком надписи, я мысленно переносился в деревню и представлял как выглядит та или иная ситуация, описанная моим товарищем. В основном я обменивался письмами со своим теской Сашей, которого я знал более всех, и дружил с ним еще до школы, и с Женей, никогда не вызывавшим у меня симпатии, но писавшем чаще и больше остальных.
Иногда мне приходили и письма от моего соседа – Вани, но их содержание было настолько размытым, что ничего об этой переписке я и сказать не могу. Но оглядываясь назад, или пытаясь это сделать, я отчетливо вижу ровные строчки, плотно забитые старательно выведенными, и оттого выглядевшими весьма изысканно, буквами, тех писем, что присылал мне Женя. Буквально сжимая их сейчас в руках я безошибочно могу расписать и все то, что в них было изложено. Это послания как правило были весьма длинными и изобиловали всяческими восклицаниями и клятвенными уверениями в дружбе. Вспоминая сейчас ту напряженность, установившуюся между нами, в момент моего проживания в деревне, мне не совсем понятны те его заискивания передо мной в письмах. Возможно он просто лукавил, и лукавил от чистого сердца, которое как это и принято у людей полноватых, было под завязку набито добродушием ко всякому человеку попавшемуся ему под руку.
На ту пору нам было лет по одиннадцать, и в сердца наши, тайком проникло то, что в последующем можно было смело назвать любовью. Чувство это было столь необычным и противоречивым, что описать его весьма сложно. Закрывая глаза и просто подумав о тех днях, когда в сердце моем поселилась эта нежданная гостья, я вижу себя стоящим перед милой девчушкой, потупившей глаза свои, и не смеющей проронить и звука. Столь же безмолвен и я сам, но в глазах моих что-то пылает, какой-то безумный огонек, лишь маленький язычок пламени, того великого пожара, что горит в груди. С зажатым в незримых тисках телом, и с выкрученным словно мокрая сорочка сердцем, из которого крепкие руки прачки выжимают все соки, я нелепый стоял перед этой девчушкой и единственное на что был способен, так это на какую-нибудь глупость, способную задеть её за живое и оскорбить до глубины души. Прокручивая в голове все те мысли, и ощущения, неразрывно связанные с той смешной детской страстью, и ей рожденные, я настаиваю на том, что первая любовь это прежде всего страдание, и именно потому воспоминания о ней, так крепко оседают в сердце. По негласному закону, все горестные события нашей жизни мы помним с поразительной четкостью, и именно они прежде всего приходят на ум в те моменты, когда нам одиноко или тоскливо. Можно развивать ряд теорий о том, что испытывая одиночество мы будто бы переносимся в ту ситуацию, бывшую с нами в прошлом, когда схожие чувства владели нами, но я считаю, что горе необходимо пережить, в то время как радость каждый человек воспринимает как должное, свято веря, что жизнь нам дана для веселья и потех.
В своих письмах, Саша как раз и рассказывал мне о своей первой любви, и я зная его и ту, чьей очаровательной улыбке он на время посвятил своё сердце, представлял как они встречаются после школы и встав друг на против друга благоговейно молчат. Так длиться некоторое время, а потом Саша поднимает голову и отстранено глядя в сторону, протягивает ей записку. Она смотрит на него, их взгляды на секунду пересекаются, вызывая тем самым испуг у юных влюбленных, и они, уже сказав друг другу все, расходятся в разные стороны. Спрятавшись в одном из ближайших закоулков, юная дива жадно впивается глазами в письмо ей переданное. Ознакомившись со всеми милыми глупостями, притаившимися в этой записочке, она улыбается, терзаясь сомнениями в правильности происходящего. Саша же размашисто идет домой, и красный от стыда, клянет себя за малодушие, всячески бранит своего внутреннего дурачка, так он упоминал об этом в письме, за то, что у того не хватило сил и смелости сказать все то, о чем он, Саша, думал и хотел сказать этой девочке.
Откровения, которыми делился мой товарищ, настолько овладевали моим воображением, что я отстранялся от окружающей меня действительности и перемещался в деревню, бывшую в моем представлении тем местом, где деревья пестрят жизнью зеленых листочков, и где свежий ветерок, дующий неизвестно откуда, своими легкими прикосновениями снимает жар, изнывающего от зноя тела. Оцепенев от увиденного, и уже переместившись в само письмо, став участником всех событий переданных в послании Сашей, я по неизвестным мне причинам, находил все остальное, о чем рассказывал мой друг каким-то нелепым и недостойным моего внимания бредом. Жизнь в деревне протекала вяло, и мне казалось порой, что даже моя жизнь столь скромная на события, более насыщена по сравнению с жизнью моих деревенских товарищей.
Но я убеждался в обратном, всякий раз когда на летние каникулы уезжал гостить к бабушке. Письма уступали место разговорам, а созерцание жизни издалека затмевалось бурным водоворотом этой самой жизни, в которую мы бросались сломя голову. Так же как и прежде, мы пол дня гоняли мяч и играли в салки на Зинихе, но вечером, когда темнело мы наряжались и отправлялись на гулянки. Тогда то, мы и начали пить вино, многие из моих товарищей уже курили, и если быть уж совсем честным, то наша компания представляла собой зрелище откровенно говоря убогое. Пьяные дети, без цели слоняющиеся по деревне и считающие, что тем самым они могут хоть как-то заинтересовать встречающихся им на пути девочек. Глупость, откровенная глупость, которая как правило заканчивалась за ближайшим кустиком, где наши желудки, плохо приспособленные под крепкие напитки, исторгали наружу весь яд в них скопившийся.
На следующий день после таких прогулок, нам как правило бывало плохо, особенно худо было тем, кого родители заставали в пьяном виде. Но убежденные в том, что именно так и выглядит взрослая жизнь, мы тем же вечером снова напивались и лишний раз доказывая самим себе, что мы уже не дети, обсуждали не платьица, которые были на девочках, а то что скрывается под ними.
Возвращаясь осенью в город, я неизменно чувствовал себя чуть старше своего возраста и уже в поезде всю дорогу внушал себе, что теперь-то необходимо жить по-другому. Находя себя более смелым чем раньше, я так и видел как буду блистать перед остальными, а они в свою очередь с неподдельным восхищением будут смотреть на меня, как на человека познавшего запретные плоды взрослой жизни. По приезде же я шел в школу, и пробыв там день, возвращался домой, с одной лишь мыслью поскорее взять в библиотеке книгу, не важно какую, лишь бы отвратить от себя необходимость выходить лишний раз на улицу, с кем-то там встречаться и заводить с этим неизвестным беседу.
6
Самым неприятным, и в тоже время наиболее полным событий периодом в моей жизни, пожалуй являлось отрочество, в котором по правде говоря и черт ноги все себе изломал бы, приди ему вдруг в голову мысль разобраться в том, что со мной происходило. Перебирая в голове все детали, я с уверенностью могу сказать, что фактом вызывающим более всего отвращения являлось то, что тогда во мне произошли значительные изменения, которых прежде всего не могла ожидать моя мать, женщина воистину святая, перед которой мне до сих пор стыдно за те события.
Как и все в нашей семье, Катерина Викторовна, моя мать, являлась тем типом непроницаемого и противоречивого человека, о котором практически невозможно составить определенного мнения. С первого взгляда моя мать была существом слабым и переносящим все выпавшие на её голову горести с безропотностью малодушия, но узнайте вы её ближе, и ваше мнение кардинальным образом менялось.
Мои отношения с матерью с самого начала не заладились. Мне, воспитанному бабушкой, женщиной весьма неряшливой, казалось диким следовать строгим требованиям моей матери, бывшей самым обыкновенным педантом. Если раньше я считал естественным всячески разбрасывать вещи, то теперь требовалось их аккуратно складывать на спинке стула, или же прятать в шкафу. И подобного подхода требовало все, что я делал. Поев, я непременно должен был протереть стол, чтобы избавиться от крошек на него упавших. Но даже не это вызывало у меня отторжение, ибо человек устроен таким образом, что любая неприятность со временем перестает его беспокоить, становясь лишь делом привычки. Мой детский рассудок приходил в возмущение от реакции Катерины Викторовны, на все мои потуги следовать заведенным правилам. За крошку на столе, которую я совершенно случайно не смёл тряпкой, она в типичной для нашей семьи грубой манере, ругала меня так, что душа моя уходила в пятки. Очевидно, главной её проблемой было убежденность в том, что я, её ребенок, без всяких предварительных трудов стану таким, каким она хотела. Я же стараясь угодить Катерине Викторовне, не мог не отмечать того, что моё преображение из неряхи в педанта, в общем-то весьма успешное, сопровождалось с её стороны лишь критикой, приводившей меня в отчаянье. То, что мы шли к одному и тому же, но разными путями, нисколько нас не сближало, а лишь наоборот с каждой ссорой отдаляло, и будь я тогда более прозорливым, то смог бы увидеть как мы стоим на самом краю двух разных обрывов, с которых смотрим на одну и ту же бездну. Катерина же Викторовна не видя во мне того самого сына, который был бы прилежным учеником и опрятным мальчиком, а я и в правду был немного не собран и от постоянного чтения книг учился с каждым годом все хуже, была склонна обвинять в том обстоятельства и все, что угодно на свете кроме самой себя. Воспитала же из тебя бабушка росомаху (таким словом она почему-то подводила итог моей нескладности и неряшливости) – восклицала моя мать всякий раз как видела, что из брюк моих торчит край рубахи. Эти возгласы нисколько не располагали меня к матери, а скорее вызывали отторжение, ведь я слышал в них брань в адрес горячо мною любимой бабушки. Ты весь в папашу! – грозно выкрикивала она и глядя на мою фигурку, всю будто бы состоящую из недоумения и смущения, прикусывала губу и растерянно убегала в свою комнату, из которой возвращалась лишь спустя время, с воспаленными и покрасневшими глазами.
Тогда я не мог понять того, что происходило с матерью, ведь такие слова как любовь, страсть и преданность были известны мне лишь понаслышке, или представлялись сетью букв из совсем недавно прочитанного романа, где вскользь упоминалось о чем-то подобном. А дело было в том, что Катерина Викторовна до потери памяти любила моего отца, покинувшего этот мир когда мне не было и четырех лет. Александр Павлович, погиб совсем еще молодым при весьма загадочных обстоятельствах, и моя мать, когда я впервые увидел её после нескольких лет, носила по нему траур. Очевидно, это было чем-то чрезвычайным, потому как бабушка моя частенько говаривала – Вот Катька дура! Давно бы уж замуж выскочила. Вон как Людка, или Галька, а она все ходит и не бог весть что из себя строит. Отплевываясь она устремлялась взглядом неизвестно куда, и будто бы видя там мою мать, с каждой минутой все мрачнела, словно надеясь тем самым ускорить замужество своей дочери. Я не знал ни кто такая Людка, ни уж тем более Галька, но не видел в их поступке ничего героического, прежде всего оттого, что не мог осудить поведение Катерины Викторовны как глупое.
В тот год, когда умер мой отец, нас покинул так же и Виктор Леонидович, мой дедушка, и семья лишилась хоть какого – то содержания. Бабушка моя тяжело заболела и была вынуждена уехать в деревню вместе со мной, болезненным и слабым мальчиком, а две сестры, моя мама и тетя остались в городе и нисколько не щадя себя вступили с жизнью в самое настоящее противоборство. Но борьба эта, насколько я могу судить об этом сейчас, была несколько глупой. И для того, чтобы прийти к тому моменту, где вся её несуразность проявляется с особенной четкостью, я должен капнуть чуть глубже и отправится в то время, когда меня еще и в помине не было. Ведь как известно, история человека – река, берущая начало своё где-то в горах и впадающая в огромный океан, так же расходящийся множеством рек.
Катерина Викторовна родилась в семье более чем обеспеченной, что в последующем значительно повлияло на формирование её характера. Я помню все истории Розалины Андреевны о моей матери, в которых достаток и даже переизбыток благ был отчетливо виден, что вызывало у меня недоумение, потому как мы с бабушкой жили в крайней нужде. В каждом таком рассказе моя мать со своей сестрой собирали со всей округи диких собак и кошек, заводили их в дом и там кормили дорогими колбасами и прочими деликатесами, столь непривычными для беспризорных животных.
В последующем же, когда перед моей матерью встал вопрос куда же пойти учится и какое ремесло освоить, она наперекор своему отцу выбрала какое-то захудалое учебное заведение, в котором Катерина Викторовна из школьницы преобразилась в библиотекаря. Стоит отметить, что Виктор Леонидович, настаивал на том, чтобы моя мать поступила в престижный университет, для освоения там профессии более значительной, но она решив, что всего добьется сама, отклонила это предложение, сделав тем самым первый вклад в копилку своих несчастий.
Розалина Андреевна всегда обвиняла Катерину Викторовну в глупости за такое решение, и я, ничего не смыслящий во взрослой жизни, соглашался с ней и в последующем придерживался того мнения, что мама моя дала маху. Но в момент, предшествующий моим метаморфозам, о которых будет сообщено чуть позже, я обзавелся определенного рода привычкой, которая более нужна полицейским ищейкам, нежели ребенку. Оставаясь дома один, что бывало весьма часто, я без зазрения совести рылся по шкафам и тумбочкам в поисках вещей, которые в моем представлении должны были компрометировать мою маму и тетю, жившую с нами. В своих поисках я забирался в такие закоулки интимной жизни моих родных, о которых другой ребенок и помыслить бы не смог. Конечно, желаемого я так и не нашел, но вместо этого наткнулся на некоторые неподходящие для моего возраста, и оттого столь соблазнительные книги, одной из которых была биография де Сада. Помню с каким невероятным трепетом я вчитывался в некоторые из строчек, бывших откровенными до ужаса и отвратительными до тошноты. Так же в моих руках оказались дневники Катерины Викторовны и её сестры Агнессы, которые они вели, будучи совсем юными.
Тщательно изучив все эти записи, прочитав стихи, старательно выведенные на некоторых страницах изысканным почерком, и просмотрев смешные, неумелые рисунки, бывшие по видимому делом рук моей тети, ведь в нашей семье её прочили в художницы, я пришел к выводу, что Катерина Викторовна по сути своей являлась, а может быть и осталась, натурой утонченной. С тех самых пор я расценивал тот отказ своей матери как некоторый протест, библиотекарь же в моем тогдашнем понимании был человеком тесно связанным с миром книг, с самым прекрасным миром из всех возможных.
И эти предположения не были ошибочными. Моя мама будучи ребенком из успешной семьи, имела привычки, чем то схожие с теми, что были неотъемлемым атрибутом аристократов. Именно она привила мне любовь к чтению, и ни к каким-то там книжечкам, а к самой настоящей литературе. Если передо мной вставал выбор какую книгу взять для чтения, Катерина Викторовна не советовала мне идти в библиотеку, чтобы взять там какую-нибудь детскую сказочку, а просто доставала с верхней полки "Проклятых королей" Дрюона и улыбнувшись произносила: "Тебе должно понравится".
Наблюдая за своей матерью через подобную призму я совсем скоро заметил, что в ней будто бы заключены две личности, друг с другом совершенно не совместимые. Катерина Викторовна например иной раз выражалась как самый заправский сапожник, о чем я мог судить по движению её губ, за которыми следил с прикрытыми ладонями по её просьбе ушами и угадывал в этих нервных конвульсиях уже знакомые мне бранные слова. Но ничего подобного она никоим образом не могла позволить в присутствии своих друзей или знакомых, изъясняясь с ними исключительно высоким слогом.
Эта двойственность в её поведении объяснялась прежде всего тем упадком, произошедшим в нашей семье после смерти Виктора Леонидовича и Александра Павловича. Моя мать, не работавшая до этого и дня, была вынуждена выйти на службу, где она варилась в одном котле с людьми самыми простыми. Обычные пролетарии вокруг неё брали вверх над интеллигентом, живущем в её разуме и сердце, и как следствие появились привычки равносильные той же самой брани. Но аристократ не уходил на совсем и подталкиваемый желанием не ударить лицом в грязь, прежде всего перед самим собой, иногда показывался наружу, да так, что все просто диву давались. Мама например, как и я в последующем, любила козырять перед другими какими-то редкими знаниями, почерпнутыми ей из книг. Эта привычка, по её мнению, должна была выдвинуть её из ряда остальных, как человека эрудированного. Но знания её были разрозненными и представляли из себя нечто похожее на салат, из многочисленных и противоречивых знаний, вырванных то тут, то там из общего контекста.
Но возвращаясь к вопросу о тщетности её борьбы, я снова вынужден повторить, что на развитие дальнейших событий повлияла смерть моего отца и деда. С детства окруженная сильными мужчинами, Катерина Викторовна не видела себя существом самостоятельным, а предпочитала находится в подчинении. Быть может именно поэтому она и освоила ремесло библиотекаря, свято полагая, что для женщины о которой заботиться муж, не так уж важно сколько денег приносит её профессия. Лишенная всего она боролась, безропотно перенося все горести выпадающие на её долю лишь бы обеспечить меня и бабушку куском хлеба, но потеряв веру после смерти двух близких ей людей, шла по одному лишь пути, не решаясь сделать и шага в сторону, во избежание трагических последствий, которые кружили над ней постоянно и лишь ожидали, когда Катерина Викторовна оступится. Моя мать боялась всяких перемен, и ровным счетом ничего не делала для изменения своей жизни, не видя в том ничего хорошего. Но в тоже самое время я не припомню и дня, чтобы она возвращалась со службы в хорошем расположении духа. Наоборот, всякий раз по приходе домой она была зла и кляла свою жизнь на чем свет стоит, за то, что та повернулась к ней задним местом. Иногда она плакала и глядя себе в ладони повторяла один и тот же вопрос – За что?
Именно в этой атмосфере я и преобразился из тихого мальчика, большую часть времени проводящего в своей комнате, в проблемного ребенка, что стало для матери очередным потрясением.
Из недр моей души наружу вылилось нечто неизвестное и ужасное, но более мне близкое чем тот образ, который формировался на протяжении всей жизни. Став учится еще хуже чем раньше, я после занятий шел куда-то с друзьями и домой приходил уже изрядно пьяным. Иногда меня приводили полицейские, и Катерина Викторовна выпроваживая стражей закона с криками и воплями, отвешивала мне звонкую пощечину, от которой ноги мои, едва держащие тело, подкашивались, и я валился на пол. Тогда мама помогая мне встать, заталкивала безвольное тело, которым являлось в этот момент всё мою существо, в комнату и буквально раздевая меня укладывала в постель. Устанавливая на полу возле кровати таз, она выходила из комнаты со словами – Завтра поговорим, молодой человек. Но на следующий день история повторялась снова, и матери приходилась ждать субботы или воскресения для выяснения со мной отношений.
Обыкновенно дождавшись пока я проснусь, Катерина Викторовна заходила в мою комнату и весьма сдержанно начинала перечислять все мои проступки. Далее она умело жонглируя всеми обличающими меня фактами пускалась в пространные рассуждения, прогнозируя мне ужасное будущее в каком-нибудь притоне, где я опустившись донельзя должен буду умереть самой позорной смертью. Я же в ответ лишь ядовито улыбался, чем выводил мать из себя. Уже более не сдерживаясь она кричала на меня, заламывала руки и искажаясь в лице. Эти её преображения изрядно забавляли меня, и Катерина Викторовна видя что по лицу моему блуждает тень насмешливости, доходила до последней, доступной её чувственности стадии, а именно падала без сил на мою кровать и заливалась слезами. Уже ничего не соображая, она лишь хваталась руками за одеяло и исступленно мычала, очевидно кляня судьбу за такого гадкого как я сына. Наблюдая за этой, фактически немой сценой, я чувствовал что вся желчь цинизма во мне куда-то уходит, и сердце, лишенное своей защиты начинает сжиматься. Пытаясь проговорить слова утешения, я так и видел как все произносимые мною буквы касались застрявшего в горле кома, по телу пробегала волна, схожая с той, что бывает при щекотке, и из глаз моих текли слезы. Заключив друг друга в объятия в этом общем рыдании, мы словно дети лепетали одно и тоже, вымаливая друг у друга прощения и под конец успокоившись, смеялись над тем, как же это все глупо.
После таких сцен я как правило в течение недели вел себя самым должным образом, а потом снова уходил в загул, огорчая Катерину Викторовну с каждым разом все больше и больше.
7
Но мамины излияния совсем скоро перестали оказывать на меня своё первоначальное воздействие. Катерина Викторовна по-прежнему рыдала, и мне всякий раз становилась не по себе от этого зрелища, но пресытившись им, я не мог не понимать, что всякий стыд и досаду на самого себя, во мне заглушало равнодушие. Делая вид, что терзания матери мне не безразличны, я в действительности не видел и не слышал её, весь поглощенный мыслями о том как же мне осточертели подобные сцены. И под конец не выдерживая, я взрывался и криками вгонял Катерину Викторовну в такой трепет, что она лишь молча смотрела сквозь меня и тряслась мелкой дрожью от отчаянья, в которое её ввергало моё перекошенное от злобы лицо. Не сводя глаз своих, отражение пламени которых танцевало в её слезах, я с каждой секундой все отчетливее ощущал как кожа на моем лице растягивается в улыбке. Свято полагая в такие моменты, что лицо Катерины Викторовны, обращаемое горем в нечто жалкое и ничтожное, является отображением точно таких же коверкающих во мне все человеческое изменений, я, будто бы наблюдая за собой со стороны, видел эту злобную гримасу, видел как она с каждой секундой становится все уродливее, гаже и отвратительнее. Но какое мне было до этого дело, когда я отчаянно верил в законность моего поведения, приравненного к бунту против вопиющего угнетения детей родителями. Не выдерживая более этого пристального взгляда наглого и упивающегося собственной правотой юнца, моя мать выходила из комнаты, даже не удостаивая меня презрительным взглядом.
Минутой спустя, когда я метался по дому перед тем как покинуть его на несколько дней, до моего слуха доносились монотонные причитания, проговариваемые тихим и спокойным голосом. За что мне это? За что? – лились из спальни матери ровным потоком возгласы недоумения, которые повторялись уже тысячу раз и до сих пор оставались неразрешимыми. Слушая эти жалобы, бывшие более обвинениями, и именно потому, что Катерина Викторовна создавая видимость их сокрытия, горланила о своей горькой участи на всю квартиру, я приходил в ярость. Быть может она считает, что услышав её стенания я буду раскаиваться? – спрашивал я самого себя – Неужели именно таким способом она намерена оспаривать свою правоту?
Не находя в поведении своей матери ничего кроме лицемерия, я не прощаясь уходил из дому и долго бродил по улице, обдумывая увиденное и услышанное. В действительности они не являются теми, кем хотят быть, – рассуждал я, весь трясясь от гнева – это всего лишь видимость. И не имеет значения поступишься ты принципами составляющими твою суть, или нет, ведь в твоем распоряжении всегда имеется состояние аффекта, которым можно обосновать чуть ли не каждый сделанный шаг. Именно поэтому человек так цепляется за двойственность якобы столь для него присущую. Что ни говори, а это чрезвычайно удобно. Цепляясь за эту мысль, я мог часами обвинять человечество во всевозможных смертных грехах, лишь бы не вставать лицом к лицу с собственным ощущением вины. Но уже позже когда я оказывался в привычном для меня притоне, где все было так просто и честно, где вино затуманивая рассудок всех участников каждодневных оргий, устраняло всякую двусмысленность, передо мной величавым и невозмутимым идолом вставала моя совесть. Ничего не соображающий от выпитой водки, я обнимающий и целующий неизвестную, или неизвестных, глаз не мог отвести от стоящего в самом центре комнаты, одного мне видимого судьи.
Другие электронные книги автора Никита Демидов
Крысолов




 0
0