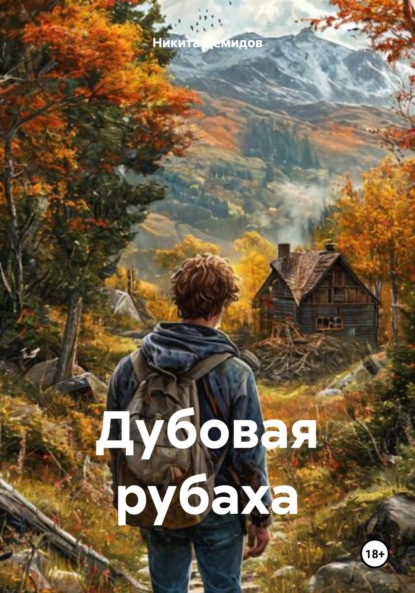По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дубовая рубаха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дубовая рубаха
Никита Демидов
Непростая история о взрослении, поисках себя и становлении как личности в сложное время, полное опасностей и соблазнов.
Главный герой мечется между дружбой и семьей, любовью и ненавистью и все анализируя спустя года пытается найти себе место в жизни.
Никита Демидов
Дубовая рубаха
Вместо вступления
История эта началась с очевидной глупости, и сейчас прокручивая все в голове от начала и до конца, я в очередной раз удивляюсь непредсказуемости того, что происходит с людьми. Человек живет, а значит рассказ о нем обрастает все новыми подробностями, повороты становятся круче, и бытие человека вдруг обращается в ту самую повесть, о которой скажут, что это сплошь выдумки и неправда. Но стоит мириться с этим, и чуточку доверившись рассказчику пожить его жизнью несколько часов, и может быть что-то из этого извлечь.
В тот самый день, когда солнце только – только поднялось из-за горизонта и подобно голодному зверю набросилась на еще пустынные по-утреннему улицы Тирасполя, Мила вылезла из-под одеяла и преобразившись, после увиденного сна, подошла ко мне и я увидел на её лице ту самую улыбку, в которой губы её растягивались всякий раз, когда она собиралась о чем-то меня просить. Предвидя это, я не мог не отдавать себя отчета в том, что своего она добьется, не взирая на все мои возражения и протесты.
– Почему бы тебе не взяться за перо? – мило пролепетала она, чтобы усилить эффект произведенный на меня её улыбкой.
Я ожидал чего угодно, но только не этого. Что за глупость? И ради подобной ерунды она тратила на меня эту самую улыбку, которой пользовалась столь редко.
– Что? Да с чего ты взяла, что я способен писать? У меня ни таланта нет, ни образования. Ведь этому учиться надо, освоить технику, разработать свою. Как я могу?
Мила засмеялась подобно ребенку, отчего мне всякий раз становилось как-то не по себе. Глядя на неё, я невольно задумывался о том, что не способен смеяться так же, и в очередной раз корил себя за бездушие. Увидев моё замешательство она тут же взяла себя в руки и глазами полными нежности впилась в мои, такие, как мне казалось, холодные и мутные.
– Тебе стоило бы попробовать, – проговорила она вкрадчиво – сейчас каждый человек, научившийся в школе без ошибок писать "что" занимается писательством. Нисколько не мучаясь заданными тобой только что вопросами, они на всеобщее обозрение выставляют свои работы. До того порой доходит, что иной деятель со всеми гадкими подробностями на десять страниц расписывает как он уборную посещал. Но это же отвратительно, а тебе есть, о чем рассказать, ты ведь столько интересного повидал.
– Возможно ты и права, но мне не хотелось бы уподобляться этим остальным. Я не уверен в том, что могу, а сора и так много как ты говоришь, зачем же больше?
– Ты наговариваешь на себя – улыбнувшись произнесла она тихо, и я понял, что никак не могу ей отказать.
С этого все и началось. Теперь я каждый день предавался воспоминаниям и вычленяя из них особенно важные для меня моменты, брался за письмо. Выходило как мне казалось плохо. Мысли, кишащие в моей голове и казавшиеся столь огромными при переносе на лист, становились незначительными и мизерными. Смущало меня и то, что я не в достаточной мере их описывал. Всякий раз важные нюансы той или иной истории куда-то исчезали, а вспомнить их я не мог. Но писательство до поры до времени скрашивало мой досуг, и я особенно не роптал на себя, осознавая при этом всю тщетность моих попыток.
Каждый вечер Мила возвращаясь с института принималась читать то, что я написал за день и как не странно, ей мои очерки нравились, иной раз доходило и до восторга, которого я по некоторым причинам понять не мог. Одобрение её смущало меня, и всякий раз как она говорила "это восхитительно" я невольно подозревал её во лжи. Эту похвалу я объяснял прежде всего нашей близостью и раздражался от того, что Мила врет. Но стоило ей вдруг выругать меня за почерк, корявый и неразборчивый, как я тут же выходил из себя. Её это чрезвычайно веселило, а я не мог понять каким образом происходит так, что критика желанна, но тяжела, и почему я не могу принять её одобрения, хоть и нуждаюсь в нем. Я и подумать не мог, что наконец-то нашел то, что мне действительно нравится, и теперь дорожил этой находкой. Мила же сразу это поняла и потому к моим язвительным высказываниям и обвинениям в моменты обиды относилась как к чему-то само собой разумеющемуся.
Но однажды череда разрозненных жизнеописаний, над которыми я без устали работал, выстроилась в определенной последовательности так, что я невольно задумался. Пробежав глазами все листы, исписанные буквами, этими кривыми закорючками, я швырнул все письменные принадлежности в стол и скрутив папиросу вышел на балкон.
Через дорогу, напротив дома в котором я занимал квартиру, стоял, весь залитый солнечным светом и от того едва различимый, Собор Рождества Христова. Звонили к обедне, отчего на душе стало еще тревожнее. Этот звон был неразрывно связан с чем-то траурным и печальным. Когда я был маленьким, то очень часто на летние каникулы уезжал к бабушке в деревню. Деревенские воспоминания эти, а о них я так же писал, всегда были переполнены теплотой и светом, настолько, что меня охватывала тоска когда я сравнивал их с моей нынешней жизнью. Но однажды, в деревне вспыхнула неизвестная эпидемия и очень многие из деревенских, не получив вовремя помощи, отдали Богу душу. Как сейчас, я помнил, что всю неделю после погашения эпидемии звонили колокола, а в дом с улицы проникал запах ели, чьими ветвями были покрыты все дороги в деревне. Не понимая тогда сути происходящего в полной мере, я отчетливо помню, что процессии плачущих людей, одетых в черное, которые я видел каждый день, ввергали меня в ужас.
– О, еще на одного деревянный макинтош нацепили, – невозмутимо произносила моя бабушка, всякий раз как мимо нашего дома проходила процессия с покойником. Её спокойствие передавалось и мне, отчего страх отступал, и жизнь снова становилась такой, какой она должна быть у ребенка, беззаботной и радостной.
Вот и сейчас этот звон болью отозвался в сердце моем, и ощущение сковавшее меня во время просмотра записей обострилось. Моя жизнь напоминает лихорадку, – именно это и пришло мне в голову – во время которой больной большую часть времени пребывает в забытьи, и иногда лишь ввергается болезнью в буйное состояние, довольно кратковременное. И действительно, даже нынешняя жизнь с Милой являлась в некотором роде сном, о котором я бы вряд ли мог что-то сказать, но это было забытье счастливое. А ведь были времена, когда я ходил по улицам подобно сомнамбуле, ничего не понимая и даже быть может не существуя в действительности. Я мучился этим, какой-то неразрешимый вопрос причинял мне страдания. Но сейчас я помню лишь предчувствие сумасшествия переполняющее меня тогда, и более ничего. Причины по которым я терзал себя и подробности всех злоключений через которые прошел рассудок мой забылись, или же и вовсе никак не отложились в памяти.
По пробуждении же я как правило ввязывался в какую-либо авантюру, после которой мне приходилось покидать город в котором она развернулась, или же устав от всего на свете и пребывая в состоянии мало отличном от сна, я с головой погружался в разврат и жил подобно животному. Не отличаясь особой целеустремленностью, я всегда избегал путей, требующих хоть какого-либо усилия, и всегда выбирал дорогу наиболее простую. Я катился вниз по склону горы, называемой людьми жизнью, в самую бездну. Мне было и больно, и страшно, но так было проще, получалось само собой и в конце концов вело к тому, к чему мы все придем.
Раздумывая, я представил себе художника, который каждое утро подходит к своему окну и пишет, захватывая все подробности открывшегося его взору вида. В одно и тоже время, с одним и тем же выражением лица, он брал в руки кисть, устанавливал мольберт и аккуратными движениями наносил на холст мазки краски. Я слежу за его работой, но ничего не могу понять и лишь вижу, как линии вырисовываются в силуэты, и те затем предстают предо мной во всей полноте своей формы и преисполненные жизни. Закончив он ставит готовую картину к стене, рядом с десятком точно таких же пейзажей "из окна" и чуть отойдя, всматривается в ряд одинаковых как, казалось бы, работ. Спустя минуту он улыбается, отпивает вино из стоящей на столе бутылки и закуривает. Я смотрю на него и не могу понять его радости, и оттого пуще прежнего вглядываюсь в холсты. И вот тут я понимаю, что пейзажи и в правду разные. Иной наклон ветвей у деревца, что растет у аллеи напротив; облака над ним, высоко в небе, имеют другую форму, в которой можно рассмотреть что-то для себя приятное; воздух имеет цвет отличный от вчерашнего и даже тени распластавшиеся на дорожках аллеи не такие как вчера или позавчера.
Художник покидает меня и я задумываюсь почему воображение мое создало именно этот образ и чтобы это значило? В иные минуты жизни мысль движется настолько лениво, что ты и вправду способен описать её ход досконально. Я ведь вспоминал о прошлом, заполненном периодами тревожного сна и беспамятства, и быть может тогда, находясь в забытьи я считал, что один день похож на другой, так же как и моя жизнь мало чем отличается от жизни уличной девки, дожидающейся на Думской своего звездного часа.
Вернулась Мила и как всегда улыбаясь подбежала ко мне, обвила шею мою своими руками и поцеловала в щеку.
– Много написал сегодня? – спросила она, будто бы и думать ни о чем другом не могла.
– Нет, совсем не писал, – произнес я, и задетый этим её вопросом о моей писанине нараспев, полным желчи голосом проговорил – не было вдохновения.
– Это ничего. Кстати, тебе письмо пришло, – проговорила она улыбаясь.
Я взял протянутый конверт и разорвав его стал читать письмо. Писала мать и с первых же строк меня будто бы обухом топора по голове ударили. Пора было отправляться в путь.
1
Город, в одном из домов которого я появился на свет, был пожалуй самым непригодным для роста и проживания ребенка. В детстве я часто и серьезно болел, отчего и был отправлен на воспитание в деревню к бабушке, которая проживала там вместе со своей матерью, моей прабабушкой.
Нина Васильевна, моя прабабушка, была женщиной мне непонятной. С первых пор моего появления в её доме, я не мог не понимать, что она меня не то чтобы не любит, но даже быть может ненавидит. Объяснить её этого ко мне отношения я тогда не мог, потому как эта неприязнь была лишена всяких причин. Единственное, что было доступно моему пониманию в те далекие времена, так это то, что меня оторвали от любимой матери и отправили в деревню, к какой-то раздражающейся от одного моего вида старухе, с колючими и холодными глазами. Ведомый этими мыслями и ощущениями я изолировался от всех подруг Нины Васильевны, таких же старушек, как и она сама, и сильно привязался к бабушке, казавшейся на фоне всех этих, как я говорил, "старух" молоденькой девочкой.
Но много ли я понимал тогда? Думая о самом себе я не был способен думать о том, что братья моей бабушки – Виктор, и Юрий буквально на моих глазах, душили в четыре руки Нину Васильевну, которая смирившись, даже и не сопротивлялась. Я ничего не знал ни о болезни, подтачивающей её изнутри; не видел я и того как Юрий Андреевич, бывший из братьев самым жестоким, избивал свою мать. Я ничего не видел, и в этом бы действительно было благо, если бы бабушка отгораживала меня от ужасов, царящих в семье Соболевых, более тщательно. Но она была шокирована этими событиями и иногда возможно забывала о том, что я быть может вижу все эти ссоры и скандалы.
Мне было пять лет, когда прабабушка умерла. Я не помню когда именно это случилось, но выражения лица Нины Васильевны, когда она ночью просыпалась от болей и моя бабушка крутилась вокруг неё, чтобы хоть как-то облегчить её страдания, останется в моей памяти навсегда. Я вижу как сейчас те ночи, когда от протяжных стонов Нины Васильевны я просыпался и робко вставал в дверях её комнаты. Огромная, в своей ночной рубашке и с растрепанными, седыми, доходящими до пояса волосами, она стояла возле кровати и будто бы обезумев смотрела в потолок. В её лице было то выражение скорби, какое обыкновенно бывает в лицах тех, кто теряет своих близких. Казалось, будто не она умирала, а погибал весь белый свет и она приходила в отчаянье наблюдая за его увяданием. Моя бабушка, низенькая и хрупкая, вертелась вокруг этой величественной женщины и тщетно пыталась уложить её в кровать. Быть может она и плакала, но я этого не помню. В тот момент, наблюдая за борьбой моей бабушки с её матерью, и тем сражением, происходящим внутри Нины Васильевны, я словно впадал в забытье, и просто не понимал того, что происходило.
После смерти Нины Васильевны в нашем доме стали появляться какие-то незнакомые мне люди. Многие из них мне совершенно не нравились, и потому даже лица этих людей нисколько не врезались мне в память. Единственное, я отчетливо помню одну женщину, все звали её Катериной, и именно поэтому я испытывал к ней симпатию, ведь такое же имя было у моей мамы. Это была невысокая женщина, с коротко остриженными, каштановыми волосами и носившая на носу большие и круглые очки, чем очень напоминала сову. Всякий раз когда я подходил к ней с каким-нибудь вопросом, она мило улыбалась и отвечала мне, отчего её сходство с моей матерью в моем понимании, лишь усугублялось.
На следующий день после омовения, за которым я подглядывал с печи, на которой должен был спать, меня на время, чтобы я не мешался под ногами у взрослых занятых приготовлениями к похоронам и поминкам, отдали в дом к Шатковым. Антонина Вячеславовна Шаткова приходилась свояченицей Виктору Андреевичу, брату моей бабушки, и потому меж нами существовало какое-то таинственное родство, которое как я понял в последующем состояло из ненависти, спрятанной под показными благопристойностью и уважением.
– Ой, здравствуйте Розалина Андреевна! – восклицала Антонина Вячеславовна всякий раз как встречала мою бабушку – Как поживаете? Как здоровьице?
– Здравствуй-здравствуй, – отвечала с каким-то надменным и непонятным мне достоинством бабушка – очень хорошо поживаем, сами как?
– Бог миловал, все хорошо, – отвечала Шаткова и уходила по своим делам.
– Жидовка, – бормотала под нос моя бабушка и провожала Антонину Вячеславовну и взглядом, и словечками покрепче, но только так, чтобы не слышно было.
Этот временный переезд я воспринял очень хорошо. Во-первых, Маша – дочь Антонины Вячеславовны очень мне нравилась, а во-вторых в атмосфере суеты царящий в доме, я чувствовал себя забытым и одиноким.
Между мной и Машей были такого рода взаимоотношения, что взрослые частенько прочили её мне в невесты, хоть я и был совсем малышом по сравнению с ней, закончившей третий класс школы. А теперь я оказывался в её доме, жил в её комнате и спал вместе с ней в одной постели. По дому я не скучал и был настолько захвачен своим детским счастьем, что и о бабушке даже не думал. Что происходило во все то время, что я жил у Шатковых стерлось из моей памяти навсегда, и даже спустя год после этих событий я не смог бы сказать, чем я там занимался.
Самое странное и пугающее во всем этом состояло в том, что наблюдая за тем как тело моей умершей прабабушки омывали перед похоронами, я не испытывал ни сочувствия, ни даже страха. Будто бы все это было какой-то игрой, распространенной у взрослых, которые живут-живут, а потом умирают. Но при всем при этом, я отчетливо знал, что такое смерть, и понимал насколько она ужасна. Ни ощущения потери, ни чего-то к ней близкого, мною тогда пережито не было, и вспоминая об этом опыте уже спустя годы, мною почему-то приписывалось какое-то ощущение радости, испытываемое маленьким мальчиком, наблюдающим за тем как его прабабушку, собирают в последний путь.
2
Оглядываясь назад я понимаю, что этот деревенский период прошел слишком уж быстро, потому как был заполнен событиями, но такого рода, что внешняя их сторона была излишне богата деталями и подробностями, в то время как внутренняя фактически пуста. Все те игры, которые я вел с другими ребятами, учение в школе и труд, будь то рубка дров или запасание воды в баню, были лишены какого-то смыслового содержания, и скорее всего происходили по наитию, сами собой. Но положение дел кардинальным образом менялось, когда я оказывался один.
Обыкновенно мои одинокие прогулки совершались зимой. Я вставал на лыжи и отъезжал далеко-далеко от дома, в безлюдные места ближе к лесу и катался так, поглощенный собственными мыслями. Катясь по широкому лугу, всему покрытому снегом и окруженному с двух сторон лесом, я как будто бы отстранялся от всего на свете и связывался с чем-то потусторонним, с миром заключенным во мне самом. То были часы грез, когда я видел себя римским полководцем, отправившимся на разведку, с целью выведать в каком именно лесу притаились дикие галлы. Всякий раз оказываясь наедине с самим собой я представлял именно это. Никаких других фантазий у меня будто бы и не было, лишь это видение сечи, где люди в сверкающих доспехах режут друг друга на части, заливая и землю и небо багровой кровью.
Осенью, когда все кругом начинало желтеть и лес шедший вокруг деревни напоминал золотую с медным отливом стену, я покончив с занятиями шел на опушку за школой и оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что никто меня не видит, заходил в самую чащу.
Я мог часами ходить по лесу, ни о чем не думая и даже не отдавая себя отчета в том, для чего я все это делаю.
Но потом в мою беззаботную жизнь вторгся чужак и я как не странно был совершенно к этому не готов. Этого неизвестного я ждал, и более того имел в голове некоторое представление о том, как он выглядит, с каким выражением смотрит в мои глаза. Я даже знал какой у него должен быть голос, и представлял, что буду чувствовать когда возьму этого чужака за руку.
Наступило лето, отчего беззаботность моя всё росла в размерах и достигла такого масштаба, что я ни о чем другом кроме как о развлечениях думать не мог. Большую часть времени я проводил на лугу за школой, где мы с ребятами устроили поле для игры в футбол. По несколько часов к ряду мы носились под палящими солнечными лучами, изнывая от зноя и обливаясь потом, но такие счастливые и веселые, что и не замечали всего этого. Когда же становилось совсем невмоготу, мы садились на велосипеды и всей ватагой ехали на речку.
Никита Демидов
Непростая история о взрослении, поисках себя и становлении как личности в сложное время, полное опасностей и соблазнов.
Главный герой мечется между дружбой и семьей, любовью и ненавистью и все анализируя спустя года пытается найти себе место в жизни.
Никита Демидов
Дубовая рубаха
Вместо вступления
История эта началась с очевидной глупости, и сейчас прокручивая все в голове от начала и до конца, я в очередной раз удивляюсь непредсказуемости того, что происходит с людьми. Человек живет, а значит рассказ о нем обрастает все новыми подробностями, повороты становятся круче, и бытие человека вдруг обращается в ту самую повесть, о которой скажут, что это сплошь выдумки и неправда. Но стоит мириться с этим, и чуточку доверившись рассказчику пожить его жизнью несколько часов, и может быть что-то из этого извлечь.
В тот самый день, когда солнце только – только поднялось из-за горизонта и подобно голодному зверю набросилась на еще пустынные по-утреннему улицы Тирасполя, Мила вылезла из-под одеяла и преобразившись, после увиденного сна, подошла ко мне и я увидел на её лице ту самую улыбку, в которой губы её растягивались всякий раз, когда она собиралась о чем-то меня просить. Предвидя это, я не мог не отдавать себя отчета в том, что своего она добьется, не взирая на все мои возражения и протесты.
– Почему бы тебе не взяться за перо? – мило пролепетала она, чтобы усилить эффект произведенный на меня её улыбкой.
Я ожидал чего угодно, но только не этого. Что за глупость? И ради подобной ерунды она тратила на меня эту самую улыбку, которой пользовалась столь редко.
– Что? Да с чего ты взяла, что я способен писать? У меня ни таланта нет, ни образования. Ведь этому учиться надо, освоить технику, разработать свою. Как я могу?
Мила засмеялась подобно ребенку, отчего мне всякий раз становилось как-то не по себе. Глядя на неё, я невольно задумывался о том, что не способен смеяться так же, и в очередной раз корил себя за бездушие. Увидев моё замешательство она тут же взяла себя в руки и глазами полными нежности впилась в мои, такие, как мне казалось, холодные и мутные.
– Тебе стоило бы попробовать, – проговорила она вкрадчиво – сейчас каждый человек, научившийся в школе без ошибок писать "что" занимается писательством. Нисколько не мучаясь заданными тобой только что вопросами, они на всеобщее обозрение выставляют свои работы. До того порой доходит, что иной деятель со всеми гадкими подробностями на десять страниц расписывает как он уборную посещал. Но это же отвратительно, а тебе есть, о чем рассказать, ты ведь столько интересного повидал.
– Возможно ты и права, но мне не хотелось бы уподобляться этим остальным. Я не уверен в том, что могу, а сора и так много как ты говоришь, зачем же больше?
– Ты наговариваешь на себя – улыбнувшись произнесла она тихо, и я понял, что никак не могу ей отказать.
С этого все и началось. Теперь я каждый день предавался воспоминаниям и вычленяя из них особенно важные для меня моменты, брался за письмо. Выходило как мне казалось плохо. Мысли, кишащие в моей голове и казавшиеся столь огромными при переносе на лист, становились незначительными и мизерными. Смущало меня и то, что я не в достаточной мере их описывал. Всякий раз важные нюансы той или иной истории куда-то исчезали, а вспомнить их я не мог. Но писательство до поры до времени скрашивало мой досуг, и я особенно не роптал на себя, осознавая при этом всю тщетность моих попыток.
Каждый вечер Мила возвращаясь с института принималась читать то, что я написал за день и как не странно, ей мои очерки нравились, иной раз доходило и до восторга, которого я по некоторым причинам понять не мог. Одобрение её смущало меня, и всякий раз как она говорила "это восхитительно" я невольно подозревал её во лжи. Эту похвалу я объяснял прежде всего нашей близостью и раздражался от того, что Мила врет. Но стоило ей вдруг выругать меня за почерк, корявый и неразборчивый, как я тут же выходил из себя. Её это чрезвычайно веселило, а я не мог понять каким образом происходит так, что критика желанна, но тяжела, и почему я не могу принять её одобрения, хоть и нуждаюсь в нем. Я и подумать не мог, что наконец-то нашел то, что мне действительно нравится, и теперь дорожил этой находкой. Мила же сразу это поняла и потому к моим язвительным высказываниям и обвинениям в моменты обиды относилась как к чему-то само собой разумеющемуся.
Но однажды череда разрозненных жизнеописаний, над которыми я без устали работал, выстроилась в определенной последовательности так, что я невольно задумался. Пробежав глазами все листы, исписанные буквами, этими кривыми закорючками, я швырнул все письменные принадлежности в стол и скрутив папиросу вышел на балкон.
Через дорогу, напротив дома в котором я занимал квартиру, стоял, весь залитый солнечным светом и от того едва различимый, Собор Рождества Христова. Звонили к обедне, отчего на душе стало еще тревожнее. Этот звон был неразрывно связан с чем-то траурным и печальным. Когда я был маленьким, то очень часто на летние каникулы уезжал к бабушке в деревню. Деревенские воспоминания эти, а о них я так же писал, всегда были переполнены теплотой и светом, настолько, что меня охватывала тоска когда я сравнивал их с моей нынешней жизнью. Но однажды, в деревне вспыхнула неизвестная эпидемия и очень многие из деревенских, не получив вовремя помощи, отдали Богу душу. Как сейчас, я помнил, что всю неделю после погашения эпидемии звонили колокола, а в дом с улицы проникал запах ели, чьими ветвями были покрыты все дороги в деревне. Не понимая тогда сути происходящего в полной мере, я отчетливо помню, что процессии плачущих людей, одетых в черное, которые я видел каждый день, ввергали меня в ужас.
– О, еще на одного деревянный макинтош нацепили, – невозмутимо произносила моя бабушка, всякий раз как мимо нашего дома проходила процессия с покойником. Её спокойствие передавалось и мне, отчего страх отступал, и жизнь снова становилась такой, какой она должна быть у ребенка, беззаботной и радостной.
Вот и сейчас этот звон болью отозвался в сердце моем, и ощущение сковавшее меня во время просмотра записей обострилось. Моя жизнь напоминает лихорадку, – именно это и пришло мне в голову – во время которой больной большую часть времени пребывает в забытьи, и иногда лишь ввергается болезнью в буйное состояние, довольно кратковременное. И действительно, даже нынешняя жизнь с Милой являлась в некотором роде сном, о котором я бы вряд ли мог что-то сказать, но это было забытье счастливое. А ведь были времена, когда я ходил по улицам подобно сомнамбуле, ничего не понимая и даже быть может не существуя в действительности. Я мучился этим, какой-то неразрешимый вопрос причинял мне страдания. Но сейчас я помню лишь предчувствие сумасшествия переполняющее меня тогда, и более ничего. Причины по которым я терзал себя и подробности всех злоключений через которые прошел рассудок мой забылись, или же и вовсе никак не отложились в памяти.
По пробуждении же я как правило ввязывался в какую-либо авантюру, после которой мне приходилось покидать город в котором она развернулась, или же устав от всего на свете и пребывая в состоянии мало отличном от сна, я с головой погружался в разврат и жил подобно животному. Не отличаясь особой целеустремленностью, я всегда избегал путей, требующих хоть какого-либо усилия, и всегда выбирал дорогу наиболее простую. Я катился вниз по склону горы, называемой людьми жизнью, в самую бездну. Мне было и больно, и страшно, но так было проще, получалось само собой и в конце концов вело к тому, к чему мы все придем.
Раздумывая, я представил себе художника, который каждое утро подходит к своему окну и пишет, захватывая все подробности открывшегося его взору вида. В одно и тоже время, с одним и тем же выражением лица, он брал в руки кисть, устанавливал мольберт и аккуратными движениями наносил на холст мазки краски. Я слежу за его работой, но ничего не могу понять и лишь вижу, как линии вырисовываются в силуэты, и те затем предстают предо мной во всей полноте своей формы и преисполненные жизни. Закончив он ставит готовую картину к стене, рядом с десятком точно таких же пейзажей "из окна" и чуть отойдя, всматривается в ряд одинаковых как, казалось бы, работ. Спустя минуту он улыбается, отпивает вино из стоящей на столе бутылки и закуривает. Я смотрю на него и не могу понять его радости, и оттого пуще прежнего вглядываюсь в холсты. И вот тут я понимаю, что пейзажи и в правду разные. Иной наклон ветвей у деревца, что растет у аллеи напротив; облака над ним, высоко в небе, имеют другую форму, в которой можно рассмотреть что-то для себя приятное; воздух имеет цвет отличный от вчерашнего и даже тени распластавшиеся на дорожках аллеи не такие как вчера или позавчера.
Художник покидает меня и я задумываюсь почему воображение мое создало именно этот образ и чтобы это значило? В иные минуты жизни мысль движется настолько лениво, что ты и вправду способен описать её ход досконально. Я ведь вспоминал о прошлом, заполненном периодами тревожного сна и беспамятства, и быть может тогда, находясь в забытьи я считал, что один день похож на другой, так же как и моя жизнь мало чем отличается от жизни уличной девки, дожидающейся на Думской своего звездного часа.
Вернулась Мила и как всегда улыбаясь подбежала ко мне, обвила шею мою своими руками и поцеловала в щеку.
– Много написал сегодня? – спросила она, будто бы и думать ни о чем другом не могла.
– Нет, совсем не писал, – произнес я, и задетый этим её вопросом о моей писанине нараспев, полным желчи голосом проговорил – не было вдохновения.
– Это ничего. Кстати, тебе письмо пришло, – проговорила она улыбаясь.
Я взял протянутый конверт и разорвав его стал читать письмо. Писала мать и с первых же строк меня будто бы обухом топора по голове ударили. Пора было отправляться в путь.
1
Город, в одном из домов которого я появился на свет, был пожалуй самым непригодным для роста и проживания ребенка. В детстве я часто и серьезно болел, отчего и был отправлен на воспитание в деревню к бабушке, которая проживала там вместе со своей матерью, моей прабабушкой.
Нина Васильевна, моя прабабушка, была женщиной мне непонятной. С первых пор моего появления в её доме, я не мог не понимать, что она меня не то чтобы не любит, но даже быть может ненавидит. Объяснить её этого ко мне отношения я тогда не мог, потому как эта неприязнь была лишена всяких причин. Единственное, что было доступно моему пониманию в те далекие времена, так это то, что меня оторвали от любимой матери и отправили в деревню, к какой-то раздражающейся от одного моего вида старухе, с колючими и холодными глазами. Ведомый этими мыслями и ощущениями я изолировался от всех подруг Нины Васильевны, таких же старушек, как и она сама, и сильно привязался к бабушке, казавшейся на фоне всех этих, как я говорил, "старух" молоденькой девочкой.
Но много ли я понимал тогда? Думая о самом себе я не был способен думать о том, что братья моей бабушки – Виктор, и Юрий буквально на моих глазах, душили в четыре руки Нину Васильевну, которая смирившись, даже и не сопротивлялась. Я ничего не знал ни о болезни, подтачивающей её изнутри; не видел я и того как Юрий Андреевич, бывший из братьев самым жестоким, избивал свою мать. Я ничего не видел, и в этом бы действительно было благо, если бы бабушка отгораживала меня от ужасов, царящих в семье Соболевых, более тщательно. Но она была шокирована этими событиями и иногда возможно забывала о том, что я быть может вижу все эти ссоры и скандалы.
Мне было пять лет, когда прабабушка умерла. Я не помню когда именно это случилось, но выражения лица Нины Васильевны, когда она ночью просыпалась от болей и моя бабушка крутилась вокруг неё, чтобы хоть как-то облегчить её страдания, останется в моей памяти навсегда. Я вижу как сейчас те ночи, когда от протяжных стонов Нины Васильевны я просыпался и робко вставал в дверях её комнаты. Огромная, в своей ночной рубашке и с растрепанными, седыми, доходящими до пояса волосами, она стояла возле кровати и будто бы обезумев смотрела в потолок. В её лице было то выражение скорби, какое обыкновенно бывает в лицах тех, кто теряет своих близких. Казалось, будто не она умирала, а погибал весь белый свет и она приходила в отчаянье наблюдая за его увяданием. Моя бабушка, низенькая и хрупкая, вертелась вокруг этой величественной женщины и тщетно пыталась уложить её в кровать. Быть может она и плакала, но я этого не помню. В тот момент, наблюдая за борьбой моей бабушки с её матерью, и тем сражением, происходящим внутри Нины Васильевны, я словно впадал в забытье, и просто не понимал того, что происходило.
После смерти Нины Васильевны в нашем доме стали появляться какие-то незнакомые мне люди. Многие из них мне совершенно не нравились, и потому даже лица этих людей нисколько не врезались мне в память. Единственное, я отчетливо помню одну женщину, все звали её Катериной, и именно поэтому я испытывал к ней симпатию, ведь такое же имя было у моей мамы. Это была невысокая женщина, с коротко остриженными, каштановыми волосами и носившая на носу большие и круглые очки, чем очень напоминала сову. Всякий раз когда я подходил к ней с каким-нибудь вопросом, она мило улыбалась и отвечала мне, отчего её сходство с моей матерью в моем понимании, лишь усугублялось.
На следующий день после омовения, за которым я подглядывал с печи, на которой должен был спать, меня на время, чтобы я не мешался под ногами у взрослых занятых приготовлениями к похоронам и поминкам, отдали в дом к Шатковым. Антонина Вячеславовна Шаткова приходилась свояченицей Виктору Андреевичу, брату моей бабушки, и потому меж нами существовало какое-то таинственное родство, которое как я понял в последующем состояло из ненависти, спрятанной под показными благопристойностью и уважением.
– Ой, здравствуйте Розалина Андреевна! – восклицала Антонина Вячеславовна всякий раз как встречала мою бабушку – Как поживаете? Как здоровьице?
– Здравствуй-здравствуй, – отвечала с каким-то надменным и непонятным мне достоинством бабушка – очень хорошо поживаем, сами как?
– Бог миловал, все хорошо, – отвечала Шаткова и уходила по своим делам.
– Жидовка, – бормотала под нос моя бабушка и провожала Антонину Вячеславовну и взглядом, и словечками покрепче, но только так, чтобы не слышно было.
Этот временный переезд я воспринял очень хорошо. Во-первых, Маша – дочь Антонины Вячеславовны очень мне нравилась, а во-вторых в атмосфере суеты царящий в доме, я чувствовал себя забытым и одиноким.
Между мной и Машей были такого рода взаимоотношения, что взрослые частенько прочили её мне в невесты, хоть я и был совсем малышом по сравнению с ней, закончившей третий класс школы. А теперь я оказывался в её доме, жил в её комнате и спал вместе с ней в одной постели. По дому я не скучал и был настолько захвачен своим детским счастьем, что и о бабушке даже не думал. Что происходило во все то время, что я жил у Шатковых стерлось из моей памяти навсегда, и даже спустя год после этих событий я не смог бы сказать, чем я там занимался.
Самое странное и пугающее во всем этом состояло в том, что наблюдая за тем как тело моей умершей прабабушки омывали перед похоронами, я не испытывал ни сочувствия, ни даже страха. Будто бы все это было какой-то игрой, распространенной у взрослых, которые живут-живут, а потом умирают. Но при всем при этом, я отчетливо знал, что такое смерть, и понимал насколько она ужасна. Ни ощущения потери, ни чего-то к ней близкого, мною тогда пережито не было, и вспоминая об этом опыте уже спустя годы, мною почему-то приписывалось какое-то ощущение радости, испытываемое маленьким мальчиком, наблюдающим за тем как его прабабушку, собирают в последний путь.
2
Оглядываясь назад я понимаю, что этот деревенский период прошел слишком уж быстро, потому как был заполнен событиями, но такого рода, что внешняя их сторона была излишне богата деталями и подробностями, в то время как внутренняя фактически пуста. Все те игры, которые я вел с другими ребятами, учение в школе и труд, будь то рубка дров или запасание воды в баню, были лишены какого-то смыслового содержания, и скорее всего происходили по наитию, сами собой. Но положение дел кардинальным образом менялось, когда я оказывался один.
Обыкновенно мои одинокие прогулки совершались зимой. Я вставал на лыжи и отъезжал далеко-далеко от дома, в безлюдные места ближе к лесу и катался так, поглощенный собственными мыслями. Катясь по широкому лугу, всему покрытому снегом и окруженному с двух сторон лесом, я как будто бы отстранялся от всего на свете и связывался с чем-то потусторонним, с миром заключенным во мне самом. То были часы грез, когда я видел себя римским полководцем, отправившимся на разведку, с целью выведать в каком именно лесу притаились дикие галлы. Всякий раз оказываясь наедине с самим собой я представлял именно это. Никаких других фантазий у меня будто бы и не было, лишь это видение сечи, где люди в сверкающих доспехах режут друг друга на части, заливая и землю и небо багровой кровью.
Осенью, когда все кругом начинало желтеть и лес шедший вокруг деревни напоминал золотую с медным отливом стену, я покончив с занятиями шел на опушку за школой и оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что никто меня не видит, заходил в самую чащу.
Я мог часами ходить по лесу, ни о чем не думая и даже не отдавая себя отчета в том, для чего я все это делаю.
Но потом в мою беззаботную жизнь вторгся чужак и я как не странно был совершенно к этому не готов. Этого неизвестного я ждал, и более того имел в голове некоторое представление о том, как он выглядит, с каким выражением смотрит в мои глаза. Я даже знал какой у него должен быть голос, и представлял, что буду чувствовать когда возьму этого чужака за руку.
Наступило лето, отчего беззаботность моя всё росла в размерах и достигла такого масштаба, что я ни о чем другом кроме как о развлечениях думать не мог. Большую часть времени я проводил на лугу за школой, где мы с ребятами устроили поле для игры в футбол. По несколько часов к ряду мы носились под палящими солнечными лучами, изнывая от зноя и обливаясь потом, но такие счастливые и веселые, что и не замечали всего этого. Когда же становилось совсем невмоготу, мы садились на велосипеды и всей ватагой ехали на речку.
Другие электронные книги автора Никита Демидов
Крысолов




 0
0