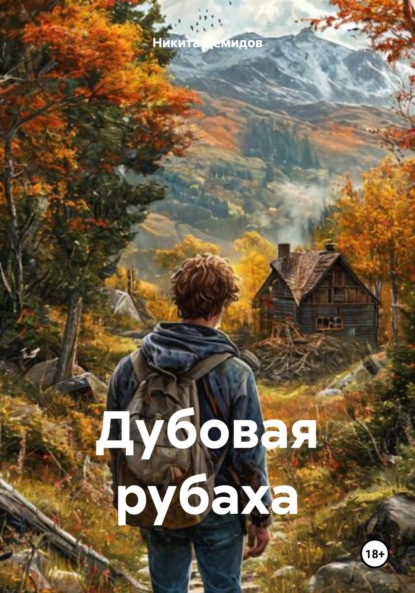По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дубовая рубаха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ничего не говоря, и перебивая этим мертвенным молчанием смех юных девиц, разгуливающих по притону чуть ли не в неглиже, мы словно два дуэлянта неотрывно смотрел друг другу в глаза. Во взгляде судьи, как того и требовали обязательства которые сильный берет на себя по отношению к слабому, не было ничего кроме нежности и тоски по моей летящей под откос жизни. И он считает, что способен проникнуть в мой разум? – восклицал я и все внутри меня вспыхивало. Далее это немое противостояние напоминало пытку, во время которой никто не смел проронить и звука. Связав мне за спиной руки, судья сохраняя страдальческое выражение, вздергивал меня на дыбе и отходя в сторону, с состраданием наблюдал за тем, как гири пристегнутые цепями к моим ногам, с хрустом растягивают суставы. Пронзившая тело боль, всеми силами, всеми своими рассекающими плоть кнутами приказывала мне притихнуть, замолчать и не дергаться, но чувство противоборства, послужившее причиной всех этих мук, соблазняло на движения, на рывки, призывало меня сопротивляться. И чем отчаяннее я противился справедливым уверениям своей совести, тем становилось больнее. Я с поразительной четкостью осознавал свою вину перед Катериной Викторовной, но не желая верить во все это, лгал и обвинял самого же себя в клевете. Будто бы став самому себе и судьей, и адвокатом, я подвергал рассудок двойной пытке из которой единственным выходом было забытье.
Напиваясь до беспамятства я отпускал от себя мир и не видя более предметов, которые могли бы вызвать в мозгу моем реакции, бродил по квартире подобно сомнамбуле, совершая, сам того не понимая, вещи ужасные и омерзительные.
Утром я просыпался в постели с неизвестным мне человеком и ужасаясь этому, сгорая от стыда, одевался и убегал из притона на несколько часов. Ползая по лабиринтам темных улиц и потягивая папиросу, к курению которых пристрастился, я силился вспомнить события минувшей ночи. Но в голове была сплошная каша. Вчерашний день представлялся ведром белой краски, в которую вливали, так я обозначил самого себя, черную гуашь. Затем чья-то незримая рука перемешивала имеющиеся составы, получая серую субстанцию. Она то и являлась воспоминанием о вчерашнем дне, и она, это я знал, станет тем, что ожидает меня впереди.
Но успокаивая самого себя и убеждаясь во мнении, что нет ничего зазорного в том, чтобы быть героем-любовником из какой-нибудь французской пьески времен Реставрации, я возвращался обратно и если везло, даже знакомился с той, с кем провел ночь. Но такие знакомства были делом весьма сложным, потому как никто ничего не помнил и приходилось по крупицам собирать сведения у разных лиц. Эти поиски были самой настоящей головоломкой и иногда твердо убеждаясь в том, что вот она, твоя любимая, ты, узнав новую подробность приходил к обратному и начинал все сначала. Бывало и так, что я, или какой-нибудь мой собутыльник, в процессе выяснения истины кочевал от одной барышни к другой, и под конец дня в теории был любовником каждой из них, но в итоге же оказывалось, что он напившись до чертиков, рухнул в уборной да там и проспал до самого утра. Как же мы смеялись когда подобное всплывало на поверхность, а затем, в прекрасном расположении духа принимались за вино, чтобы наутро снова начать эту игру в угадывания.
Но ни одним лишь безудержным весельем сопровождалось это падение, от одной пьяной ночи к другой, все более уверенно осуществляющиеся. Иногда с нами происходили вещи во многом ужасные и сулящие нам наказание, и не со стороны Бога, в которого никто из нас не верил, угрозу представляли гражданские законы, презираемые каждым моим компаньоном и мной самим.
Была самая обыкновенная зимняя ночь, ничем не отличающаяся от остальных и собравшая уже привычную компанию искателей чувственных удовольствий. Все женское общество собралось в комнате, занимаемой Алисой Сергеевной, разведенной особой двадцати семи лет. То была сухая женщина, с крысиной мордой, вместо лица и обладающая ко всем прочим своим достоинствам голосом, впивающимся гвоздями в ваши барабанные перепонки, всякий раз как она начинала говорить. Если верить присказке, то талантливый человек талантлив во всем. Так же дела обстояла и с Алисой Сергеевной, она во всем была гадиной.
Глядя на неё я задавался множеством вопросов, но главным пожалуй был один – Как эта женщина оплачивает аренду комнаты? Алиса Сергеевна нигде не работала и большую часть дня проводила в своей комнате, практически из неё не выходя. Вечером же, когда все остальные комнаты наполнялись людьми, она вылезала из своей норы и принимала участие в наших пирушках.
Крыса, как мы прозвали её по уже указанным мной причинам, охотно пила вино, хотя на моей памяти не было и дня, чтобы она не была беременна, и с любезностью принимала сальные комплименты, без всякой замысловатости указывающие на койку, от мальчиков бывших лет на десять её младше. Ситуация никоим образом не менялась даже в присутствии её сожителя, мужчины лет тридцати пяти, вечно пьяного и являющегося к ней с одной лишь целью, суть которой раскрывается через количество её беременностей, неизбежно заканчивающихся хирургическим вмешательством и убийством ребенка. Более того, этот самый сожитель весьма часто приглашал как юношей так и девушек принять участие в их игрищах, но я хотел бы верить, что его усилия были напрасны.
Крыса, окруженная девочками, которым она в матери годилась, фривольно рассуждала о вопросах взаимоотношения полов, приправляя теории к которым она пришла за свою жизнь, самыми отвратительными и грязными подробностями. Юные слушательницы, уже познавшие сладость греха, с упоением внимали откровениям этой профурсетки и впитывали в себя изрекаемые ей премудрости.
Раздался стук в дверь, и я проходивший мимо прихожей на кухню, беспечно отворил засов. Мимо меня, у самых как казалось ног, проскочило что-то напоминающее большую собаку. Развернувшись, чтобы убедится в том, что это действительно был пёс, я ничего не увидел и решил, что мне почудился и стук в дверь и то существо промелькнувшее рядом. Пройдя на кухню, я в двух словах рассказал сидевшему там Фон Боку – одному из моих компаньонов, о пригрезившейся мне собаке. Мы посмеялись и откупорили еще одну бутылку, как вдруг из комнаты, где обитала Крыса послышались крики и визг.
Фон Бок, по легенде им же выдуманной, состоял в родственных отношениях с давно почившим генерал-фельдмаршалам третьего рейха, и оттого носивший столь специфическое прозвище, от страха скривил такую мину, что я невольно захохотал. Это был невысокий юноша, смуглый как цыган и имевший привычку сопровождать свои слова богатой и немного нервной жестикуляцией. Быстро балаболя всякий раз как у него возникала надобность высказаться, Фон Бок размахивал руками, весь трясся и производил впечатление припадочного.
Вот и сейчас, испугавшись воя, доносящегося из дальней комнаты, он вот-вот был готов закудахтать и впасть в истерику, но мне как-то удалось его успокоить.
– Пойду посмотрю что там твориться, – произнес я, и заговорщицки улыбнувшись, вышел с кухни.
У Крысы царил настоящий хаос. В центре комнаты то самое существо которое я принял за собаку, держа за волосы одну из девочек, корчащуюся на полу и визжащую от боли, избивало её ногами. Пристально вглядевшись в собаку, я рассмотрел в ней низенькую женщину облаченную в шубу. Судя по всему, она была матерью этой девочки. Мои компаньоны встали вокруг дерущихся и по лицам, перекошенным от недоумения я понял, что никто из них и представления не имеет о том, что же делать дальше.
– Я сейчас полицию вызову и всех вас засадят! – с остервенением кричала женщина.
– Мама! Мама! – заплетающимся от вина языком визжала девочка.
Вспомнив о Фон Боке, я убежал на кухню.
– Фон Бок, там нашу девочку её мать по полу за волосы таскает и полицией грозит, надо бы её выставить за дверь, – проговорил я по возможности спокойно.
– Что ты от меня то хочешь, а?! Я тут причем? Как я могу? – пробормотал он, не спуская с меня недоуменного взгляда.
– Ты на себя посмотри, – произнес я и улыбнулся. Дело в том, что Фон Бок, будучи человеком весьма эксцентричным, имел так же и труднообъяснимую для меня страсть к коллекционированию военной формы. Сейчас же он сидел передо мной за столом в офицерском кителе, и если особенно не приглядываться к его фигуре, то можно было бы принять моего собутыльника за полицейского. Поделившись с Фон Боком своими наблюдениями и указав, что нужно всего лишь прикинуться полицейским и выставить мать с дочерью за дверь, я напутствиями заставил его подняться и пройти в комнату к Крысе.
– Что здесь происходит?! – влетая в комнату, прогремел Фон Бок и обращаясь к матери юной профурсетки проговорил – Вы что себе позволяете, гражданка?
– Они, эти изверги, захомутали мою дочь и предаются тут разврату! – воскликнула женщина, но более для картинности, потому как присутствие человека в форме успокоило её.
– Мы с этим разберемся. Этот притон уже давно у нас под наблюдением, но теперь то уж мы эту лавочку прикроем, – причитал Фон Бок, выводя из комнаты присмиревшую мать и её дочь, заливающуюся слезами, но еле сдерживающуюся от хохота. Наблюдая за тем как её вчерашний любовник, прикинувшись полицейским дурачит её мать, девочка прикладывала массу усилий, чтобы не разоблачить всю нашу компанию.
– Я узнаю в департаменте ваш адрес и как только эти негодяи окажутся на скамье подсудимых, я непременно вызову вас в качестве свидетеля по этому делу, – разглагольствовал внучонок генерала-фельдмаршала, улыбаясь во все лицо и подмигивая нам так, чтобы будущий свидетель ничего не увидела.
– Спасибо вам, офицер, – промурлыкала побитая профурсетка и прыснула со смеху.
– Я тебе похихикаю, курва, – грозно буркнула мать и замахнулась для удара.
– Да полно вам, – добродушно проговорил Фон Бок и подмигнул своей любимой – Дети – цветы жизни, их необходимо беречь.
– Как же вы правы офицер, как же вы правы, – растерянно проговорила мать – но за ними глаз да глаз.
– И не говорите, такие иной раз шалуны встречаются, что всю голову себе изломаешь с ними.
Угроза была отвращена и Фон Бок закрыв за женщинами дверь, дал антраша и направился к нам, собравшимся в коридоре и еще не верящим в правдивость свершившегося.
– Ну ты и мастак! – воскликнул я – Говорил же тебе, что это сработает!
– Да я и не сомневался даже, – самодовольно проговорил Фон Бок – зря я что ли в театральный кружок ходил по-твоему?
– Так выпьем же за это!
– Ура!
8
Как глаза обращенные к солнцу имеют предел выносливости, так и человек вынужден брать отдых от кутежа, до тошноты вращающего его в своем безумном танце. В нашем притоне период затишья обыкновенно наступал после трех дней безудержного веселья, не прекращающегося ни ночью ни днем, не знающего ни сна, ни пощады. Словно потерпевшие кораблекрушение, мы отдавали жизнь свою на волю волнам свирепого моря, подбрасывающих нас то к самым небесам, то ввергающим наши хрупкие тела в самую бездну. И кто бы мог с уверенностью ответить, что нам сулит такое опасное путешествие? Ведь известно же, что когда человек накидывает седло на щетинистую спину стихии, может случиться все что угодно.
То ли так было предначертано Богом, то ли нам просто везло, но шторм постепенно затихал и слабо покачивающиеся волны выносили нас, обессиленных и ничего не понимающих, на берег, где каждый мог отдохнуть и по возможности прийти в себя. Притон на время пустел и во всех комнатах воцарялась атмосфера сонная, вязкая и отвратительно липкая от винных испарений, пропитавших обои, а с ними заодно и стены. Впрочем и само убранство квартиры в которой проводились упомянутые мной вакханалии, даже если не брать в расчет хаоса в ней царящего, производила в человеке впечатление схожее с тем, какое можно испытать глядя на огромную, жирную личинку жука-геркулеса. Все здесь было каким-то замызганным и гадким, к стенам было страшно прикоснуться, а пол который подметали и мыли не более раза в месяц, большую часть времени представлял собой нечто непроходимое из-за разбросанных повсюду пустых бутылок из под вина. Кухня, на которой готовилась пища самая скудная, являвшаяся своеобразным попурри из продуктов дешевых и даже вредных, была вся в грязи, постоянно двигающейся и стремящейся вырваться в окно, стекла которого были безнадежно желтого цвета, от жира на них осевшего. Мебели практически нигде не было, лишь в одной из комнат стояли две койки, да небольшая тумбочка, в которой владелец квартиры хранил свои скудные пожитки. Выходя из этого помещения, гордо именуемого спальней вы оказывались в коридоре, всегда темном из соображений экономии и ведущим в некоторое подобие залы, абсолютно пустой, с ободранными на стенах обоями и полом заваленным всяким тряпьем, служившим постелью для притомившихся гуляк.
Но таковым притон бывал лишь в периоды затишья, когда здесь не было горланящих и смеющихся людей которые хоть как-то сглаживали его убогость своим присутствием. Оказываясь же здесь в полном одиночестве, вы словно оставались наедине с огромным чудовищем, стремящимся поглотить все живое на своем пути. Требовалось не мало воображения, или в крайнем случае равнодушия, чтобы не утонуть мыслями в этом болоте, не впитать его в себя, не стать им. Люди по воле случая оказавшиеся участниками наших празднеств и впервые попавшие в стены этого "храма" старались как можно скорее покинуть его, и на следующее утро обыкновенно исчезали, даже не назвав нам своего имени. Исключением пожалуй была одна лишь особа, которая хоть и жила вместе с нами неделями, но так и осталась неизвестной. То была юная девушка, с черными как смоль волосами, ниспадающими до поясницы, всегда распущенными и чуть взъерошенными, что придавало ей сходство с ведьмой. Впрочем вся она была такая же как волосы, одно сплошное черное пятнышко, неизвестно по какой причине появившееся рядом с вами. На все вопросы она отвечала лишь смущенной улыбкой и недоумевающим взглядом ночного неба, сосредоточенного в двух небольших окружностях зрачков. На моей памяти она, её имени так никто и не узнал, заговаривала лишь единожды и этот голос, глухой и хриплый, более похожий на свист с коим воздух покидает простреленное легкое, поразил всех присутствующих. С тех самых пор я, и до того подозревавший, что её молчание является следствием душевного заболевания, более не сомневался в безумии этой девушки.
Второй отличительной чертой этой странной особы была какая-то чудовищная невосприимчивость к спиртному, что еще более настораживало не только меня, но и остальных.
– Представляешь, – заговорил об этом мой приятель, не стеснявшийся показаться малодушным – пошел я ночью в уборную, а она сидит одна на кухне и вино пьет. Я от удивления остановился в дверях и на неё смотрю, глаз оторвать не могу. Эта же ведьма, улыбнулась, а сама ни в одном глазу. Мне даже страшно стало, часа два уснуть не мог.
– А что это ты так струсил? – спросил я, прикидываясь беспечным.
– Как что? Она весь день наравне с нами пила и хоть бы хны, сидит себе и дальше винцо попивает, трезва как стеклышко. А кто знает, что на уме у этой молчуньи, возьмет да и перережет тебе горло. Странная она, очень странная.
– Вот лучше бы ты молчал, – усмехнувшись бросил я, пытаясь тем самым скрыть собственный испуг – она наверняка глупа как полено, но и у неё ума хватило не болтать, чтобы дурой последней перед нами не предстать. Ты бы брал пример, а то утомил уже всех своими глупостями.
Таким образом в притоне, как и во всяком богомерзком месте, появился свой демон с самым заурядным и далеко не приятным человеческим лицом. Когда опасения моего товарища стали достоянием нашей небольшой, вечно пьяной общественности, о молчунье сразу же стали ходить слухи, абсолютно на мой взгляд не соответствующие действительности, но в истинности которых на тот момент никто не сомневался. Версий о происхождении нашей странной знакомой было великое множество, но все они объединились в одно под эгидой нашей убежденности в том, что она имела самое непосредственное отношение к миру потустороннему. Все мы в один голос твердили, что молчунья – исчадие ада, что она, покидая притон прямым ходом идет на кладбище, где и отсыпается в своем гробу. Но парадокс состоял даже не в занимавшей наши умы чепухе, а в том, что мы свято в неё верили. Пожалуй единственным человеком, не видевшим в молчунье ничего таинственного и пугающего, был владелец квартиры, Андрей, в силу своего возраста часто обращающийся для нас, его постояльцев, в Андрея Павловича.
– И как вам только не стыдно, – всякий раз говаривал он, как мы начинали делиться своими предположениями – взрослые люди, а ерунду городите, почище младенцев . Если бы вы только знали, какая это благодать когда женщина постоянно молчит. Вот поживете с моё, и сами в том убедитесь.
Как правило, после этого порицания мы вынуждены были выслушать рассказ про Ольгу, женщину, с которой Андрей прожил много лет в этом самом притоне, где когда-то, в те чудесные времена, все было совсем иначе. Не жалея красок он расписывал нам, и так уже все знавшим, обои, цвета слоновой кости, пол сияющий чистотой и с тонким, изысканным вкусом подобранную мебель. Здесь висели роскошные алые шторы из чистого шелка, а тут – неугомонно тарахтел он – тут стоял такой шкаф красного дерева, что мои попытки описать его словами, не более чем плевок в лицо искусству, в лицо самой красоты!
Но как бы трактирщик, так мы за глаза называли Андрея, не изощрялся в ораторском искусстве, его толком никто не слушал, потому как байку эту все знали наизусть. Закончив описывать все минувшее великолепие своего жилища, рассказчик плавно переходил к тому моменту когда Ольга сбежала с любовников, обобрав его самого до нитки. Обманутый и покинутый, Андрей стал опускаться и кратко рассказав нам о своем падении, настаивал на том, чтобы из всего вышесказанного мы убедились насколько же прекрасны женщины, которые всегда молчат. Логики в том было не больше чем в предположении о демонической сущности молчуньи, и потому мысли наши еще больше путались, запинались на ходу и падая летели черт знает куда.
Стоит ли говорить о том, что проживание в притоне не самым лучшим образом сказывалось на нашем рассудке? Из вышесказанного понятно, что весьма часто в наших рядах поселялся страх, большей частью неоправданный, но имеющий свои основания. Чтобы более точно обрисовать ситуацию, необходимо заметить, что главной целью всех постояльцев было всеми силами избежать похмелья. Именно оно и служило основным поводом для расстройств, и не столько физических, сколько умственных, и вот почему. Если в самый разгар веселья до слуха нашего доносился дверной звонок, то мы не задумываясь отворяли дверь на распашку и даже не глядя на звонившего впускали его внутрь. Таким образом, практически всегда, рядом с нами находились люди неизвестные, и быть может даже опасные, но об этом никто и думать не хотел. Совсем иначе обстояли дела, когда после очередного гулянья под рукой не оказывалось бутылки с вином. Каждого незнакомца, лежащего на полу и спящего мертвым сном, мы обыскивали, боясь как бы при нем не было ножа или удостоверения полицейского. Не находя ничего похожего, мы тем не менее не успокаивались, и продолжая видеть в неизвестном самое настоящее чудовище, начинали шуметь, дабы поскорее разбудить этого подозрительного человека и общими силами выставить его за дверь. Страх, доведенный нервозностью столь характерной для пьянчуг, до самой настоящей паранойи распространялся абсолютно на все предметы и явления имевшиеся в мире, да и на сам этот мир в целом.
Глядя на вещи через эту отвратительную призму, я совсем скоро стал самым настоящим паразитом. Практически не выходя на улицу, не посещая занятий и даже не думая устраиваться на службу, чтобы хоть как-то оплачивать свои попойки, я пудрил мозги впечатлительным девушкам и тянул из них все соки. Пленяя их своими разглагольствованиями о том, насколько убого все вокруг и даже давая всем своим обвинениям какие-то причудливые и велеречивые объяснения, я и не задумывался о том, насколько отвратительные мои собственные поступки. Все справедливо, я красив и умен, – оправдывал я себя – и если они позволяют так с ними обходится, то в том моей вины нет. Впрочем, наивность с которой я совершал те неблаговидные поступки и позже анализировал их, вряд ли бы могла пагубно сказаться хоть на ком-нибудь, кроме меня самого, и то только в той мере, в какой преодоление любой жизненной ступени вредит любому человеку. Я лишь водил себя за нос, что весьма распространено среди людей, зачастую лгущих и себе и другим, до самого последнего дня своей жизни.
9
Другие электронные книги автора Никита Демидов
Крысолов




 0
0