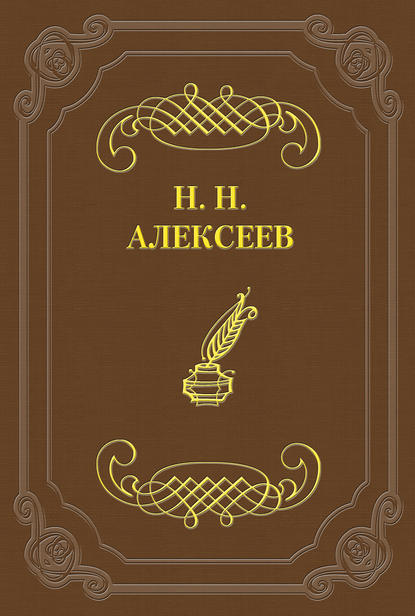По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лжецаревич
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я съезжу узнать к Парамону Парамоновичу.
– Что ж, съезди.
Константин живо собрался. По дороге к дому Чванного он, размышляя, пришел к заключению, что отцовское предположение, пожалуй, справедливо. Недаром на последних свиданиях Пелагеюшка выглядела грустной, а глаза у ней были наплаканы. Он допытывался, она не говорила – тревожить не хотела. Что-то есть!
Под влиянием таких дум Константин сидел на седле, как на горячих угольях.
Чванный встретил его довольно сухо.
– Что скажешь? Да живей – я во дворец сбираюсь; царь сегодня на травлю едет, и я с ним.
– Правда ль, что ты отдумал дочку за меня выдавать? – выпалил молодой боярин.
– Есть грех!
– Да как же это ты так? Сговорил, и на! На попятный.
– Я не враг своей дочке, и что за мед выдавать ее за такого, которому ходу не будет? Вы, Двудесятины, в опале у царя, и сами виноваты – чего не ехали на поклон к нему? Спесивы некстати.
– Уж ладно, ладно, не толкуй! Хорош гусь – слова не держишь! – грубо заговорил раздраженный Константин и на минуту задумался. Вдруг он хлопнул себя по лбу и просиял.
– Ах, я дурачина! И забыл совсем! – пробормотал он.
Чванный что-то ворчал, но Константин его перебил.
– А вот я и в немилости, а пойду царю на тебя жаловаться – велит он тебе за меня дочь отдать!
– Сделай милость! Иди. Не хочешь ли, подвезу? – насмешливо заметил Чванный.
– Рад буду.
– А и в самом деле! Хоть посмеемся вдоволь. Ну, однако, мне пора.
– И мне тоже. Так добром не хочешь?
– Нет, уж поезжай к царю, пожалуйста! – хихикая, говорил Парамон Парамонович.
– Поеду, будь спокоен!
Когда Константин Лазаревич добрался до дворца, у крыльца стояло немало народу. Он протиснулся вперед и стал ждать выхода.
Скоро потянулись разные дворовые чины, между ними шел и Чванный, потом появился царь. Все пало ниц, земно кланяясь. Поклонился, как требовалось, и Двудесятин, но поторопился подняться и остановил Лжецаря возгласом:
– Смилуйся!
Чванный, видя Двудесятина исполняющим свое намеренье, не знал, смеяться ему или робеть. Лжецарь обернулся:
– Что тебе?
– Ты мне милостей сулил когда-то, царь-государь.
– Я? Тебе? Постой, что-то лицо твое мне, в самом деле, знакомо. Где я тебя видел?
– А под Новгородом-Северским… Я тогда лестницу приставил и первый…
– Ах, помню, помню! Точно сулил милостей, и за дело – молодец ты! Ну, чего же ты хочешь? Да встань с колен!
Константин поднялся.
– Есть, царь-государь, у тебя боярин, Парамоном Парамонычем звать его, прозвище Чванный.
– Знаю, кажется, есть… Ну?
– Вон он стоит… Сосватал я у него за себя дочку, и все было слажено, а теперь он на попятный – вы, говорит, не в милости у царя Димитрия Иваныча, за опального что за мед дочь выдавать. Прикажи выдать, царь-батюшка!
– Ха-ха-ха! Вот просьба! Что ж, любишь, знать, больно свою невесту?
– Страсть как!
– Ну, мы это устроим. Поди-ка сюда, – поманил он пальцем Чванного.
Тот подошел с низкими поклонами.
– Через неделю чтоб твоя дочка была повенчана с ним вот. Да не думай, что Двудесятины в опале – один этот побольше стоит, чем пяток таких, как ты, которые тем только и ведомы стали, что легко от царя Феодора отпали. Могу ли я на таких надеяться? А на него положился бы без опаски…
И Лжецарь отошел. Чванный стоял некоторое время с раскрытым от изумления ртом. Немало были изумлены и другие бояре – такая долгая беседа царя с лицом не чиновным да еще на улице казалась им как будто несколько даже непристойной, унизительной для царского величия.
Через неделю отпраздновали свадьбу.
– Ну, Пелагеюшка, – говорил Константин, обнимая после венца молодую жену, – с боя я тебя взял.
XXXII. Неожиданный приезд
Мы опять в Литве, в поместье Влашемских. Пани Юзефа сидит за работой. Лицо ее по обыкновению, строго и холодно.
Пан Самуил медленно бродит по комнате.
Вошел отец Пий. На лице его непривычное волнение.
– Дочь моя и сын мой! Я должен сообщить вам очень неприятное известие…
Пани Юзефа вопросительно смотрит на него. Лицо пана Самуила принимает испуганное выражение.
– Ваша дочь Анджелика… Вы знаете, она находилась тут неподалеку в монастыре, у благочестивых сестер…
– Я ничего не знал! Я бы уже давно съездил к ней… – вскричал пан Самуил.
Пани Юзефа сделала нетерпеливый жест.
Другие электронные книги автора Николай Николаевич Алексеев
Розы и тернии




 4.5
4.5
Игра судьбы




 4.6
4.6