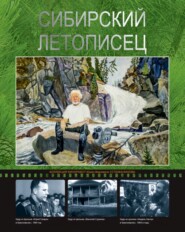По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Спасибо одиночеству (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Москва, куда приехал он, шумела и гудела, как шумит-гудит большое дерево, стоящее на семи ветрах. Золотыми листьями на ветках там и тут сверкали купола новых церквей и минаретов. Чёрными дырами-дуплами на этом древнем дереве обозначены входы в метро. Железобетонными гнездами, дерзновенно свитыми где-то под облаками, торчали новые высотные дома, где обретались птицы всех мастей – со всех волостей. Трудолюбивые дятлы при помощи отбойных молотков день и ночь долбили столичные дороги. Соловей – то курский, то сибирский, то дальневосточный – рассыпное серебро и золото сорил по театрам, по ресторанам и даже под открытым небом на площадях и улицах. Грачи постоянно встречались – носатые, гортанные жители кавказских гор. Попадались молодые милые кукушки, так ловко умеющие подкладывать в чужие гнёзда своих птенцов; причём кукушек этих – родителей, отказывающихся от детей – с каждым годом становилось всё больше и больше, только их нельзя было заметить: современная кукушка – при помощи косметики и нарядных тряпок – сказочно преображалась, на жар-птицу становилась похожа.
Глава 5
В Москве в первую голову он озадачился по поводу жилья.
Куда податься? Где тут перекантоваться? Была надежда на общежитие ВГИКа – института кинематографии, в котором Полынцев года полтора назад учился на сценариста, но бросил, когда началась заваруха, в результате которой Советский Союз обрушился в тартарары.
Даже издали было заметно, какие разительные перемены произошли с тем здоровенным зданием, где находилась общага. На первом этаже расположился офис какого-то «Спортмастера», на кирпичной стене которого мелом нацарапано: «Сила есть – ума не надо!» Второй этаж отдали под свадебный сервис – об этом говорили, а точнее, позванивали серебрецом колокольчиков длиннорылые свадебные лимузины, припаркованные внизу.
И в самом общежитии произошли перемены в духе времени – циничного и жёсткого. Так, например, Полынцев прочитал объявление, похожее на грозящий кулак коменданта: «В общежитии ВГИКа запрещено заводить детей и домашних животных. Кто обзаведётся, тот вынужден будет немедленно съехать».
Воспользовавшись былыми связями, немного подзабытыми и порушенными, Полынцев – с большим трудом – всё-таки 299 исхлопотал скромную келью, завалил её черновиками сценариев и вдохновенно взялся кропать что-то великое, что-то бессмертное, что должно было сделать его победителем в искусстве и в жизни. «Надо пахать и пахать!» – каждодневно говорил он себе, вспоминая хорошие слова о том, что гений – это 2 % процента одарённости и 98 % пахоты. Только так и можно выйти в победители. А победителей не судят, как известно. Но при всём при этом самоотверженный пахарь не брал во внимание одно – весьма существенное – обстоятельство. Искусство и жизнь в те окаянные дни до чрезвычайности переменились; так переменились, будто кто-то спьяну или сдуру «плюс» поменял на «минус». И теперь повсюду на киностудиях, в редакциях, куда он упрямо совался, господа режиссёры и господа редакторы требовали только лишь один огромный «минус», заключавшийся в том, чтобы страницы любых произведений громыхали площадною бранью, полыхали пожарами, клокотали кровью, гноем истекали.
Затурканный проблемами творчества – залитературканный, как сам он любил говорить, – Полынцев какое-то время ломился в открытые двери, свою правду-матку доказывал.
– Если вы долго всматриваетесь в бездну – бездна начинает всматриваться в вас! – говорил он, цитируя Ницше. – Как вы не поймёте, господа хорошие? Если зритель смотрит на всё это кошмарное искусство – он рано или поздно все эти кошмары найдёт в своей душе и в своём доме.
– Старичок! – Его панибратски похлопывали по плечу. – Ты едешь на телеге. Отстал от жизни.
Он стряхивал руку с плеча.
– Это гребля с пляской, а не жизнь!
– За что боролись…
– Лично я за это не боролся.
– О, да, конечно. Ты предпочитаешь быть над схваткой. Так ведь?
– Да не совсем.
– Ну, так в чём же дело, старичок? Давай, подключайся процессу. У тебя и слог приличный, и фантазия бурлит.
– К процессу развала страны подключаться?
– Во! Ты опять за своё?
– Я – за своё. А вы так – за чужое. – Ты на что намекаешь?
– Да ладно, замнём.
– А тебе не кажется, что мы многие вопросы слишком долго заминали, затирали, задвигали в дальний угол? И не потому ли опухоль назрела и прорвалась? Мы делали вид, будто в нашей стране всё нормально, организм здоровый, а опухоль росла, распространяла метастазы. А мы всё: «да ладно, замнём, может быть, как-нибудь рассосётся…»
Что правда, то правда. Крыть было нечем, только разве что матом, который, увы, становился всё более и более нормативной лексикой; книги в ту пору, как заборы в стране, отличались заборной руганью.
– Это жизнь! А как ты хочешь? – говорили ему по поводу забористого слога. – Если тебе на голову упадёт кирпич, ты ведь не скажешь: «Я помню чудное мгновенье…» Ты скорее вспомнишь нечто другое: «в бабушку и в бога душу мать!» Разве не так? Только честно.
Разговоры такие происходили и в редакциях журналов, и на киностудиях, и в Доме актёра, куда он частенько захаживал, где выпивал, шатаясь между столиками и всё ещё надеясь – хотя уже и слабо – найти единомышленника, человека, способного помочь ему стать победителем в искусстве и в жизни.
Глава 6
Единомышленник, в конце концов, нашёлся, хотя и не совсем такой, который нужен. Таким единомышленником оказался энергичный, бодрый человек из Заполярья – молодой, но умудрённый опытом жизни, книгами.
– Позвольте пригласить вас к нам за столик? – деликатно спросил северянин.
– Позволяю! – Полынцев усмехнулся. – Так и быть…
Пришли за столик, сели у окна, за которым открывался городской пейзаж – первым снежком присыпанные тополя, граниты набережной.
– Что будете пить? – озаботился единомышленник.
– А всё, что горит.
Лицо северянина озарила золотая улыбка.
– Так, может быть, стаканчик керосину?
– С удовольствием! – Полынцев закинул ногу на ногу и поправил ворот застиранной рубахи. – А чем я, собственно, обязан?
– Видите ли… – Северянин замялся. – Фёдор… Как вас? Поликарпыч? Поликарлович? Интересное отчество. Я тут краем уха слышал вас, Фёдор Поликарлович, и мне, честно сказать, очень близка ваша позиция.
– О! Это уже интересно. – Полынцев прищурился, разглядывая собеседника. – А вы, простите, кто? Какая киностудия?
– Я из Норильска.
– Что-то не слышал про такую киностудию.
– Нет, я к искусству не имею отношения. – Северянин глазами окинул задымленное помещение Дома актёра. – Друг меня сюда привёл. Познакомить, так сказать, с бомондом.
– Ну, и как вам этот бомонд?
– Впечатляет, – сдержанно ответил северянин. – А где ваш друг?
– Да он… – Собеседник смущённо посмотрел в дальний угол. – Отдыхает где-то за кулисами.
– Ну, хорошо. Вернёмся к нашим бананам, – скаламбурил Полынцев, глядя на тарелку с фруктами. – Вам близка моя позиция. И – что?
– Есть предложение, Поликарлович. Вы как насчёт того, чтобы поработать на вечной мерзлоте? – В качестве мамонта?
Северянин опять озарился золотою улыбкой.
– В качестве редактора газеты.
– Интересный сюжет. – Полынцев почесал давно не стриженый загривок. – Но я ведь, извините, сценарист. Газетой никогда не занимался.
– Не боги горшки обжигают.
– Ну, да, тем более на вечной мерзлоте. – Так что вы скажете?