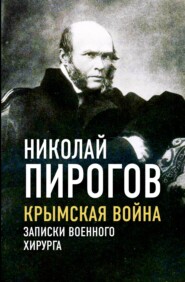По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Академик Пирогов. Избранные сочинения
Автор
Жанр
Год написания книги
2015
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
То же самое находим и в понятии о времени: фактически мы судим о нем только по движению в пространстве; но сверх этого фактического определения времени мы сознаем еще, что и без движения, то есть без средства к измерению времени в пространстве, существует наше «я» в настоящем, подобно тому, как оно существовало в прошедшем, и что это же самое настоящее и прошедшее существуют не для нашего одного «я», а должны существовать и без него.
Понятие о мере пространства и времени, невольно сопровождающее мысль о самом пространстве и самом времени, нам служит не к уяснению нашего понятия, а к убеждению нас в том, что измеряемое в пространстве и времени не есть еще самое пространство и самое время.
Понятие о жизни также не есть одно обобщение.
Оно относится, по-моему, к той же категории, как и понятие о пространстве и времени.
Первый толчок к образованию в нашем уме понятий об этих трех (отвлечениях) иксах дает нам ощущение нашего бытия. Это ощущение, конечно, факт, но какой? Можно ли его причислить к категории фактов обыкновенных, добываемых нашими внешними чувствами и основанных именно на этом главнейшем факте – на ощущении бытия, без которого для нас все другое немыслимо? Это факт sui generis[6 - Своеобразный, своего рода (лат.).] выходящий из ряду вон.
Как проявляется чувство бытия в животных – это тайна, так же не разрешимая, как и проявление наших понятий о пространстве и времени. Первым толчком служат, конечно, действия внешнего мира на наши чувства, но только толчком, а самая суть и ощущения бытия, и понятий о времени и пространстве скрываются глубоко в существе самого жизненного начала.
Возьмем для примера момент рождения на свет теплокровного животного. Что заставляет его ощутить свое бытие первым вдыханием воздуха, издать первый звук жизни?
Рефлекс от прикосновения воздуха к его периферическим нервам или от внезапного изменения в кровообращении новорожденного.
Н. И. Пирогов и С. П. Боткин у постели больного. Экспозиция восковых фигур на кафедре нормальной анатомии человека Крымского медицинского университета им. С. И. Георгиевского
Значит, машина так устроена, что прикосновение внешнего мира к периферическим нервам неминуемо должно отразиться на ту пружину, находящуюся в продолговатом мозгу, которая приводит в движение дыхательный прибор, заставляя его потянуть в себя наружный воздух; а это первое вдыхание, в свою очередь, должно отразиться на чем-то ощущающем самого себя и отличающем себя от внешнего мира. Но связь-то именно этого чего-то с механизмом животной машины и есть икс, потому неразрешимый, что для фактического его разрешения необходимо бы было не только подметить на себе или другом животном, но и прочувствовать эту связь первого вдыхания с ощущением бытия. Да и такое невозможное наблюдение было бы еще недостаточно. Ощущая, нельзя следить за ощущением, не изменяя и не нарушая его. Мы всякий день видим, как родятся люди и животные, как выводятся цыплята из яиц, и мы так привыкли к жизни, что можем думать, будто мы сами даем жизнь другим существам (так думают, пожалуй, и многие); не мудрено поэтому, что жизнь нам кажется вовсе не тайною, а простым, обыденным делом.
Жизнь и бытие едва ли не кажутся многим из нас одним и тем же.
16 декабря [1879 г.]. 15 °R[7 - Н. И. Пирогов для обозначения тепмпературы пользуется вышедшей из употребления шкалой Реомюра. В этой шкале температура замерзания и кипения воды приняты за 0 и 80 градусов соответственно, следовательно, 1 °R = 1,25 °C.]; отличный воздух; немного NE[8 - Норд-ост (направление ветра).]; солнечный день; снегу выпало вчера и третьего дня порядочно с метелью. Предшествовавшие два-три листа писал между 7 и 16 декабря урывками при погоде, переходившей почти в оттепель, между 0 +2–3 °R. Занят был в это время больными, операциями и продажею пшеницы (по 1 руб[лю] 50 коп[еек] за пуд). Хотя снег выпал в начале ноября (8—13) на талую землю, но, по исследованиям на этих днях, она замерзла на 3–4° и только в низменностях, под глубоким снегом, еще стоит талая; всходы, однако же, и тут еще зелены и не подмокли.
Да, наш мозговой ум, исследующий свой genesis[9 - Развитие (лат.).] дедуктивным способом, скоро и легко, – слишком скоро и слишком легко, я полагаю, – убеждается, что он есть не что другое, как функция мозга. Рассматривая свой главный атрибут – мышление, наш ум убеждается при этом, что оно есть коллективная способность, и потому должно быть функциею различных частей и различных гистологических элементов мозга.
В процессе мышления принимают участие: 1) способность сознательная и несознательная – ощущать и воспринимать впечатления (perceptio); 2) сознание этих впечатлений, хотя и не всегда, так как и при бессознательных ощущениях можно еще и мыслить бессознательно; 3) способность удерживать впечатления (память), также не всегда сознательная; 4) способность (которую я бы назвал понятливостью) сочетать, ассоциировать, группировать в известном порядке задержанные памятью ощущения и составлять из них понятия; а для этого в свою очередь необходимо еще и 5) conditio sine qua non[10 - Непременное условие (лат.).] мышления – способность означать знаками или перемещать в фонетические и мимические знаки (членораздельные звуки и слова) ощущаемые впечатления, передающие их в этом новом виде и памяти. Комбинации, группировка и ассоциация впечатлений, без превращения их в фонетические и мимические знаки, хотя и возможны, но отношения тогда этой способности к сознанию для нас непостижимы, и мы называем такую группировку и ассоциацию бессознательными или инстинктивными. Мы должны признаться, однако же, что названием нисколько не объясняем себе отношений и роли сознания в этом случае. 6) Напоследок венец в процессе нашего мышления составляют стремление и способность его различать причину и следствия, цель и средства (законы причинности и целесообразности), находить связь между ними, предполагать в каждом действии цель и стремление к ее достижению, словом – стремление и способность к творчеству. И все это в процессе нашего мышления соединено с чувством свободы, воли и произвола.
Всем нам кажется, что мы свободны мыслить так или иначе и как хотим; но с другой стороны всякий из нас чувствует и знает, что этой кажущейся свободе положен предел, вышед из которого, мышление делается безумием. Это потому, что мышление наше подлежит законам высшего мирового мышления. Между тем мозговой ум наш, не знающий иного мышления, кроме своего, и убежденный опытом в зависимости его от мозга, при рассматривании внешнего мира может дойти до такой иллюзии, что в нем нет никакой иной мысли, кроме нашей собственной. Эта иллюзия может дойти и до того, что нам кажется мировая мысль попросту вовсе несуществующею сама по себе, а только как произведение нашего собственного ума. Да если бы мы не были уверены в бытии внешнего мира так же твердо, как и в своем собственном, то все, что наше расследование открывает в нем целесообразным и как бы намеренно и независимо от нас устроенным, мы могли бы, пожалуй, принять за произведение одного нашего ума и нашей фантазии.
И вот мы находим себя запертыми в волшебный круг; с одной стороны, мы фактически не знаем другого ума, кроме своего органического, с другой стороны, этот же самый ум указывает нам на внешние произведения творчества, несомненно свидетельствующие о существовании другого ума с атрибутами не только сходными, но и несравненно более превышающими творчество нашего. И вот рождается невольно вопрос: действительно ли мы не могли бы иначе ходить, как с помощью ног, или же мы только ходим, потому что у нас есть ноги? Действительно ли только при посредстве мозга мы могли бы мыслить, или же мыслим только потому, что есть мозг? Видя неисчерпаемое множество средств, с которыми в окружающей нас вселенной достигаются известные цели, можем ли мы утверждать, что ум мог и должен был быть единственно только функциею мозга? Разве пчела, муравей и т. п. животные и без помощи мозга позвоночных животных не представляют нам примеров удивительной сообразительности, стремления к цели и даже творчества? И что это за странная функция, держащая в зависимости от себя существование своего органа? Выстрел из револьвера, направленный этою функциею, – и ее орган разрушен. Что за беспримерная функция, способная рассматривать и анализировать себя и свой орган как объект, как нечто внешнее? Не потому ли ум наш и находит себя, т. е. мысль и целесообразное творчество, вне себя, что он сам есть проявление того же самого высшего, мирового, жизненного начала, которое присутствует и проявляется во всей вселенной. Мировая мысль, присущая этому началу, совпадает, так сказать, с нашею мозговою мыслию, служащею ее проявлением, и потому те же стремления и сходные атрибуты находим мы в той и в другой. Совпадение свидетельствует об одном и том же источнике, но различие неизмеримо велико, несравненно более велико, чем мы, например, полагаем между особью и родом или племенем. Наша мысль есть, действительно, только индивидуальная, и именно потому, что она – мозговая, органическая. Другая же мысль, проявляющаяся в жизненном начале всей вселенной, именно потому, что она мировая, и не может быть органическою. А наш, хотя бы и общечеловеческий, но все-таки индивидуальный ум, и именно по причине своей индивидуальности, а следовательно, органичности и ограниченности, и не может возвыситься до понимания тех высших целей творчества, которые присущи только уму неорганическому и неограниченному – мировому. А потому и жизненное начало как одно из проявлений этого ума для нас останется навсегда тайною. Ignorabimus[11 - Непознаваемое (лат.).].
17 декабря [1879 г.]. Мороз 25 °R; но тихо, ясно и превосходно на воздухе. В персичной [оранжерее] под стеклами и ставнями, прикрытыми навозом, 12 °R.
Вселенная, жизнь, сила, пространство и время, – все это – как бы их назвать? – назову: отвлеченные факты. Название, пожалуй, абсурдное, но оно вмещает в себе именно два противоречия, и потому, мне кажется, выражает то, что я хочу сказать. Наше понятие о жизни, силе, пространстве, времени и о вселенной основано, по-моему, прежде всего на ощущении, следовательно, на факте. Ощущая сознательно (а бессознательное ощущение жизни хотя и существует несомненно, но я его не знаю и судить о нем не могу), мы вместе с тем ощущаем и силу (мощь), и пространство, и время, и мир, т. е. наше «не я». Ощущая все это, мы сначала не анализируем нашего ощущения и принимаем все d’emblee[12 - Целиком, вместе (фр.).], за один и тот же факт; несмотря, однако же, на отсутствие анализа, мы все-таки сознаем (не знаю как: сознательно или бессознательно?!) и приходим даже к твердому убеждению, что, кроме того ограниченного пространства, которое мы сами занимаем, и даже, кроме видимой нами границы горизонта, существует еще пространство, а за ним еще и еще. Так и для времени, и для силы, и для жизни мы в нашем ощущении не находим определенных границ. Мы не помним начала этого ощущения, не знаем его и конца. Только фантазия и долговременный опыт, показывающий начало и конец различных предметов и различных действий, приводят нас к иллюзорным убеждениям, заставляющим нас думать, что есть конец света, конец жизни и т. п. Ощущение же, как факт, переживаемый нами, убеждает нас в противном, т. е. в существовании беспредельного и безграничного. В ощущении, выражаемом нами звуком или словом: «я есмь», заключаются и «я был», и «я буду». Мы живо чувствуем, что настоящее – иллюзия, что мы живем только в прошедшем, беспрерывно переходящем в будущее. И когда мы хотим несколько ориентироваться в наших ощущениях жизни, силы, пространства, времени и вещества, т. е. довести эти ощущения до степени понятия, то мы не поступаем так, как при других наших обобщениях. Понятие, складывающееся у нас об ощущениях жизни, силы, времени, пространства и вещества, не есть квинтэссенция свойств отдельных предметов или особей, как наши другие отвлеченные обобщения. Нет, это отвлеченный факт, выведенный из ощущения чего-то беспредельного и безграничного, противоречащий тому, что мы называем действительным фактом, т. е. такому, который по своей ограниченности подлежит поверке внешних чувств или вообще какой-либо внешней (документальной, как, например, исторические факты) поверке.
Что бы мы ни говорили о неизбежности смерти, но жизнь, даже наша собственная, представляется нам как бы бесконечною; по крайней мере, конца ее – пока мы не приблизились к смерти старостью или болезнью – мы себе ясно представить не можем.
Как бы мы ни были знакомы по опыту с свойствами материи, мы убеждаемся, что все наши знания этих свойств недостаточны для определенного понятия о веществе или, другими словами, для его ограничения. Как бы ни казалась нам сила нераздельною от вещества, мы все-таки не можем ее понять как свойство материи, а принуждены допустить ее самостоятельное беспредельное бытие, как и самого вещества, в безграничном пространстве и времени. Да если бы и удалось нам, как удалось астрономам, определить, хотя бы приблизительно, границы и меры того, что нам кажется или нами ощущается беспредельным и безграничным, то и тогда бы, как и в астрономии, вышли бы такие цифры и числа, представить себе которые наглядно и фактически мы будем не в состоянии; что толку, если бы получились миллиарды миллиардов? – представления наши о наших числах будут так же неопределенны, как и о безграничном и беспредельном.
V
25 декабря [1879 г.]. Рождество Христово. Не писал дневника несколько дней, но зато на моих утренних прогулках по имению старался привести в порядок и ясность для себя мои понятия о начале жизни.
Я должен привести себе в ясность, насколько я материалист; эта кличка мне не по нутру, как Гессен-кассельскому герцогу, который никак не мог терпеть, чтобы его гессенского профессора Либиха считали материалистом. «Sein Vater war Materialist (т. е. аптекарь), nicht er»[13 - Не он, а его отец был материалистом (нем.).], – говорил герцог обвинителям Либиха в материализме.
Но что за дело до клички? Главное – сделать для себя ясным свое мировоззрение. Если я только не слукавлю пред Богом и моей собственной совестью, излагая мое мировоззрение, то дела нет – буду ли я материалист или глупец в отношении к другим.
Понятие о беспредельном пространстве имеет свое отрицание в измеряемых и оформленных предметах; понятие о бесконечности времени отрицается часами и минутами; для жизни служит отрицанием смерть; даже для уяснения одного из свойств Божеской натуры – добра – сделался необходимым дьявол. Потому и понятие о веществе вызвало в уме представление о противоположном начале – силе; без нее, без ее антагонистических веществу атрибутов, самое вещество с его инерциею и другими свойствами было бы немыслимо. Но отрицательное (то есть, не материальное) свойство силы можно и для более ясного представления нужно перевести в положительное, приняв за исходную точку главный атрибут силы – действие и движение. И действительно, с моим представлением безграничного пространства и времени соединяется и представление о движении; время – это отвлеченное движение в пространстве, то есть сила, действующая в пространстве и своим действием приводящая себя в вещество. Могу ли я требовать, чтобы представления мои о таких отвлеченных предметах были ясны и отчетливы, как чувственные факты? – ведь и о самых наглядных вещах нередко имеешь одно смутное представление. Следует ли из того, что мне представляется неясным, заключить, что это темное представление ложно и бессмысленно? Не бывают ли, напротив, именно галлюцинации, то есть призраки, весьма ясны и неоспоримы для галлюцинирующих? Известно, что при неясности представлений мы прибегаем к сравнениям.
Юстус фон Либих (1803–1873). Немецкий ученый, внесший значительный вклад в развитие органической и физиологической химии, один из основателей агрохимии и создателей системы химического образования. Профессор Гисенского (с 1824 г.) и Мюнхенского (с 1852 г.) университетов. Президент Баварской академии наук (с 1860 г.).
И вот мне кажется, что в моем понятии жизненное начало ни с чем не может быть так сравнено, как со светом. Источник света хотя и известен нам фактически, но расстояние его от нас так далеко и действия его на нас и все окружающее нас так многочисленны и разнообразны, что мы в обыкновенной жизни называем, без дальнейшего размышления, свойствами тел – свойства света. Мы говорим и думаем, что тот или другой цвет принадлежит не солнечным лучам, а тому или другому телу, хотя это тело потому только цветное, что атомы его задерживают, отражают или преломляют лучи света. Лучи же света могут достигать до нас и быть видимыми нами, может быть, целые века после того, как источник их света уже давно погас. Колебания светового эфира, чего-то непохожего на вещество, способного проникать чрез вещества, непроницаемые для всякой другой материи, и вместе с тем сообщающего им новые свойства, мне кажутся подходящими для сравнения с действиями жизненного начала.
26 декабря [1879 г.]. Беседа с самим собою заманчива. Как я ни убежден, что мне не удастся уяснить себе вполне мое мировоззрение, но самая попытка уяснения заключает уже в себе какую-то прелесть.
Погода все время изменяется: NW и NNW, иногда переходящие SO. Температура между –5–6° и +2 °R.
Да, мозг представляется мне подобным стеклянной призме, имеющей свойство разлагать луч света и преломлять его. Если бы я не боялся насмешки над самим собою за фантазерство, я бы назвал мозг призмою мирового ума; воспринимать и пропускать чрез себя колебания или действия этой мировой силы было бы функциею мозга, если бы сравнение мое было верно. Но, ставя себя на точку зрения материалиста-эмпирика, я вижу непроходимую пропасть между моим сравнением и тем воззрением, к которому неминуемо приводит, – на первых порах и, так сказать, сгоряча, – скептицизм эмпирии. Не говоря уже о том, что comparaison n’est pas raison[14 - Сравнение – это не доказательство (фр.).], есть ли, спрашивается, для эмпирика хотя малейший смысл в употребленных мною выражениях, как: колебания силы, мировой ум без мирового мозга, сила без вещества, жизненное начало вне организма? Что это, с точки зрения эмпирика, как не идеологический набор слов?
28 декабря [1879 г.]. Метель и вьюга при сильном NW целую ночь и продолжается теперь при +1 °R; все вокруг занесено снегом, нельзя высунуть носа, и я принужден остаться без моей утренней прогулки. Попробую писать – что-то выйдет.
Если смысл наш зависим от наших современных убеждений, а они, в свою очередь, преходящи и не всегда, по своей силе и упорству, соответствуют нашим знаниям, то ни одна господствующая доктрина, ни одно умственное направление не должно смотреть свысока на другие, им противоречащие, доктрины и направления; а умы беспристрастные, не увлекающиеся и не доверчивые, не должны пугаться насмешек, разных кличек и обвинений в отсталости, нерациональности и бессмыслии. Кто пережил уже кое-что на своем веку, тот вспомнит, с каким пренебрежением относились в двадцатых-тридцатых годах нашего столетия гегельянцы и натурфилософы к скромным и приниженным (в то время) эмпирикам, платящим теперь, в свою очередь, прежним мудрецам тою же монетою. Всего вернее и надежнее, конечно, было бы остановиться на позитивизме, оставить в покое неизъяснимое, приняв за аксиому, что существуют предметы, не подлежащие нашему знанию. Но это воззрение на практике делается, подобно другим, доктриною, как скоро оно будет проводиться последовательно и обязательно для его последователей. Доктринерство же, я сказал, – всегда односторонне и узко. Можно ли требовать от каждого ума, чтобы он обязался не затрагивать тот или другой предмет размышления; чтобы он остановился именно там, где ему назначает остановиться другой ум! Действительно, как, кажется, утверждает позитивизм, в жизни человечества замечается известная последовательность в направлении мышления и мировоззрениях, соответствующая степени знаний, приобретаемых жизнью человечества. Но эта последовательность не уничтожает возможности периодичных возвратов того или другого из предшествовавших направлений, так как уму нашему не суждено окончательно убеждаться в непреложности истины принятого им направления. Временные наши убеждения хотя и всегда сильнее наших знаний, но еще менее прочны, чем самые знания, приобретенные одним опытом. Поэтому, как бы ни было позитивно направление современных умов, нельзя отвергать наклонность к возврату другого противопозитивного (позитивному) направления, хотя бы в отличном от прежнего виде. И вот я, не оспаривая достоинств позитивизма и его пригодности для многих высоких умов, считаю его, однако же, для моего собственного ума непригодным, и, чтобы я мог сделаться позитивистом, я должен бы изнасиловать себя.
Как бы размышление и опыт ни убеждали меня, что я не в состоянии выйти из очерченного вокруг меня волшебного круга, что я не могу разрешить ни одной из занимающих меня проблем, – я не могу осилить мои влечения и не заниматься тем, что я считаю вопросами моей жизни. Но я с тем вместе не доктринер. Стараться осмыслить произведение фантазии в разрешении этих вопросов для меня не значит отказаться вовсе от эмпирии или пренебрегать ею, считать ее выработанные уже наукою и опытом методы ложными или малозначащими и не признавать ее заслуг. Нет, я один из тех, которые еще в конце двадцатых годов нашего столетия, едва сошед с студенческой скамьи, уже почуяли веяние времени и с жаром предавались эмпирическому направлению науки, несмотря на то, что вокруг их еще простирались дебри натуральной и гегелевской философии. Прослужив верою и правдою этому (тогда еще новому) направлению моей науки с лишком пятьдесят лет, я убедился, однако же, что для человека с моим складом ума невозможно оставаться по всем занимающим меня вопросам жизни в этом одном направлении, или, другими словами, сделаться позитивистом и сказать себе: «Стой! Ни шагу далее!»
Вот я при таком убеждении и дозволяю моей фантазии, при помощи моих, каких ни на есть, знаний, доказывать, – конечно, мне же самому, – что raison d’etre[15 - Смысл существования (фр.).] всего подвластного чувствам, опыту и наблюдению скрыто за кулисами эмпирической сцены и потому и подвластно лишь ей одной (фантазии) да размышлению, да и то в самых ограниченных размерах. Не быв отъявленным позитивистом, я не могу искоренить в себе желания заглянуть за кулисы, и не только из одного любопытства, но и с (утилитарною) целью ограничения слишком назойливых претензий опыта на самовластие и вмешательство в решение вопросов, касающихся того закулисного резондэтра[16 - От фр. raison d’etre – смысл существования.].
VI
29 декабря [1879 г.]. Метель утихла, небольшой NO, –5 °R. После утренней прогулки.
«In’s Innere der Natur dringt kein geschaffener Geist».[17 - «В природе нет созданного духа» (нем.). Из стихотворения известного швейцарского ученого и поэта Альбрехта Галлера (1706–1777) «Лживость человеческих побуждений».] Это великая, глубоко продуманная мысль великого естествоиспытателя. Да, как бы глубоко ни проникали внутрь организма опыт и наблюдение, внутрь самой натуры вход им запрещен.
Научный прогресс делает опыт и наблюдение более утонченными, изощряет чувства наблюдателя, помогает заменять как можно лучше одно чувство другим, как, например, зрением – осязание; раскрывает механизм и химизм органической фабрики; но то, что заправляет ею, что направляет действующие в ней силы к охране и поддержанию бытия в известном, определенном заранее (типичном) виде, как en gros[18 - В целом (нем.).], во всей органической массе, так и в частностях, – в каждой особи, в каждом органе, в каждой ткани, – это неподсудно изысканиям и неизъяснимо; хотя игнорировать это начало или силу, назовите как угодно, мы не можем, если бы и хотели. Наша мысль и фантазия не могут не стремиться привести в какую-либо связь проявление этого мирового начала с нашим собственным «я». Мы и мыслим потому, что находим мысль во всем окружающем нас. Без участия мысли и фантазии не состоялся бы ни один опыт, и всякий факт был бы бессмысленным. Наши мысль и фантазия, как причина, производящая и опыт, и наблюдение, не могут, однако же, по особенности своей натуры ограничиться этими двумя способами знания. Ум, употребив опыт и наблюдение, то есть направив и заставив действовать известным образом наши чувства, потом рассматривает с разных сторон, связывает и дает новое направление собранным чувствами впечатлениям, и всегда не иначе, как с участием фантазии.
30 декабря [1879 г.]. Снегу навалило в эти два дня (третьего дня и вчера) местами с человеческий рост. –10 °R.
Ампутация. Гравюра. 1540 г.
Мне хочется доказать себе, что умственный мой процесс в настоящее время, когда я стараюсь уяснить себе мое мировоззрение, действует в сущности тем же способом, как и в то время, когда я ничего другого не хотел знать, кроме фактов. Мне кажется, что резкое различие, делаемое между суждениями a priori[19 - Умозаключение, основанное на общих положениях, принимаемых за истинные, букв. – из предыдущего (лат.).] и a posteriori[20 - Умозаключение, делаемое на основании опыта, букв. – из последующего (лат.).], или между дедуктивным и индуктивным способами, есть чисто доктринерское и справедливо разве в крайностях, похожих на безумие. В сущности, априорист, так же как и эмпирик, берут за исходную точку своих суждений факт – factum, нечто для них обоих неопровержимое и приобретенное первоначально чувствами и опытом; различие только в том, что априорист дает впоследствии другое значение факту и опыту, и в приобретении своих знаний (которые без опыта невозможны) не ограничивается одними впечатлениями, доставляемыми ему внешними чувствами. У него играют более важную роль не столько непосредственные чувственные впечатления, сколько заключения, сложившиеся в уме и фантазии из этих впечатлений. Но так называемый рациональный эмпиризм, к последователям которого я отношу и себя, также не довольствуется одним собиранием приносимых чувствами впечатлений. Изобретая различные способы наблюдения и опыта, контролируя один опыт другим, рациональный эмпирик неминуемо пускает в ход фантазию, и умозаключения его почти никогда не могут удержаться в непосредственной (прямой) связи с чувственными впечатлениями, доставляемыми прямо опытом и наблюдениями. Всегда есть пробел между умозаключением и чувственным фактом, и, чтобы уменьшить, сколько можно, этот пробел, у нас нет другого средства, как повторение или скопление однородных фактов; а это средство подвергает нас заблуждениям, которые нередко вреднее увлечений фантазии, потому что обманывают нас своею кажущеюся точностью.
Как бы ни были отдельно локализированы наши чувства зрения, слуха, осязания, наша память, воображение, способность говорить, мыслить, хотеть, наше «я» есть в одно и то же время и нечто отдельное от них, и вместе с тем вмещающее все эти чувства и способности в себе. Наше «я» играет как будто на клавишах тех органов, функциям которых эмпиризм приписывает зрение, слух, память, слово и пр.; и, выражая своею игрою эти функции, наше «я» само участвует в них как нераздельное целое, связывая их и проявляя ими свое бытие.
VII
Писано 5 января [1880 г]. С нового 1880 года по 5-е января морозы –10–16 °R. Бури утихли. Ясно и безветренно. Вчера и сегодня иней на деревьях.
6 января [1880 г.]. Ясный зимний день с густым инеем на деревьях. Утром 11°. После хорошей утренней прогулки.
Прогуливаясь, я вспомнил, что слишком односторонне отнесся к знаменитому cogito, ergo sum [мыслю, следовательно существую], утверждая, что его нужно бы было заменить sentio, ergo sum [чувствую, следовательно существую]. Обращая себя всего на какой-либо предмет, превращаясь, как говорится, в зрение или слух, наше «я», устремленное таким образом во внешний мир, – в свое «не я», – продолжает, незаметно, может быть (при сильном сосредоточении внимания на внешний предмет), ощущать свое бытие; и это ощущение сопровождает его с колыбели, с того момента, когда оно начало отличать от себя свое «не я», вплоть до могилы; и даже при потере сознания, в бреду, во сне, это ощущение не может не продолжаться, хотя бы и в измененном виде. Но, кроме этого, не всегда для нас заметного ощущения нашего бытия, незаметным оно может сделаться, как и все другие наши ощущения, чрез привычку к бытию; наше «я» возводится из простого ощущения на степень мысли в том случае, когда оно, воспринимая внешние (мировые) и органические (приносимые органами) впечатления, приводит их в связь с ощущением в себе присутствия своих умственных способностей: внимания, памяти, воображения, слова и мысли.
Тогда наше «я» делается вполне сознательным, осмысленным и прочувствованным. Кондильяк[21 - Этьен Бонно де Кондильяк (1715–1780) – французский философ, выводивший все знания и духовные способности человека из ощущений.] утверждал, что человек без внешних чувств – статуя: это неправда; дыхание и без содействия внешних чувств должно ему сообщить ощущение бытия, поддерживая связь с внешним миром. Ощущение бытия непременно существовало бы и тогда, но было ли бы оно без содействия внешних чувств сознательным и осмысленным, – это вопрос. Сознание в себе памяти, мысли, воображения, без сомнения, возбуждается и поддерживается внешними и органическими чувствами; но нет причины, мне кажется, отвергать возможность этого сознания и при отсутствии внешних и органических чувств.
Я отвлекся и зашел слишком далеко, желая себе доказать, что хотя я до моего мировоззрения дошел не настоящим рационально-эмпирическим (индукционным) способом, но тем не менее, я считаю мое мировоззрение для меня равносильным факту.
10 января [1880 г.]. Продолжаются холода в 16–12 °R. Сегодня –7° и снег. Привезли елки и посадили. Мельница (новая) на Людвиговке в ходу.
Да, равносильным факту – фактическим – по силе убеждения я считаю мое воззрение. Что такое факт? Если держаться буквального смысла, то это то, что сделано, – factum, что совершено (поэтому fait accompli[22 - Совершившийся факт (фр.).] – плеоназм[23 - Плеоназм – речевое излишество, вкрапление в речь слов, ненужных со смысловой точки зрения (от греч. pleonasmos – излишество).]). В этом смысле факт должен быть чувственным. И действительно, если самое наше бытие есть ощущение, то в нас нет ничего, что бы не зависело первоначально от впечатлений, приносимых ощущениями.
Понятие о мере пространства и времени, невольно сопровождающее мысль о самом пространстве и самом времени, нам служит не к уяснению нашего понятия, а к убеждению нас в том, что измеряемое в пространстве и времени не есть еще самое пространство и самое время.
Понятие о жизни также не есть одно обобщение.
Оно относится, по-моему, к той же категории, как и понятие о пространстве и времени.
Первый толчок к образованию в нашем уме понятий об этих трех (отвлечениях) иксах дает нам ощущение нашего бытия. Это ощущение, конечно, факт, но какой? Можно ли его причислить к категории фактов обыкновенных, добываемых нашими внешними чувствами и основанных именно на этом главнейшем факте – на ощущении бытия, без которого для нас все другое немыслимо? Это факт sui generis[6 - Своеобразный, своего рода (лат.).] выходящий из ряду вон.
Как проявляется чувство бытия в животных – это тайна, так же не разрешимая, как и проявление наших понятий о пространстве и времени. Первым толчком служат, конечно, действия внешнего мира на наши чувства, но только толчком, а самая суть и ощущения бытия, и понятий о времени и пространстве скрываются глубоко в существе самого жизненного начала.
Возьмем для примера момент рождения на свет теплокровного животного. Что заставляет его ощутить свое бытие первым вдыханием воздуха, издать первый звук жизни?
Рефлекс от прикосновения воздуха к его периферическим нервам или от внезапного изменения в кровообращении новорожденного.
Н. И. Пирогов и С. П. Боткин у постели больного. Экспозиция восковых фигур на кафедре нормальной анатомии человека Крымского медицинского университета им. С. И. Георгиевского
Значит, машина так устроена, что прикосновение внешнего мира к периферическим нервам неминуемо должно отразиться на ту пружину, находящуюся в продолговатом мозгу, которая приводит в движение дыхательный прибор, заставляя его потянуть в себя наружный воздух; а это первое вдыхание, в свою очередь, должно отразиться на чем-то ощущающем самого себя и отличающем себя от внешнего мира. Но связь-то именно этого чего-то с механизмом животной машины и есть икс, потому неразрешимый, что для фактического его разрешения необходимо бы было не только подметить на себе или другом животном, но и прочувствовать эту связь первого вдыхания с ощущением бытия. Да и такое невозможное наблюдение было бы еще недостаточно. Ощущая, нельзя следить за ощущением, не изменяя и не нарушая его. Мы всякий день видим, как родятся люди и животные, как выводятся цыплята из яиц, и мы так привыкли к жизни, что можем думать, будто мы сами даем жизнь другим существам (так думают, пожалуй, и многие); не мудрено поэтому, что жизнь нам кажется вовсе не тайною, а простым, обыденным делом.
Жизнь и бытие едва ли не кажутся многим из нас одним и тем же.
16 декабря [1879 г.]. 15 °R[7 - Н. И. Пирогов для обозначения тепмпературы пользуется вышедшей из употребления шкалой Реомюра. В этой шкале температура замерзания и кипения воды приняты за 0 и 80 градусов соответственно, следовательно, 1 °R = 1,25 °C.]; отличный воздух; немного NE[8 - Норд-ост (направление ветра).]; солнечный день; снегу выпало вчера и третьего дня порядочно с метелью. Предшествовавшие два-три листа писал между 7 и 16 декабря урывками при погоде, переходившей почти в оттепель, между 0 +2–3 °R. Занят был в это время больными, операциями и продажею пшеницы (по 1 руб[лю] 50 коп[еек] за пуд). Хотя снег выпал в начале ноября (8—13) на талую землю, но, по исследованиям на этих днях, она замерзла на 3–4° и только в низменностях, под глубоким снегом, еще стоит талая; всходы, однако же, и тут еще зелены и не подмокли.
Да, наш мозговой ум, исследующий свой genesis[9 - Развитие (лат.).] дедуктивным способом, скоро и легко, – слишком скоро и слишком легко, я полагаю, – убеждается, что он есть не что другое, как функция мозга. Рассматривая свой главный атрибут – мышление, наш ум убеждается при этом, что оно есть коллективная способность, и потому должно быть функциею различных частей и различных гистологических элементов мозга.
В процессе мышления принимают участие: 1) способность сознательная и несознательная – ощущать и воспринимать впечатления (perceptio); 2) сознание этих впечатлений, хотя и не всегда, так как и при бессознательных ощущениях можно еще и мыслить бессознательно; 3) способность удерживать впечатления (память), также не всегда сознательная; 4) способность (которую я бы назвал понятливостью) сочетать, ассоциировать, группировать в известном порядке задержанные памятью ощущения и составлять из них понятия; а для этого в свою очередь необходимо еще и 5) conditio sine qua non[10 - Непременное условие (лат.).] мышления – способность означать знаками или перемещать в фонетические и мимические знаки (членораздельные звуки и слова) ощущаемые впечатления, передающие их в этом новом виде и памяти. Комбинации, группировка и ассоциация впечатлений, без превращения их в фонетические и мимические знаки, хотя и возможны, но отношения тогда этой способности к сознанию для нас непостижимы, и мы называем такую группировку и ассоциацию бессознательными или инстинктивными. Мы должны признаться, однако же, что названием нисколько не объясняем себе отношений и роли сознания в этом случае. 6) Напоследок венец в процессе нашего мышления составляют стремление и способность его различать причину и следствия, цель и средства (законы причинности и целесообразности), находить связь между ними, предполагать в каждом действии цель и стремление к ее достижению, словом – стремление и способность к творчеству. И все это в процессе нашего мышления соединено с чувством свободы, воли и произвола.
Всем нам кажется, что мы свободны мыслить так или иначе и как хотим; но с другой стороны всякий из нас чувствует и знает, что этой кажущейся свободе положен предел, вышед из которого, мышление делается безумием. Это потому, что мышление наше подлежит законам высшего мирового мышления. Между тем мозговой ум наш, не знающий иного мышления, кроме своего, и убежденный опытом в зависимости его от мозга, при рассматривании внешнего мира может дойти до такой иллюзии, что в нем нет никакой иной мысли, кроме нашей собственной. Эта иллюзия может дойти и до того, что нам кажется мировая мысль попросту вовсе несуществующею сама по себе, а только как произведение нашего собственного ума. Да если бы мы не были уверены в бытии внешнего мира так же твердо, как и в своем собственном, то все, что наше расследование открывает в нем целесообразным и как бы намеренно и независимо от нас устроенным, мы могли бы, пожалуй, принять за произведение одного нашего ума и нашей фантазии.
И вот мы находим себя запертыми в волшебный круг; с одной стороны, мы фактически не знаем другого ума, кроме своего органического, с другой стороны, этот же самый ум указывает нам на внешние произведения творчества, несомненно свидетельствующие о существовании другого ума с атрибутами не только сходными, но и несравненно более превышающими творчество нашего. И вот рождается невольно вопрос: действительно ли мы не могли бы иначе ходить, как с помощью ног, или же мы только ходим, потому что у нас есть ноги? Действительно ли только при посредстве мозга мы могли бы мыслить, или же мыслим только потому, что есть мозг? Видя неисчерпаемое множество средств, с которыми в окружающей нас вселенной достигаются известные цели, можем ли мы утверждать, что ум мог и должен был быть единственно только функциею мозга? Разве пчела, муравей и т. п. животные и без помощи мозга позвоночных животных не представляют нам примеров удивительной сообразительности, стремления к цели и даже творчества? И что это за странная функция, держащая в зависимости от себя существование своего органа? Выстрел из револьвера, направленный этою функциею, – и ее орган разрушен. Что за беспримерная функция, способная рассматривать и анализировать себя и свой орган как объект, как нечто внешнее? Не потому ли ум наш и находит себя, т. е. мысль и целесообразное творчество, вне себя, что он сам есть проявление того же самого высшего, мирового, жизненного начала, которое присутствует и проявляется во всей вселенной. Мировая мысль, присущая этому началу, совпадает, так сказать, с нашею мозговою мыслию, служащею ее проявлением, и потому те же стремления и сходные атрибуты находим мы в той и в другой. Совпадение свидетельствует об одном и том же источнике, но различие неизмеримо велико, несравненно более велико, чем мы, например, полагаем между особью и родом или племенем. Наша мысль есть, действительно, только индивидуальная, и именно потому, что она – мозговая, органическая. Другая же мысль, проявляющаяся в жизненном начале всей вселенной, именно потому, что она мировая, и не может быть органическою. А наш, хотя бы и общечеловеческий, но все-таки индивидуальный ум, и именно по причине своей индивидуальности, а следовательно, органичности и ограниченности, и не может возвыситься до понимания тех высших целей творчества, которые присущи только уму неорганическому и неограниченному – мировому. А потому и жизненное начало как одно из проявлений этого ума для нас останется навсегда тайною. Ignorabimus[11 - Непознаваемое (лат.).].
17 декабря [1879 г.]. Мороз 25 °R; но тихо, ясно и превосходно на воздухе. В персичной [оранжерее] под стеклами и ставнями, прикрытыми навозом, 12 °R.
Вселенная, жизнь, сила, пространство и время, – все это – как бы их назвать? – назову: отвлеченные факты. Название, пожалуй, абсурдное, но оно вмещает в себе именно два противоречия, и потому, мне кажется, выражает то, что я хочу сказать. Наше понятие о жизни, силе, пространстве, времени и о вселенной основано, по-моему, прежде всего на ощущении, следовательно, на факте. Ощущая сознательно (а бессознательное ощущение жизни хотя и существует несомненно, но я его не знаю и судить о нем не могу), мы вместе с тем ощущаем и силу (мощь), и пространство, и время, и мир, т. е. наше «не я». Ощущая все это, мы сначала не анализируем нашего ощущения и принимаем все d’emblee[12 - Целиком, вместе (фр.).], за один и тот же факт; несмотря, однако же, на отсутствие анализа, мы все-таки сознаем (не знаю как: сознательно или бессознательно?!) и приходим даже к твердому убеждению, что, кроме того ограниченного пространства, которое мы сами занимаем, и даже, кроме видимой нами границы горизонта, существует еще пространство, а за ним еще и еще. Так и для времени, и для силы, и для жизни мы в нашем ощущении не находим определенных границ. Мы не помним начала этого ощущения, не знаем его и конца. Только фантазия и долговременный опыт, показывающий начало и конец различных предметов и различных действий, приводят нас к иллюзорным убеждениям, заставляющим нас думать, что есть конец света, конец жизни и т. п. Ощущение же, как факт, переживаемый нами, убеждает нас в противном, т. е. в существовании беспредельного и безграничного. В ощущении, выражаемом нами звуком или словом: «я есмь», заключаются и «я был», и «я буду». Мы живо чувствуем, что настоящее – иллюзия, что мы живем только в прошедшем, беспрерывно переходящем в будущее. И когда мы хотим несколько ориентироваться в наших ощущениях жизни, силы, пространства, времени и вещества, т. е. довести эти ощущения до степени понятия, то мы не поступаем так, как при других наших обобщениях. Понятие, складывающееся у нас об ощущениях жизни, силы, времени, пространства и вещества, не есть квинтэссенция свойств отдельных предметов или особей, как наши другие отвлеченные обобщения. Нет, это отвлеченный факт, выведенный из ощущения чего-то беспредельного и безграничного, противоречащий тому, что мы называем действительным фактом, т. е. такому, который по своей ограниченности подлежит поверке внешних чувств или вообще какой-либо внешней (документальной, как, например, исторические факты) поверке.
Что бы мы ни говорили о неизбежности смерти, но жизнь, даже наша собственная, представляется нам как бы бесконечною; по крайней мере, конца ее – пока мы не приблизились к смерти старостью или болезнью – мы себе ясно представить не можем.
Как бы мы ни были знакомы по опыту с свойствами материи, мы убеждаемся, что все наши знания этих свойств недостаточны для определенного понятия о веществе или, другими словами, для его ограничения. Как бы ни казалась нам сила нераздельною от вещества, мы все-таки не можем ее понять как свойство материи, а принуждены допустить ее самостоятельное беспредельное бытие, как и самого вещества, в безграничном пространстве и времени. Да если бы и удалось нам, как удалось астрономам, определить, хотя бы приблизительно, границы и меры того, что нам кажется или нами ощущается беспредельным и безграничным, то и тогда бы, как и в астрономии, вышли бы такие цифры и числа, представить себе которые наглядно и фактически мы будем не в состоянии; что толку, если бы получились миллиарды миллиардов? – представления наши о наших числах будут так же неопределенны, как и о безграничном и беспредельном.
V
25 декабря [1879 г.]. Рождество Христово. Не писал дневника несколько дней, но зато на моих утренних прогулках по имению старался привести в порядок и ясность для себя мои понятия о начале жизни.
Я должен привести себе в ясность, насколько я материалист; эта кличка мне не по нутру, как Гессен-кассельскому герцогу, который никак не мог терпеть, чтобы его гессенского профессора Либиха считали материалистом. «Sein Vater war Materialist (т. е. аптекарь), nicht er»[13 - Не он, а его отец был материалистом (нем.).], – говорил герцог обвинителям Либиха в материализме.
Но что за дело до клички? Главное – сделать для себя ясным свое мировоззрение. Если я только не слукавлю пред Богом и моей собственной совестью, излагая мое мировоззрение, то дела нет – буду ли я материалист или глупец в отношении к другим.
Понятие о беспредельном пространстве имеет свое отрицание в измеряемых и оформленных предметах; понятие о бесконечности времени отрицается часами и минутами; для жизни служит отрицанием смерть; даже для уяснения одного из свойств Божеской натуры – добра – сделался необходимым дьявол. Потому и понятие о веществе вызвало в уме представление о противоположном начале – силе; без нее, без ее антагонистических веществу атрибутов, самое вещество с его инерциею и другими свойствами было бы немыслимо. Но отрицательное (то есть, не материальное) свойство силы можно и для более ясного представления нужно перевести в положительное, приняв за исходную точку главный атрибут силы – действие и движение. И действительно, с моим представлением безграничного пространства и времени соединяется и представление о движении; время – это отвлеченное движение в пространстве, то есть сила, действующая в пространстве и своим действием приводящая себя в вещество. Могу ли я требовать, чтобы представления мои о таких отвлеченных предметах были ясны и отчетливы, как чувственные факты? – ведь и о самых наглядных вещах нередко имеешь одно смутное представление. Следует ли из того, что мне представляется неясным, заключить, что это темное представление ложно и бессмысленно? Не бывают ли, напротив, именно галлюцинации, то есть призраки, весьма ясны и неоспоримы для галлюцинирующих? Известно, что при неясности представлений мы прибегаем к сравнениям.
Юстус фон Либих (1803–1873). Немецкий ученый, внесший значительный вклад в развитие органической и физиологической химии, один из основателей агрохимии и создателей системы химического образования. Профессор Гисенского (с 1824 г.) и Мюнхенского (с 1852 г.) университетов. Президент Баварской академии наук (с 1860 г.).
И вот мне кажется, что в моем понятии жизненное начало ни с чем не может быть так сравнено, как со светом. Источник света хотя и известен нам фактически, но расстояние его от нас так далеко и действия его на нас и все окружающее нас так многочисленны и разнообразны, что мы в обыкновенной жизни называем, без дальнейшего размышления, свойствами тел – свойства света. Мы говорим и думаем, что тот или другой цвет принадлежит не солнечным лучам, а тому или другому телу, хотя это тело потому только цветное, что атомы его задерживают, отражают или преломляют лучи света. Лучи же света могут достигать до нас и быть видимыми нами, может быть, целые века после того, как источник их света уже давно погас. Колебания светового эфира, чего-то непохожего на вещество, способного проникать чрез вещества, непроницаемые для всякой другой материи, и вместе с тем сообщающего им новые свойства, мне кажутся подходящими для сравнения с действиями жизненного начала.
26 декабря [1879 г.]. Беседа с самим собою заманчива. Как я ни убежден, что мне не удастся уяснить себе вполне мое мировоззрение, но самая попытка уяснения заключает уже в себе какую-то прелесть.
Погода все время изменяется: NW и NNW, иногда переходящие SO. Температура между –5–6° и +2 °R.
Да, мозг представляется мне подобным стеклянной призме, имеющей свойство разлагать луч света и преломлять его. Если бы я не боялся насмешки над самим собою за фантазерство, я бы назвал мозг призмою мирового ума; воспринимать и пропускать чрез себя колебания или действия этой мировой силы было бы функциею мозга, если бы сравнение мое было верно. Но, ставя себя на точку зрения материалиста-эмпирика, я вижу непроходимую пропасть между моим сравнением и тем воззрением, к которому неминуемо приводит, – на первых порах и, так сказать, сгоряча, – скептицизм эмпирии. Не говоря уже о том, что comparaison n’est pas raison[14 - Сравнение – это не доказательство (фр.).], есть ли, спрашивается, для эмпирика хотя малейший смысл в употребленных мною выражениях, как: колебания силы, мировой ум без мирового мозга, сила без вещества, жизненное начало вне организма? Что это, с точки зрения эмпирика, как не идеологический набор слов?
28 декабря [1879 г.]. Метель и вьюга при сильном NW целую ночь и продолжается теперь при +1 °R; все вокруг занесено снегом, нельзя высунуть носа, и я принужден остаться без моей утренней прогулки. Попробую писать – что-то выйдет.
Если смысл наш зависим от наших современных убеждений, а они, в свою очередь, преходящи и не всегда, по своей силе и упорству, соответствуют нашим знаниям, то ни одна господствующая доктрина, ни одно умственное направление не должно смотреть свысока на другие, им противоречащие, доктрины и направления; а умы беспристрастные, не увлекающиеся и не доверчивые, не должны пугаться насмешек, разных кличек и обвинений в отсталости, нерациональности и бессмыслии. Кто пережил уже кое-что на своем веку, тот вспомнит, с каким пренебрежением относились в двадцатых-тридцатых годах нашего столетия гегельянцы и натурфилософы к скромным и приниженным (в то время) эмпирикам, платящим теперь, в свою очередь, прежним мудрецам тою же монетою. Всего вернее и надежнее, конечно, было бы остановиться на позитивизме, оставить в покое неизъяснимое, приняв за аксиому, что существуют предметы, не подлежащие нашему знанию. Но это воззрение на практике делается, подобно другим, доктриною, как скоро оно будет проводиться последовательно и обязательно для его последователей. Доктринерство же, я сказал, – всегда односторонне и узко. Можно ли требовать от каждого ума, чтобы он обязался не затрагивать тот или другой предмет размышления; чтобы он остановился именно там, где ему назначает остановиться другой ум! Действительно, как, кажется, утверждает позитивизм, в жизни человечества замечается известная последовательность в направлении мышления и мировоззрениях, соответствующая степени знаний, приобретаемых жизнью человечества. Но эта последовательность не уничтожает возможности периодичных возвратов того или другого из предшествовавших направлений, так как уму нашему не суждено окончательно убеждаться в непреложности истины принятого им направления. Временные наши убеждения хотя и всегда сильнее наших знаний, но еще менее прочны, чем самые знания, приобретенные одним опытом. Поэтому, как бы ни было позитивно направление современных умов, нельзя отвергать наклонность к возврату другого противопозитивного (позитивному) направления, хотя бы в отличном от прежнего виде. И вот я, не оспаривая достоинств позитивизма и его пригодности для многих высоких умов, считаю его, однако же, для моего собственного ума непригодным, и, чтобы я мог сделаться позитивистом, я должен бы изнасиловать себя.
Как бы размышление и опыт ни убеждали меня, что я не в состоянии выйти из очерченного вокруг меня волшебного круга, что я не могу разрешить ни одной из занимающих меня проблем, – я не могу осилить мои влечения и не заниматься тем, что я считаю вопросами моей жизни. Но я с тем вместе не доктринер. Стараться осмыслить произведение фантазии в разрешении этих вопросов для меня не значит отказаться вовсе от эмпирии или пренебрегать ею, считать ее выработанные уже наукою и опытом методы ложными или малозначащими и не признавать ее заслуг. Нет, я один из тех, которые еще в конце двадцатых годов нашего столетия, едва сошед с студенческой скамьи, уже почуяли веяние времени и с жаром предавались эмпирическому направлению науки, несмотря на то, что вокруг их еще простирались дебри натуральной и гегелевской философии. Прослужив верою и правдою этому (тогда еще новому) направлению моей науки с лишком пятьдесят лет, я убедился, однако же, что для человека с моим складом ума невозможно оставаться по всем занимающим меня вопросам жизни в этом одном направлении, или, другими словами, сделаться позитивистом и сказать себе: «Стой! Ни шагу далее!»
Вот я при таком убеждении и дозволяю моей фантазии, при помощи моих, каких ни на есть, знаний, доказывать, – конечно, мне же самому, – что raison d’etre[15 - Смысл существования (фр.).] всего подвластного чувствам, опыту и наблюдению скрыто за кулисами эмпирической сцены и потому и подвластно лишь ей одной (фантазии) да размышлению, да и то в самых ограниченных размерах. Не быв отъявленным позитивистом, я не могу искоренить в себе желания заглянуть за кулисы, и не только из одного любопытства, но и с (утилитарною) целью ограничения слишком назойливых претензий опыта на самовластие и вмешательство в решение вопросов, касающихся того закулисного резондэтра[16 - От фр. raison d’etre – смысл существования.].
VI
29 декабря [1879 г.]. Метель утихла, небольшой NO, –5 °R. После утренней прогулки.
«In’s Innere der Natur dringt kein geschaffener Geist».[17 - «В природе нет созданного духа» (нем.). Из стихотворения известного швейцарского ученого и поэта Альбрехта Галлера (1706–1777) «Лживость человеческих побуждений».] Это великая, глубоко продуманная мысль великого естествоиспытателя. Да, как бы глубоко ни проникали внутрь организма опыт и наблюдение, внутрь самой натуры вход им запрещен.
Научный прогресс делает опыт и наблюдение более утонченными, изощряет чувства наблюдателя, помогает заменять как можно лучше одно чувство другим, как, например, зрением – осязание; раскрывает механизм и химизм органической фабрики; но то, что заправляет ею, что направляет действующие в ней силы к охране и поддержанию бытия в известном, определенном заранее (типичном) виде, как en gros[18 - В целом (нем.).], во всей органической массе, так и в частностях, – в каждой особи, в каждом органе, в каждой ткани, – это неподсудно изысканиям и неизъяснимо; хотя игнорировать это начало или силу, назовите как угодно, мы не можем, если бы и хотели. Наша мысль и фантазия не могут не стремиться привести в какую-либо связь проявление этого мирового начала с нашим собственным «я». Мы и мыслим потому, что находим мысль во всем окружающем нас. Без участия мысли и фантазии не состоялся бы ни один опыт, и всякий факт был бы бессмысленным. Наши мысль и фантазия, как причина, производящая и опыт, и наблюдение, не могут, однако же, по особенности своей натуры ограничиться этими двумя способами знания. Ум, употребив опыт и наблюдение, то есть направив и заставив действовать известным образом наши чувства, потом рассматривает с разных сторон, связывает и дает новое направление собранным чувствами впечатлениям, и всегда не иначе, как с участием фантазии.
30 декабря [1879 г.]. Снегу навалило в эти два дня (третьего дня и вчера) местами с человеческий рост. –10 °R.
Ампутация. Гравюра. 1540 г.
Мне хочется доказать себе, что умственный мой процесс в настоящее время, когда я стараюсь уяснить себе мое мировоззрение, действует в сущности тем же способом, как и в то время, когда я ничего другого не хотел знать, кроме фактов. Мне кажется, что резкое различие, делаемое между суждениями a priori[19 - Умозаключение, основанное на общих положениях, принимаемых за истинные, букв. – из предыдущего (лат.).] и a posteriori[20 - Умозаключение, делаемое на основании опыта, букв. – из последующего (лат.).], или между дедуктивным и индуктивным способами, есть чисто доктринерское и справедливо разве в крайностях, похожих на безумие. В сущности, априорист, так же как и эмпирик, берут за исходную точку своих суждений факт – factum, нечто для них обоих неопровержимое и приобретенное первоначально чувствами и опытом; различие только в том, что априорист дает впоследствии другое значение факту и опыту, и в приобретении своих знаний (которые без опыта невозможны) не ограничивается одними впечатлениями, доставляемыми ему внешними чувствами. У него играют более важную роль не столько непосредственные чувственные впечатления, сколько заключения, сложившиеся в уме и фантазии из этих впечатлений. Но так называемый рациональный эмпиризм, к последователям которого я отношу и себя, также не довольствуется одним собиранием приносимых чувствами впечатлений. Изобретая различные способы наблюдения и опыта, контролируя один опыт другим, рациональный эмпирик неминуемо пускает в ход фантазию, и умозаключения его почти никогда не могут удержаться в непосредственной (прямой) связи с чувственными впечатлениями, доставляемыми прямо опытом и наблюдениями. Всегда есть пробел между умозаключением и чувственным фактом, и, чтобы уменьшить, сколько можно, этот пробел, у нас нет другого средства, как повторение или скопление однородных фактов; а это средство подвергает нас заблуждениям, которые нередко вреднее увлечений фантазии, потому что обманывают нас своею кажущеюся точностью.
Как бы ни были отдельно локализированы наши чувства зрения, слуха, осязания, наша память, воображение, способность говорить, мыслить, хотеть, наше «я» есть в одно и то же время и нечто отдельное от них, и вместе с тем вмещающее все эти чувства и способности в себе. Наше «я» играет как будто на клавишах тех органов, функциям которых эмпиризм приписывает зрение, слух, память, слово и пр.; и, выражая своею игрою эти функции, наше «я» само участвует в них как нераздельное целое, связывая их и проявляя ими свое бытие.
VII
Писано 5 января [1880 г]. С нового 1880 года по 5-е января морозы –10–16 °R. Бури утихли. Ясно и безветренно. Вчера и сегодня иней на деревьях.
6 января [1880 г.]. Ясный зимний день с густым инеем на деревьях. Утром 11°. После хорошей утренней прогулки.
Прогуливаясь, я вспомнил, что слишком односторонне отнесся к знаменитому cogito, ergo sum [мыслю, следовательно существую], утверждая, что его нужно бы было заменить sentio, ergo sum [чувствую, следовательно существую]. Обращая себя всего на какой-либо предмет, превращаясь, как говорится, в зрение или слух, наше «я», устремленное таким образом во внешний мир, – в свое «не я», – продолжает, незаметно, может быть (при сильном сосредоточении внимания на внешний предмет), ощущать свое бытие; и это ощущение сопровождает его с колыбели, с того момента, когда оно начало отличать от себя свое «не я», вплоть до могилы; и даже при потере сознания, в бреду, во сне, это ощущение не может не продолжаться, хотя бы и в измененном виде. Но, кроме этого, не всегда для нас заметного ощущения нашего бытия, незаметным оно может сделаться, как и все другие наши ощущения, чрез привычку к бытию; наше «я» возводится из простого ощущения на степень мысли в том случае, когда оно, воспринимая внешние (мировые) и органические (приносимые органами) впечатления, приводит их в связь с ощущением в себе присутствия своих умственных способностей: внимания, памяти, воображения, слова и мысли.
Тогда наше «я» делается вполне сознательным, осмысленным и прочувствованным. Кондильяк[21 - Этьен Бонно де Кондильяк (1715–1780) – французский философ, выводивший все знания и духовные способности человека из ощущений.] утверждал, что человек без внешних чувств – статуя: это неправда; дыхание и без содействия внешних чувств должно ему сообщить ощущение бытия, поддерживая связь с внешним миром. Ощущение бытия непременно существовало бы и тогда, но было ли бы оно без содействия внешних чувств сознательным и осмысленным, – это вопрос. Сознание в себе памяти, мысли, воображения, без сомнения, возбуждается и поддерживается внешними и органическими чувствами; но нет причины, мне кажется, отвергать возможность этого сознания и при отсутствии внешних и органических чувств.
Я отвлекся и зашел слишком далеко, желая себе доказать, что хотя я до моего мировоззрения дошел не настоящим рационально-эмпирическим (индукционным) способом, но тем не менее, я считаю мое мировоззрение для меня равносильным факту.
10 января [1880 г.]. Продолжаются холода в 16–12 °R. Сегодня –7° и снег. Привезли елки и посадили. Мельница (новая) на Людвиговке в ходу.
Да, равносильным факту – фактическим – по силе убеждения я считаю мое воззрение. Что такое факт? Если держаться буквального смысла, то это то, что сделано, – factum, что совершено (поэтому fait accompli[22 - Совершившийся факт (фр.).] – плеоназм[23 - Плеоназм – речевое излишество, вкрапление в речь слов, ненужных со смысловой точки зрения (от греч. pleonasmos – излишество).]). В этом смысле факт должен быть чувственным. И действительно, если самое наше бытие есть ощущение, то в нас нет ничего, что бы не зависело первоначально от впечатлений, приносимых ощущениями.
Другие электронные книги автора Николай Иванович Пирогов
Сочинения. Том 1




 4.5
4.5