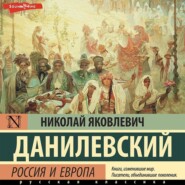По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Россия и Европа
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Другая наука, которая не достигла еще, правда, такой степени совершенства, как астрономия, но тоже перешла уже большое число фазисов развития и, отличаясь однородностью своего состава, очень ясно выказывает главные фазисы своего развития, – есть химия. И она без малейшей натяжки покажет нам совершенно тот же ход развития.
В древние времена и в так называемые средневековые столетия собирались только химические факты, частью при разных промышленных производствах, частью же под влиянием фантастических и мистических идей. Они вовсе не были сгруппированы между собою – ни искусственно, ни естественно, ни хорошо, ни дурно. Ибо Аристотелево понятие о четырех элементах не заключает в себе никакой химической основы, а имеет скорее биологический характер, так как воду, воздух, землю и огонь (понимая под этим последним теплоту, свет и вообще так называемые прежденевесомые) можно рассматривать только как источник, из которого происходят и в который возвращаются органические тела. Эти элементы, как нечто извне привнесенное, не могли служить, конечно, связующею нитью для химических явлений, известных алхимикам, и потому учение об элементах не заслуживает даже названия искусственной системы.
В период искусственной системы ввел химию немец Шталь, который поэтому может быть назван Гиппархом химии. Он придумал флогистон, который будто бы отделяется от тела при горении, так что продукты горения или окисления (ржавчины, извести, щелочи, окиси) суть тела простые, а металлы – их соединения с флогистоном. Эта система, столь же искусственная, как Гиппархова, подобно этой последней соединяла, однако, общей нитью все известные тогда химические явления и позволяла давать себе отчет в взаимодействиях друг на друга и вставлять вновь открываемые факты в ее рамку. Так вновь открытый хлор назвали обесфлогистоненною соляною кислотою и т. д. (…)
Гениальный француз Лавуазье ниспроверг всю эту (в свое время чрезвычайно полезную) путаницу, придав преобладающее, так сказать, центральное значение действительному кислороду, вместо мнимого флогистона, и этим поставил все на надлежащее место, соответствующее самой действительности. Лавуазье, следовательно, ввел в химию естественную систему – был Коперником химии.
И тут опять, точно так же, как в астрономии, вследствие естественности системы оказалось вскоре возможным отыскать частные связывающие начала, которые приводят во взаимную зависимость химические явления. Немец Венцель открывает законы соединения солей, француз Гей-Люссак – законы соединения газов в простых отношениях объемов, француз Пруст открывает самый плодотворный химический закон, по которому тела соединяются между собою не во всевозможных, а только в некоторых, весьма простых отношениях, единицами для которых служат определенные по весу количества, известные под именем пропорционалов, или паев; Дюлонг и Пети открывают отношения, связывающие эти пропорциональные веса с удельным теплородом. Все эти открытия носят на себе характер Кеплеровых законов и могут быть названы частными эмпирическими законами химии. В этот кеплеровский период развития введена химия не одним гениальным химиком, а несколькими более или менее талантливыми или гениальными учеными. Общего рационального закона химия еще не имеет. Дальтонова атомистическая теория, хорошо объясняющая законы пропорциональных весов и объемов, не вполне ограждена от возражений, а главное, нисколько не объясняет самого химического сродства, степень которого может быть узнаваема только эмпирическим путем и не находится ни в какой известной зависимости от атомистического веса и других свойств, приписываемых атомам. Для этого была придумана так называемая электрохимическая теория, которая также оказалась несостоятельной, и потому должно признать, что химия не вышла еще из кеплеровского периода развития периода частных эмпирических законов.
(…) Переходя к физике, мы найдем, что эта наука, давно уже достигшая высокой ступени совершенства, отличалась, в противоположность астрономии и химии, чрезвычайной разнородностью состава, так что не только различные ее части всегда стояли на весьма разных ступенях развития, но даже трудно было найти такое определение этой науки, которое бы ясно и точно выражало ее содержание, и должно приписать скорее счастливому инстинкту ученых, чем сознательной идее, то обстоятельство, что весь этот разнородный комплекс фактов и учений оставался постоянно подведенным под общий свод одной науки физики. Только открытия самого новейшего времени оправдали этот, так сказать, научный инстинкт. Благодаря этим открытиям, можно дать физике самое краткое, простое, а вместе точное и ясное определение. Это есть наука о движении вещества, если считать равновесие частным случаем движения, – в параллель или, пожалуй, в противоположность с химией, которая есть наука о веществе в самом себе. Движение это двоякое: или оно состоит в ощутительном перемещении в пространстве, или же в колебательном движении частичек внутри тела, обнаруживающемся для наших чувств – как теплота, свет, а вероятно, и электричество. Переход между этими двумя родами движения составляют волнообразное движение капельных жидкостей и звук, так как характер движения и тут тот же, что и при так называвшихся невесомых, но движению подлежат не самые интимные частички тел, и с ним сопряжено ощутимое перемещение, как, например, в дрожащей струне. Учение о движениях первого рода, составляющее предмет первой части физики (как принято это называть в изложениях этой науки), состоит из приложения математического анализа, из отдельных наблюдений над некоторыми свойствами тел и из приложения теорий, выработанных другими науками (теория притяжения, химическая теория). Поэтому, не имея самостоятельности, эти учения не могут ясно выказать излагаемого здесь хода развития. Что касается до учения о невесомых, то первенствующую руководительную роль играла в нем оптика, и в развитии этой частной науки ясно выражается ход его.
За сбором фактов, из которых к некоторым было приложено математическое построение (отражение и преломление света), последовала их искусственная систематизация Ньютоном посредством теории истечения. Почти одновременно с ним применил голландец Гюйгенс к световым явлениям естественную систему, известную под именем теории волнений. Многие законы, открытые Малюсом, Френелем, Юнгом, Фрауэнгофером, составили период частных эмпирических законов, которые утвердили эту естественную систему. Учение о теплороде следовало за успехами оптики: большая часть оптических явлений и законов (даже интерференция) были отысканы и в явлениях теплородных, преимущественно итальянцем Меллони. С другой стороны, указана была связь явлений, собственно, так называемого электричества, гальванизма и магнетизма Эрстедом, Араго и Ампером, а также и связь с теплородом и даже светом – Меллони и Фарадеем. Наконец, первенство в развитии, долгое время принадлежавшее оптике, перешло к учению о теплороде. Предварительными трудами Румфорда, а главное, гениальными соображениями немецкого ученого, доктора Майера и опытами англичанина Джуля учение о теплороде, а вместе с ним и о свете были возведены на ньютоновскую ступень развития общего рационального закона сохранения движения, по которому так называемые невесомые вещества лишаются своей самобытности, а являются лишь видоизменением движения, переходящего из перемещения тела в пространство во внутреннее колебание или дрожание частиц, в свою очередь, могущее переходить в движение в тесном, общепринятом смысле этого слова. Тут (как сама сила притяжения в Ньютоновом законе) остается непонятным только гипотетический эфир, который служит передаточным средством для этих движений. Этому учению остается только развиваться и применяться с тем же успехом к явлениям электричества и его видоизменений. Таким образом, специальный предмет физики учение о невесомых – вступило первым, после астрономии, в высший фазис научного развития.
В ботанике опыты установления системы начались с XVII или с XVI столетия, но вполне удалось это великому шведу Линнею. Введенная им система была вполне искусственная и составляет даже как бы тип искусственной системы, представляя все ее достоинства (т. е. большое удобство и простоту в подведении под нее классифицируемых предметов) и вместе с тем чрезвычайную неестественность, соединение разнородного, разделение сродного, одним словом, поставление предметов не в ту взаимную связь, которая существует между ними в действительности. Но и тут искусственная система имела то же выгодное влияние на развитие науки, как и всегда. Явилась возможность группировать факты, пользоваться трудами предшественников и свои собственные труды передавать другим в общей связи со всем материалом науки, и результаты оказались те же. Рамка искусственной системы скоро сделалась узка: втиснутые в нее факты сами ее разорвали. Гениальные французы Адансон и два Жюссье, дядя и племянник, установили в ботанике естественную систему и тем не только ввели свою науку в новый коперниковский период развития, но (по словам Кювье) произвели переворот во всем естествознании, потому что естественная система растений не только послужила примером для зоологии, но дала возможность обобщать, в должной именно мере, все анатомические и физиологические наблюдения и опыты, производимые над растениями и животными. Без естественной системы невозможны ни сравнительная анатомия, ни сравнительная физиология (как растительная, так и животная). Кроме того, так как в растительном мире видимость мало соответствует существенному морфологическому характеру растений, то установление естественной системы не могло быть здесь чем-либо случайным, счастливой догадкой, а требовало выработки самой теории естественной системы (принятие во внимание всех признаков предметов, взвешивание относительного достоинства этих признаков и т. д.). Это и было сделано ботаникой, а затем усовершенствовано зоологией (установлением типов организации) – для примера и руководства всем прочим наукам.
В зоологии искусственная система была также введена Линнеем. Здесь надо заметить, что, по самой сущности дела, искусственных систем может быть очень много, одновременно существующих или последовательно заменяющих одна другую. Так и в астрономии, кроме системы Гиппарха, усовершенствованной и усложненной Птоломеем, была еще система египетская, и даже после Коперника появилась еще искусственная система Тихо де Браге, желавшего примирить привычную ложь, от которой трудно было отказаться, с истиною. Так и в ботанике, и в зоологии было несколько искусственных систем, но я беру здесь за грань двух периодов развития только ту из них, которая полнее других выразила идею и цель искусственной системы и которая, следовательно, в сильнейшей степени оказала то влияние на развитие науки, которое вообще свойственно искусственной системе.
Введению естественной системы обязана зоология Кювье. В противоположность искусственной системе естественная система, как и все истинное, может быть только одна, но она может беспрестанно усовершенствоваться, все более и более приближаясь к выражению того соотношения предметов и явлений, которое существует в самой природе. Говоря об естественной системе, надо сделать еще замечание, которое нам пригодится. Именно, Линнеева зоологическая система не была вполне искусственною. Высшие отделы животного царства установлены Линнеем вполне естественно. Но это зависело от того, что характеры главных естественных групп высших животных так резко напечатлены самою природою, что не признать их не было никакой возможности. Эти группы были верно установлены еще Аристотелем; можно даже сказать, что они никогда и никем в особенности установлены не были, а всегда были ясны и для простого неученого человека: звери, птицы, рыбы – возможно ли неверно схватить характеры этих групп? Это уже возможнее относительно пресмыкающихся (змей, ящериц, черепах, лягушек), и в них и была сделана Линнеем ошибка. Если бы различие в характере прочих животных было столь же резко запечатлено во внешней форме, как в животных высших, то искусственная система, по самой силе вещей, была бы невозможна. Поэтому может случиться, что иная наука перескочит в своем развитии через ступень искусственной системы. Мы скоро увидим тому пример.
Минералогия есть собственно учение о морфологических явлениях неорганического царства; своей физиологии она не имеет, ибо она совпадает с химией и отчасти с физикой. Первый опыт классификации минеральных форм, который можно признать системою, принадлежал великому немецкому ученому Вернеру, и его система опять-таки была искусственная и оказала то же влияние на эту отрасль знания, как ботаническая и зоологическая классификация Линнея, привлекши к ней значительное количество ученых сил. Французскому аббату Гаюи принадлежит честь установления естественной морфологии минералов. За ним некоторые немецкие ученые – Моос, Розе, особенно же Митшерлих – открыли частные эмпирические законы, обусловливающие формы кристаллов, и именно Митшерлих открытием изоморфизма указал на связь между формами кристаллов и химическим составом тел. Но общий принцип образования кристаллов, рациональная зависимость наружной формы от внутреннего расположения частиц остаются еще неизвестными.
Тот же Вернер представил первую научную систему геологии, явления которой до того времени приводились в связь только для подтверждения или опровержения библейского сказания о Днях творения или же служили основой для разных фантастико-космогонических мечтаний. Система Вернера, желавшая все произвести из вод, оказалась искусственною, но влияние этой системы на развитие науки было так велико, что введенные Вернером термины: первозданных, флецевых гор, первичных, вторичных, переходных образований, доселе сохранились в науке. Шотландец Гуттон и его последователи поставили на подобающее место воду и огонь, Нептуна и Вулкана, в образовании земной коры и тем ввели науку в период естественной системы, в котором она теперь и находится.
Мы обозрели, таким образом, весь круг естествознания и, как мне кажется, без малейшей натяжки подвели все относящиеся сюда науки под тот общий план развития, который с такою ясностью выказывается в астрономии. Из прочих наук только одна еще сравнительная филология, или лингвистика, причисляемая некоторыми также к числу наук естественных, достигла достаточной степени совершенства, чтобы в ней можно было указать на несколько перейденных эволюционных фазисов.
До конца прошедшего столетия вся обширная область языкознания представляла лишь массу научного материала, не приведенного в взаимную связь. Как в геологии, так и тут некоторые теоретики подчиняли факты извне почерпнутому началу – узко понятому богословскому воззрению, по которому еврейский язык должен был быть первым языком человечества, от которого проистекли все остальные, что, конечно, доставляло обширное поприще произволу и натяжкам.
Открытие санскритского языка произвело переворот в этой науке. Тут случилось то же, на что я указывал, говоря о зоологической системе Линнея по отношению к высшим животным. Первый знаток санскритского, англичанин Вильсон, обладая знанием языков греческого и латинского и своего родного языка (отрасль германского корня), не мог не заметить соединявшего их сродства, что и высказал совершенно определительно. Поэтому первая систематизация языков оказалась естественною. Ступень искусственной системы была тут перешагнута, и языкознание прямо перешло в период естественной системы из периода собирания материалов. Но и естественная система, по самой ее легкости и очевидности, не могла долго останавливать на себе внимания, и потому, вслед за английскими санскритистами, немецкие филологи Бопп и Гримм (относительно немецкого языка) ввели свою науку в период частных эмпирических законов, состоящих в законах фонетического изменения звуков, при этимологической деривации языков. В отдельной группе языков романских, происшедших заведомо от латинских или древнеитальянских наречий, также не было места искусственной системе. Естественная система дана была тут самою историей. В прочих группах языков повторяется только тот ход научного развития, который начался с группы языков арийских.
Из прочих наук логика и чистая математика, не имея внешнего объекта и состоя, так сказать, из чистого диалектического развития мысли, не только не представляют тех фазисов развития, которые выводятся из истории прочих наук, но даже по самой сущности своей не могут представлять никаких переворотов в своем прогрессивном ходе. Между тем как науки объективные исходят от данных видимого мира, представляющихся во всей их сложности и раздробленности, и постепенною группировкою восходят к более общим и простым началам, точкой отправления наук субъективных служат именно простейшие начала, так сказать, присущие нашему уму, из которых все дальнейшее развитие проистекает как следствие. Эти науки, следовательно, суть науки выводные, дедуктивные. Затем остальные науки суть или науки прикладные, несамостоятельные (как, например, терапия, агрономия, технология и проч.), которые заимствуют свои начала и свои материалы из других отраслей знания и прикладывают их только к известным целям, или (как науки общественные, исторические, философские) находятся то в периоде собирания материалов, то в периоде непрестанной замены одной искусственной системы другою.
Замечательно, что для четырех из пяти периодов развития результаты, достигнутые в предыдущем периоде, сохраняют все свое значение и в последующих; организм науки только дополняется. Исключение составляет только второй период – период искусственной системы. Он похож на те преходящие органы животных, которые играют лишь временную роль, как, например, вольфовы тела, исчезающие. после зародышного состояния, не оставляя после себя следов. В самом деле, Ньютонов закон не устраняет из астрономии законов Кеплеровых, ни эти последние – системы Коперника; даже все частные наблюдения, сделанные александрийскими или халдейскими астрономами, сохраняют всю свою силу для науки. Но системы Гиппарха, Птоломея, Тихо де Браге теперь как бы не существуют для науки; они остались лишь в истории и в ней только изучаются. То же самое относится к системам Шталя, Вернера, Линнея, к Ньютоновой теории истечения. В этом смысле, кажется мне, должно понимать то положение, что факты в науке остаются, а теории преходящи. Преходящи не все теории, а те только, которые имеют соотношение к периоду установления искусственной системы; эта система как бы соответствует лесам и подмосткам научного здания, которые потом снимаются, но без которых здания невозможно было бы построить. С другой стороны, искусственная система составляет в известном смысле, может быть, самый полезный и плодотворный шаг в развитии самой науки. Она придает собранному материалу единство, выводит его на свет Божий, лишает характера таинственности, отдельных рецептов и формул, составляющих лишь собственность так называемых адептов, – делает массу фактов доступной всякому, желающему посвятить свои труды и силы какой-либо отрасли знания. Хотя эта система примешивает по необходимости нечто ложное к сумме добытых фактов, но она же дает и средство разрушить, устранить это ложное постановлением его в противоречие с самим собою. Поэтому только с введением искусственной системы знание получает достоинство науки. Но в этом периоде науке предстоит опасность вращаться в ложном кругу, заменять одну искусственную систему другою, не подвигаться существенным образом вперед. Эта опасность устраняется только введением естественной системы, после чего наука, так сказать, входит в правильное русло.
После этого длинного отступления я наконец перехожу к выводам относительно влияния, оказываемого особенностями национального психического строя на науку. Мы рассмотрели историю развития девяти наук и отметили в них в совокупности 33 периода, или фазиса, развития, разграниченных 24 научными реформами. Национальность того ученого или тех ученых, которые возвели свою науку на непосредственно высшую ступень развития, мы с намерением всегда отмечали. (…) Именно, обращая внимание лишь на народы, бывшие главными деятелями в науке, – на немцев, англичан и французов, мы видим, что англичане более или менее содействовали возведению наук на все четыре ступени их развития; немцы оказали преимущественное участие в возведении наук на ступень частных эмпирических законов, ибо более или менее участвовали в этом труде во всех науках, достигших этого периода развития; вместе с англичанами разделяют они славу возведения наук на высшую ступень их совершенства; в четырех случаях из восьми были единственными деятелями или главными участниками в искусственной систематизации знаний, но ни одной науки не ввели в период естественной системы. Совершенно напротив того, французы были главными деятелями в сообщении движения наукам в периоде естественной системы, именно, из девяти случаев в пяти, и ни в одной науке не установили искусственной системы.
Из этого мы видим, во-первых, что роль каждой из трех национальностей в общем научном движении совершенно соответственна степени различия их национального характера, так что между французами и немцами замечается наибольшая противоположность, а англичане, которые и этнографически и лингвистически соединяют немцев с французами, занимают и тут как бы посредствующее звено. Во-вторых (и это главное), неучастие немцев в возведении наук на степень развития естественной системы, сильное участие их в установлении систем искусственных и, напротив того, преобладающее участие французов в естественно-систематическом периоде научного развития и совершенное их неучастие в периоде искусственно-систематическом – изъясняются самым удовлетворительным образом общепризнанными особенностями в психическом строе этих двух богато одаренных народов.
Мы видели, что искусственная система почти всегда предшествует естественной. Это зависит от того, что весьма мало вероятия на то, чтобы в неприведенной в порядок груде материалов можно было прямо схватить между ними все сходства и различия и притом каждое из них должным образом взвесить и оценить. Гораздо вероятнее, что сначала бросится в глаза какой-либо признак, кажущийся почему-либо преобладающим. Так, в астрономии этим преобладающим признаком была сочтена обманчивая видимость явлений; в химии – также обманчивая видимость отделения чего-то при горении, что и было названо Шталем флогистоном. Но это только одна из причин искусственности систем, так сказать, причина объективная, проистекающая из самой сущности группируемых данных. Но есть и другая причина – причина субъективная, зависящая от психического строя классификатора. Если он одарен способностями по преимуществу умозрительными, то сложность отношений между предметами мало удовлетворит его; она будет казаться ему неразумной случайностью. Он будет непременно отыскивать насквозь проницающее начало, ein durchgreifendes Princip, как говорят немцы, и, думая, что нашел его, подвергнет его всем видоизменениям диалектического процесса развития, будет варьировать эту тему на все лады и подводить под эти вариации своей главной темы все разнообразие классифицируемого. Но это и есть способ, неминуемо ведущий к искусственной группировке предметов. Поэтому, когда естественная система была уже установлена и в ботанике и в зоологии и оставалось бы только все более и более ее усовершенствовать, – она мало удовлетворяла умозрительные умы, и они старались переделать ее на свой лад, втиснув в свои логические категории, в рамку какого-либо диалектически развиваемого, якобы насквозь проницающего начала. Так, Окен, исходя из того начала, что животное царство должно дифференцироваться, или расчленяться, аналогически с расчленением отдельного и притом наиболее совершенного животного организма, – составил группы головных, грудных, брюшных животных, в которых как бы преобладает характер головы, груди или брюха. Каждая из этих групп может быть (по системе Окена) типическою или составлять переходы к прочим, и потому являются животные голово-головные, голово-брюшные, голово-грудные, брюхо-брюшные, брюхо-грудные, брюхо-головные и т. д., все в том же роде. Другой немецкий ученый, на этот раз ботаник, Рейхенбах, уже в последней половине тридцатых годов думал найти этот насквозь проницающий принцип деления прямо в диалектической методе Гегелевой логики. Он отличает сначала формы, в которых будущее диалектическое развитие заключается еще как бы в зерне, находится еще в состоянии безразличия, что называет prothesis. Развитие его протезиса ведет к установлению типической формы thesis и ее противоположности antithesis, которые затем как бы примиряются в высшем единстве synthesis. В каждой из растительных групп, будто бы соответствующих этим протезису, антитезису и синтезису, конечно, повторяется тот же самый диалектический процесс.
Оставя в стороне то, что есть странного и утрированного в этих примерах, не так ли точно располагаются по строгой системе пишущиеся диссертации? Здесь это не составляет недостатка, потому что идея, положенная в основание деления, может быть, действительно, составляет мысль, которая насквозь проникает всю диссертацию; но чтобы идея, подкладываемая бесконечно разнообразной природе, действительно имела это качество и действительно так же бы варьировалась или диалектически развивалась, как ее варьирует и развивает систематик, – на это нет никакого вероятия.
Понятно, что такое направление ума, которым немцы особенно отличаются, вовсе не благоприятно для схватывания и оценивания признаков, предметов и явлений без предвзятой идеи. Напротив того, французы, менее искусные диалектики и глубокие мыслители, имеют более отверстый ум для непосредственного восприятия внешних впечатлений и их комбинаций по степеням действительно существующего между ними сродства, причем отсутствие всепроницающего начала не тревожит их ума. Посмотрите, как устанавливается естественная система в ботанике, где ее всего труднее было установить. Бернард Жюссье был смотритель королевского сада, т. е. садовник. Он подыскивал те формы, которые, на его физиогномический взгляд, гармонировали между собою, и сажал их близко друг к другу, постепенно исправляя свои ошибки, а его племянник научно устанавливал группы, составленные таким физиогномическим путем. – Но ежели умозрительное направление ума и одержание его какою-либо все подчиняющею себе идеей мало благоприятствуют установлению естественной системы в какой-либо области знания, они поистине драгоценны при открытии как частных, так и общих законов природы, происходящем почти всегда путем умозрения. Кеплером всецело владела мысль, что планеты совершают свои пути согласно каким-либо гармоническим сочетаниям, и он старается подвести отношение между расстояниями и временами обращения планет то под отношения между различными измерениями правильных геометрических тел, то под законы музыкальной гармонии и, наконец, под влиянием этого одержания идеей, отыскивает свои бессмертные законы.
За результат всех этих многочисленных примеров должно, кажется, принять, что плоды науки суть действительно достояние всего человечества в большей мере, чем прочие стороны цивилизации, которые в такой полноте не могут передаваться от народа к народу, особенно же – от одного культурно-исторического типа другому, но что самое произращение этих плодов, т. е. обработка и развитие наук, носит на себе не менее национальный характер, чем искусство, народная и государственная жизнь. Но различием в субъективных свойствах (в психическом строе) народностей, обрабатывающих науки, не исчерпываются еще все причины, по которым и развитие науки носит на себе национальный отпечаток. В некоторых науках сам объект их существенно национален. Таковы все науки общественные.
Чтобы доказать национальность характера наук вследствие особенностей психического строя, присущего разным народностям, мы прибегли, между прочим, к изложению хода их исторического развития; для доказательства высшей степени национальности некоторых наук, – национальности, проявляющейся не только в субъективном, но и в объективном смысле, – прибегнем к классификации наук; но в этом отношении не будем далеко ее проводить, а остановимся на том только, что нам нужно для нашей частной цели.
За главное деление наук должно, кажется мне, признать их субъективный или объективный характер, разумея под науками субъективными такие, которые не имеют внешнего предмета, а суть, по существу своему, изложение самого хода человеческого мышления; таковы только математика и логика. Все прочие науки имеют внешнее содержание, и оно обусловливает их характер.
Некоторые из этих наук могут быть названы общими или теоретическими, потому что они имеют своим предметом общие мировые сущности, безотносительно к специальным формам, в которые они облечены. Таких общих мировых сущностей три: материя, движение и дух. Изучение материи самой в себе составляет предмет химии; изучение движения – предмет физики; изучением духа, безотносительно к его частным проявлениям, должна заниматься метафизика. Однако не только существование, но даже самая возможность существования такой науки весьма сомнительна. Чтобы возможно было изучение законов духа вообще, нужно бы иметь, по крайней мере, несколько духовных существ, дабы мочь элиминировать то, что в них случайно (то, что зависит от образа соединения духа с материей и от организации этой материи), от того, что существенно принадлежит духу, как духу. Но мы знаем лишь одно духовное существо – человека; поэтому, кажется, осторожнее заменить метафизику психологией. Но возможна ли или невозможна метафизика, – которая (в параллель с химией) была бы наукою о духе безотносительно к его проявлениям в соединении с известными формами, – для нас важно теперь лишь то, что психология представляет нам такие явления, которые не подводятся под законы материи и ее движения. Поэтому все первоначальные, самобытные законы, которым подлежит вся область нашего знания, почерпаются только из трех наук: химии, физики, психологии. Если астрономические исследования привели к открытию закона тяготения, то этот закон тем не менее есть закон физический, а не специально-астрономический.
Затем все остальные науки имеют своим предметом лишь видоизменения материальных и духовных сил и законов – под влиянием морфологического принципа, о котором мы заметим только, что он так же точно не проистекает из свойств материи и ее движения, как паровая машина не проистекает из расширительной силы пара. Морфологический принцип есть идеальное в природе. Развивать мысль эту здесь не у места. Для нас важно то различие, которое проистекает для характера наук, имеющих своим предметом общие мировые сущности: материю, движение и дух, от тех, которые рассматривают лишь их разнообразные осуществления под влиянием морфологического принципа. Это различие заключается в том, что только первые науки могут вырабатывать общие теории, остальные же могут отыскивать лишь частные законы, простирающиеся на более или менее обширные группы предметов или существ, расположенных по естественной системе, но ни в каком случае не объясняющие всех их собою. Для пояснения сделаем сравнение некоторых химических законов (с одной стороны) с физиологическими законами (с другой).
Химия говорит нам, что тела соединяются не иначе как в определенных для каждого тела по весу количествах, известных под именем химических пропорционалов, паев или атомистических весов. И мы вполне убеждены, что так же точно происходят эти соединения на Луне, Солнце, Юпитере, Сириусе и в отдаленнейших туманных пятнах. Так же точно мы уверены, что свет, проходя через прозрачные средины, преломляется, что от полированных поверхностей он отражается, сохраняя равенство угла падения с углом отражения, где бы это отражение ни происходило – на Земле ли или на звездах Медведицы, и откуда бы свет ни исходил – от лампы, от Солнца или от любой звезды. Но из физиологических законов общи для всех животных или растений только те, которые обусловливаются всем им общими химическими и физическими свойствами, как, например, весом. На что казался общим закон, что размножение живых существ состоит в воспроизведении себе подобных, а между тем так называемая перемежаемость поколений (Generations-wechsel) показывает нам, что есть множество существ, у которых не дети походят на родителей, а только внуки – на дедов или правнуки – на прадедов. На что также общим казался закон, что при половом размножении необходимо присутствие двух элементов: мужского и женского, разъединенных в двух индивидуумах или соединенных в одном, а между тем явления партеногенезиса, или деворождения, показывают нам, что даже совершенно девственные самки бабочек кладут яйца, из которых развиваются вполне образовавшиеся животные. Следовательно, и эти казавшиеся столь общими для всего живого законы применимы лишь к некоторым группам известной обширности. Если относительно других законов не делали подобных же обобщений, то только потому, что с самого начала физиологических исследований им подлежали уже существа довольно разнородные. Но представим себе, что мы не знали бы ни одного водяного животного. Мы, без сомнения, утверждали бы, что всякое живое существо, погруженное в воду, непременно задохнется, ибо не может дышать в воде; мы думали бы, что легкие и, пожалуй, воздухоносные трубочки (трахеи) суть единственно возможные органы дыхания, и, конечно, никогда не придумали бы жабр путем теории.
Этих примеров достаточно, чтобы показать, что только химия, физика и наука о духе могут быть науками теоретическими, что не может быть теоретической физиологии или анатомии, а только физиология и анатомия сравнительные. Точно то же относится к наукам филологическим, к историческим и, наконец, к общественным. Общественные явления не подлежат никаким особого рода силам, следовательно, и не управляются никакими особыми законами, кроме общих духовных законов. Эти законы действуют особым образом, под влиянием морфологического начала образования обществ; но так как эти начала для разных обществ различны, то и возможно только не теоретическое, а лишь сравнительное обществословие и части его: политика, политическая экономия и т. д.
Что невозможна общая теория устройства гражданских и политических обществ – это сознано давно, и мало уже таких доктринеров, которые бы думали, что, например, английское государственное устройство есть некий идеал, которого все должны стремиться достигнуть, что между государствами (или вообще обществами) есть, так сказать, только различие возрастное, а не качественное. Но один уголок общественных наук упрямо сохраняет это доктринерство – именно политическая экономия. Она думает, что всякое господствующее в ней учение есть общее для всех царств и народов, что, например, так как нет земледельческой общины в тех обществах, которые эта наука изучила и на изучении которых выводила свои теории, то общины и нигде быть не должно, что она составляет явление анормальное. Политическая экономия утверждает, что так называемая свободная торговля, которая есть выгоднейшая форма мены для Англии, где эта наука изучала торговые и промышленные явления, должна непременно применяться и к Америке, и к России. По-моему, это то же самое, как бы утверждать, что дышать можно только жабрами или только легкими, невзирая на то, живет ли животное в воде или на суше. Теоретическая политика или экономия так же невозможна, как невозможна теоретическая физиология или анатомия. Все эти науки и вообще все науки, за исключением трех вышеупомянутых, могут быть только сравнительными. Следовательно, за неимением теоретической основы каких-либо особенного рода самобытных, непроизводных экономических или политических сил и законов – все явления общественного мира суть явления национальные и как таковые только и могут быть изучаемы и рассматриваемы. Они, конечно, могут и должны быть сравниваемы между собою, и из такого сравнения могут проистекать правила для более или менее обширной группы политических обществ, но никогда политическое или экономическое явление, замечаемое у одного народа и там уместное и благодетельное, не может считаться уже по одному этому уместным и благодетельным у другого. Это может быть, но может и не быть. Следовательно, общественные науки народны по самому своему объекту.
Итак, мы можем заключить, что и наука может быть национальна, но что в разных науках степень национальности различна. Национальность менее всего проявляется в науках, простых по своему содержанию или очень высоко стоящих по своему развитию, – в таких науках, к которым приложимы строгие методы исследования. Эти методы и составят препятствие к проявлению народности или вообще индивидуальности в несколько значительной степени. Здесь роль народности ограничивается почти лишь способом изложения и выбором методы исследования, если таких приложимых метод несколько. Роль народности в науках увеличивается по мере усложнения предмета, не допускающего введения точной и строгой методы. Если науки эти не принадлежат к разряду наук общественных, то причина национального характера, который они могут и должны принимать, зависит от особенности психического строя каждой народности, в особенности же каждого культурно-исторического типа. Наиболее же национальный характер имеют (или, по крайней мере, должны бы иметь для успешности своего развития) науки общественные, так как тут и самый объект науки становится национальным. Это, как само собою разумеется, относится и к наукам словесным, но об них и говорить нечего, так как никто никогда не утверждал, что правила немецкой грамматики обязательны и для русского языка.
Глава VII. Гниет ли Запад?
Вероятно ли в настоящее время появление новой (славянской) культуры? – Что такое гниение? – В каком периоде развития находятся европейские общества? Момент высшего развития сил; результаты его наступают позже. – Пример Греции, Рима, Индии. – Определение эпохи, в которой находится цивилизация Европы
О, никогда земля, от первых дней творенья,
Не зрела над собой столь пламенных светил.
Но, горе – век прошел – и мертвенным покровом
Задернут Запад весь. Там будет мрак глубок…
Услышь же глас судьбы, воспрянь в сиянье новом,
Проснися, дремлющий Восток.
Хомяков
В предыдущих главах я старался показать, что одно различение и сопоставление исторических событий по ступеням возрастного развития, по ступеням совершенства, противоречит правилам естественной системы, ибо не объемлет всего многообразия этих явлений и необходимо ведет, точно так же, как в зоологии, ботанике, к искусственной системе построения науки; что необходимо присоединять к этому делению по степеням развития на периоды древней, средней и новой истории или на более многочисленные группы качественное различие культурно-исторических типов как высший принцип деления. Я старался далее определить те признаки, которые обусловливают эту группировку исторических явлений, и такими признаками оказались крупные этнографические различия, на основании которых человечество разделяется на несколько больших групп. Одну из этих групп составляют народы славянского семейства, которые представляют ту же меру различия, как и группы санскритская, иранская, эллинская, латинская, германская. Из этого следует, что и славянское семейство народов образует столь же самобытный культурно-исторический тип, как и только что поименованные племена, и ежели откажется от самостоятельного развития своих начал, то и вообще должно отказаться от всякого исторического значения и снизойти на ступень служебного для чуждых целей этнографического материала, – и чем скорее, тем лучше. Для устранения некоторых недоразумений мне казалось небесполезным сделать довольно длинное отступление, чтобы уяснить отношения народного к общечеловеческому, как вообще, так и в частности относительно развития научного, против народности в котором обыкновенно всего более восстают. Характер употреблявшихся мною доказательств был внешний, так сказать, формальный. Я не касался ни сущности славянского характера, ни сущности характера прочих культурно-исторических типов, а только старался показать, что ежели степень различия славянского семейства от прочих этнографических семейств человечества вообще и в особенности семейств арийского корня равнозначительна с различием их между собою, то и проистекающие из сего коренного различия разности в ходе культурно-исторического развития должны быть также равнозначительны. Против такой методы доказательств, кажется мне, можно сделать только следующее возражение. Действительно, аналогия говорит за самобытную славянскую цивилизацию; но славянское племя может составлять исключение, не имея в себе достаточных особенностей, чтобы развить, выработать эту самобытную культуру. Это возражение часто и делают, требуя категорического ответа на то, в чем именно будет состоять эта новая цивилизация, каков будет характер ее науки, ее искусства, ее гражданского и общественного строя и т. д. В таком виде возражение это совершенно нелепо, ибо удовлетворительный на него ответ, если бы он был возможен, сделал бы самое развитие этой цивилизации совершенно излишним. В общих чертах, насколько это возможно сделать на основании существенного характера доселе бывших цивилизаций, в сравнении с теми зачатками ее, которые успели уже выразиться в славянском культурно-историческом типе, я постараюсь представить ответ и на этот затруднительный вопрос, но до этого посильного ответа предстоит пройти еще длинный путь. А теперь мы должны обратиться к исследованию не более или менее вероятных результатов этого будущего векового развития, а тех основных различий, которые существуют между типом славянским и германо-романским, или европейским, так как в этом различиии состоит весь вопрос. Исчерпать всю сущность этого различия я также не надеюсь, но желал бы представить некоторые его черты, главнейше на основании выработанного уже славянофильскою школою, с некоторыми, может быть, дополнениями, которые удастся мне сделать. Но прежде чем вступить на этот путь, мне хотелось бы устранить еще одно, в сущности, неважное возражение, которое, имея также характер формальный, должно найти свое место, прежде чем вступим в иной порядок мыслей и доказательств.
Возражение это, о котором также много препирались в былое время, состоит в следующем. Если славяне имеют право на культурно-историческую самобытность, то надо сознаться, что они имели несчастье явиться со своими требованиями в весьма неблагоприятное для таких притязаний время. Запад, Европа, находится в апогее своего цивилизационного величия, блеск его идет во все концы земли, все освещает и согревает исходящими из него светом и теплотою. Удобное ли это время для скромных задатков новой культуры, новой цивилизации? Да и зачем она, когда та, которую мы видим, так могущественна, находится в полноте своих сил, и не видно, чтоб они слабели, чтобы ощущалась потребность заменить ее чем-либо новым? Европа ведь не императорский Рим или Византия. Неужели же можно не в шутку утверждать, как то некогда делали Хомяков и Киреевский, что Запад гниет? Сами славянофилы, по-видимому, отказались от этой экстравагантности. Защищать такие парадоксы – не значит ли хотеть быть plus royaliste gue le roi?
Возражение это назвал я, в сущности, неважным. Разве не повторялось уже несколько раз, что во времена блеска одной культуры зарождалась новая? Не тогда ли начал Рим свое торжественное шествие, когда Греция озарялась полным блеском цивилизации и тщилась, хотя, конечно, и неудачно, передать ее отдаленнейшим народам Востока? Собственно говоря, идеальным порядком вещей на земле был бы тот, когда бы все великие этнографические группы, на которые разделено человечество, одновременно развили лежащие в них особенности направления до культурного цвета; когда бы древние Китай, Индия, Иран, возмужалая Европа, юное славянство и еще более юная Америка разом выказали всю полноту и все разнообразие заключающихся или заключавшихся в них сил, которые бы усугублялись плодотворным взаимодействием друг на друга. Такое состояние вселенской культуры имело бы только один недостаток со всемирно-исторической точки зрения. Сколько оно выигрывало бы в отношении пространственного протяжения, столько теряло бы во временной последовательности и тем противоречило бы требованиям экономии, всегда соблюдаемой природою. Ни одна культура не может быть вечною, и ежели бы все разом проливали свет свой, то все разом (или почти разом) и померкли бы, и мрачная ночь варварства распространилась бы над всей землей, так что новой культурной жизни не у чего бы было и зажечь свой светильник. Как в начале, пришлось бы добывать огонь цивилизации трудным и медленным трением дерева об дерево. Поэтому, хотя мы и не видим, почему бы не существовать еще раз двум самобытным цивилизациям одновременно бок о бок, однако же более склонны думать, что ежели вызывается культурная жизнь нового исторического типа, то, должно быть, жизнь старого угасает. Не в этом ли и главное объяснение вражды, инстинктивно чувствуемой прежним историческим деятелем к новому – предшественником к преемнику? Сама мысль, высказанная славянофилами о гниении Запада, кажется мне совершенно верною, только выразилась она в жару борьбы и спора слишком резко и потому с некоторым преувеличением.
Гниение есть полное разложение состава органических тел, и притом с выделением разных, неприятно действующих на орган обоняния, газов. Этот последний, весьма несущественный, признак гниения и обращал на себя преимущественное внимание наших западников, как бы наносил им самое чувствительное оскорбление. В полемических статьях того времени с насмешкою говорилось о химиках, не умевших отличать гниения от жизненного брожения.
Невежество тут было на стороне не этих химиков, а тех остроумцев, которые видели существенное различие между гниением и каким-то жизненным брожением, которого, как известно, в природе не существует. Всякое брожение есть разложение, то есть переход из сложных форм организованного вещества в более простые формы, приближающиеся к неорганическим формам соединений. Следовательно, гниение ли, брожение ли, – это в рассматриваемом нами отношении решительно одно и то же. Если брожение, то и разложение форм – вещественных ли соединений или общественного быта. Чтобы из такого разложения на элементы составилась новая органическая форма, необходимо присутствие образовательного принципа, под влиянием которого эти элементы могли бы сложиться в новое целое, одаренное внутренним оживотворяющим началом. Но на такой принцип не было указано, а в этом-то сущность дела. Впрочем, мы пойдем гораздо далее в наших уступках. Искренно и охотно скажем, что явлений полного разложения форм европейской жизни, будет ли то в виде гниения, то есть с отделением зловонных газов и миазмов, или без оного – в виде брожения, еще не замечается. Дело не в этом. Оставив преувеличения, вопрос заключается в том, в каком периоде своего развития находятся европейские общества, на какой точке своего пути: восходят ли они еще по кривой, выражающей ход общественного движения, достигли ли кульминационной точки или уже перешли ее и склоняются к западу своей жизни? Относительно индивидуальной жизни отдельных существ вопрос этот решается легко, потому что имеется для каждого из них множество предметов сравнения. Когда волосы начинают белеть, прямой стан сгибаться, лицо морщиниться, мы знаем значение этих признаков, потому что они бесчисленное число раз уже повторялись. Относительно целых обществ это не так. Правда, история представляет нам несколько культурных типов, перешедших полный цикл своего развития, но обстоятельства этого развития большей части из них нам плохо известны. Собственно, только жизнь Греции и Рима сохранились для нас в достаточной полноте, чтобы служить элементами сравнения, да и из них жизнь Рима была далеко не полною, претерпев слишком сильное искажение через влияние Греции. Кое-что ответит нам и Индия. Но всего этого мало. Возможностью этих сравнений надо, конечно, воспользоваться, но, за неимением достаточного числа данных, мы должны еще обратиться к аналогии других явлений, хотя и неоднородных с явлениями жизни цивилизаций, но имеющих с ними то общее, что они представляют развития под влиянием причин, правильно и постепенно изменяющихся в своей напряженности.
Возьмем для первого примера ход дневной температуры. Она зависит от видимого движения солнца по небесному своду. Высшей точки своей кульминации достигает солнце в момент полудня, но результат этого движения – теплота продолжает еще возрастать два или три часа и после того, как причина, ее производящая, стала уже склоняться.
Затем обратимся к аналогии того процесса в жизни земли, который обусловливается годичным периодом. Время летнего солнцестояния, которому соответствует наибольшая долгота дня и высшее стояние солнца, падает на июнь месяц, а результаты этого периодического движения относительно температуры достигают своей наибольшей величины только в июле или в августе. К этому же времени, или еще позднее, выказываются результаты для жизни растительной. В конце лета и в начале осени наступает период исполнения обещаний весны, тогда как дни уже много сократились и солнце стало гораздо ниже ходить.
Возьмем жизнь отдельного человека: полноты своих нравственных и физических сил достигает он около тридцатилетнего возраста, несколько времени стоят они на одном уровне, а за сорок лет начинают видимо ослабевать. Когда же дают эти силы самые обильные, самые совершенные результаты? Не ранее сорока лет. В одном из своих образцовых критических или биографических опытов, – не могу, к сожалению, вспомнить, в котором именно, – Маколей замечает, что ни одно истинно первоклассное произведение человеческого духа, будет ли то в области науки или в области искусства, не было выполнено ранее сорокалетнего возраста, хотя, без сомнения, их первоначальная идея зародилась в уме в более ранний возраст. Если и можно найти исключения из этого положения английского историка, то их, во всяком случае, очень мало.
То же показывает нам и развитие языков. Филологи единогласно утверждают, что все совершеннейшие языки, не исключая древнейших: санскритского, зендского, греческого, латинского, еврейского, окончили уже рост свой ранее того периода, в который оставили они нам следы своего существования, и находились уже в состоянии вырождения и упадка в те отдаленные времена, в которые они становятся нам известны. По весьма убедительному объяснению Мюллера, в этом заключается даже причина, дающая возможность генетической классификации языков арийского корня, так что кульминационный период развития этого семейства языков падает на то время, когда общий всем арийцам коренной язык не распался еще на свои отрасли. Но когда же дала та сила, которая образовала языки, свои самые большие результаты, то есть литературный цвет и плод? В несравненно позднейший период, для некоторых языков, как, например, для славянских, вероятно, еще и теперь не наступивший.
Из всех этих явлений неоспоримо следует, что момент высшего развития тех сил или причин, которые производят известный ряд явлений, не совпадает с моментом наибольшего обилия результатов, проистекающих из постепенного развития этих сил: что этот последний всегда наступает значительно позже первого. Сравнение не доказательство, compraison n'est par raison, говорит французская пословица. Это так. Но если можно отыскать одну общую причину во всех случаях, которые берутся для сравнения, и если эта же общая причина необходимо должна иметь место и в том явлении, которое этими сравнениями доказывается или поясняется, то сравнения получают доказательную силу, потому что и та частная причина, от действия которой зависит ход развития того процесса, для уяснения которого мы прибегаем к сравнениям, – должна следовать тому же закону, должна принадлежать к той же категории причин, иметь одинаковые свойства с теми причинами, которые действуют в аналогических явлениях, взятых для сравнения. Общая причина, по которой в четырех взятых нами явлениях (в ходе суточной температуры, ходе годичной температуры и в связанных с нею периодических явлениях растительной жизни, в индивидуальном развитии человека и в развитии языков) момент кульминации, достигаемый силою, их обусловливающею, не совпадает с моментом наисильнейшего проявления результатов этой причины, а всегда ему предшествует, так что в этот последний момент причина, обусловливающая собою эти результаты, уже более или менее значительно ослабла, уже нисходит по кривой своего движения, – объясняется из следующего простого и очевидного соображения. Результаты действия причины все более и более накопляются, так сказать, капитализируются до тех пор, пока расходование их не превзойдет притока; и хотя бы сам приток ослабел сравнительно с прошедшим временем, сумма полезного действия все еще должна возрастать, пока он превышает расход. Это само собою понятно относительно дня и года. Но не то же ли относительно развития человека? Если примем, что с тридцатилетнего возраста силы его начинают слабеть, масса сведений, опытность, умение комбинировать умственный материал, метода мышления все еще могут возрастать и улучшаться вследствие, так сказать, духовной гимнастики; и эти приобретения, следовательно, могут еще долгое время перевешивать ослабление непосредственных сил. То же самое происходит и в развитии целых обществ, конечно, несколько непонятным образом. В развитии искусств, например, непосредственные творческие силы могут уменьшаться, но выработанная техника, влияние примеров, образовавшиеся предания, указывающие на ошибки, которых должно избегать, облегчая труд, могут иметь своим последствием то, что искусства будут продолжать процветать еще долгое время и даже достигать высшего совершенства. Почему слабеют силы в отдельном человеке, это нам кажется понятным или, по крайней мере, столь привычным, что и не возбуждает удивления. Но каким образом могут слабеть творческие силы целых обществ, это решительно не поддается объяснению, так как общество состоит из непрестанно возобновляющихся элементов, то есть отдельных людей. Однако история, несомненно, указывает, что это так, и притом не от внешних каких-либо причин, а от причин внутренних. После Юстиниана, например, греческий народ не производит более истинно великих людей ни на каком поприще в течение почти тысячелетнего еще существования империи.
В древние времена и в так называемые средневековые столетия собирались только химические факты, частью при разных промышленных производствах, частью же под влиянием фантастических и мистических идей. Они вовсе не были сгруппированы между собою – ни искусственно, ни естественно, ни хорошо, ни дурно. Ибо Аристотелево понятие о четырех элементах не заключает в себе никакой химической основы, а имеет скорее биологический характер, так как воду, воздух, землю и огонь (понимая под этим последним теплоту, свет и вообще так называемые прежденевесомые) можно рассматривать только как источник, из которого происходят и в который возвращаются органические тела. Эти элементы, как нечто извне привнесенное, не могли служить, конечно, связующею нитью для химических явлений, известных алхимикам, и потому учение об элементах не заслуживает даже названия искусственной системы.
В период искусственной системы ввел химию немец Шталь, который поэтому может быть назван Гиппархом химии. Он придумал флогистон, который будто бы отделяется от тела при горении, так что продукты горения или окисления (ржавчины, извести, щелочи, окиси) суть тела простые, а металлы – их соединения с флогистоном. Эта система, столь же искусственная, как Гиппархова, подобно этой последней соединяла, однако, общей нитью все известные тогда химические явления и позволяла давать себе отчет в взаимодействиях друг на друга и вставлять вновь открываемые факты в ее рамку. Так вновь открытый хлор назвали обесфлогистоненною соляною кислотою и т. д. (…)
Гениальный француз Лавуазье ниспроверг всю эту (в свое время чрезвычайно полезную) путаницу, придав преобладающее, так сказать, центральное значение действительному кислороду, вместо мнимого флогистона, и этим поставил все на надлежащее место, соответствующее самой действительности. Лавуазье, следовательно, ввел в химию естественную систему – был Коперником химии.
И тут опять, точно так же, как в астрономии, вследствие естественности системы оказалось вскоре возможным отыскать частные связывающие начала, которые приводят во взаимную зависимость химические явления. Немец Венцель открывает законы соединения солей, француз Гей-Люссак – законы соединения газов в простых отношениях объемов, француз Пруст открывает самый плодотворный химический закон, по которому тела соединяются между собою не во всевозможных, а только в некоторых, весьма простых отношениях, единицами для которых служат определенные по весу количества, известные под именем пропорционалов, или паев; Дюлонг и Пети открывают отношения, связывающие эти пропорциональные веса с удельным теплородом. Все эти открытия носят на себе характер Кеплеровых законов и могут быть названы частными эмпирическими законами химии. В этот кеплеровский период развития введена химия не одним гениальным химиком, а несколькими более или менее талантливыми или гениальными учеными. Общего рационального закона химия еще не имеет. Дальтонова атомистическая теория, хорошо объясняющая законы пропорциональных весов и объемов, не вполне ограждена от возражений, а главное, нисколько не объясняет самого химического сродства, степень которого может быть узнаваема только эмпирическим путем и не находится ни в какой известной зависимости от атомистического веса и других свойств, приписываемых атомам. Для этого была придумана так называемая электрохимическая теория, которая также оказалась несостоятельной, и потому должно признать, что химия не вышла еще из кеплеровского периода развития периода частных эмпирических законов.
(…) Переходя к физике, мы найдем, что эта наука, давно уже достигшая высокой ступени совершенства, отличалась, в противоположность астрономии и химии, чрезвычайной разнородностью состава, так что не только различные ее части всегда стояли на весьма разных ступенях развития, но даже трудно было найти такое определение этой науки, которое бы ясно и точно выражало ее содержание, и должно приписать скорее счастливому инстинкту ученых, чем сознательной идее, то обстоятельство, что весь этот разнородный комплекс фактов и учений оставался постоянно подведенным под общий свод одной науки физики. Только открытия самого новейшего времени оправдали этот, так сказать, научный инстинкт. Благодаря этим открытиям, можно дать физике самое краткое, простое, а вместе точное и ясное определение. Это есть наука о движении вещества, если считать равновесие частным случаем движения, – в параллель или, пожалуй, в противоположность с химией, которая есть наука о веществе в самом себе. Движение это двоякое: или оно состоит в ощутительном перемещении в пространстве, или же в колебательном движении частичек внутри тела, обнаруживающемся для наших чувств – как теплота, свет, а вероятно, и электричество. Переход между этими двумя родами движения составляют волнообразное движение капельных жидкостей и звук, так как характер движения и тут тот же, что и при так называвшихся невесомых, но движению подлежат не самые интимные частички тел, и с ним сопряжено ощутимое перемещение, как, например, в дрожащей струне. Учение о движениях первого рода, составляющее предмет первой части физики (как принято это называть в изложениях этой науки), состоит из приложения математического анализа, из отдельных наблюдений над некоторыми свойствами тел и из приложения теорий, выработанных другими науками (теория притяжения, химическая теория). Поэтому, не имея самостоятельности, эти учения не могут ясно выказать излагаемого здесь хода развития. Что касается до учения о невесомых, то первенствующую руководительную роль играла в нем оптика, и в развитии этой частной науки ясно выражается ход его.
За сбором фактов, из которых к некоторым было приложено математическое построение (отражение и преломление света), последовала их искусственная систематизация Ньютоном посредством теории истечения. Почти одновременно с ним применил голландец Гюйгенс к световым явлениям естественную систему, известную под именем теории волнений. Многие законы, открытые Малюсом, Френелем, Юнгом, Фрауэнгофером, составили период частных эмпирических законов, которые утвердили эту естественную систему. Учение о теплороде следовало за успехами оптики: большая часть оптических явлений и законов (даже интерференция) были отысканы и в явлениях теплородных, преимущественно итальянцем Меллони. С другой стороны, указана была связь явлений, собственно, так называемого электричества, гальванизма и магнетизма Эрстедом, Араго и Ампером, а также и связь с теплородом и даже светом – Меллони и Фарадеем. Наконец, первенство в развитии, долгое время принадлежавшее оптике, перешло к учению о теплороде. Предварительными трудами Румфорда, а главное, гениальными соображениями немецкого ученого, доктора Майера и опытами англичанина Джуля учение о теплороде, а вместе с ним и о свете были возведены на ньютоновскую ступень развития общего рационального закона сохранения движения, по которому так называемые невесомые вещества лишаются своей самобытности, а являются лишь видоизменением движения, переходящего из перемещения тела в пространство во внутреннее колебание или дрожание частиц, в свою очередь, могущее переходить в движение в тесном, общепринятом смысле этого слова. Тут (как сама сила притяжения в Ньютоновом законе) остается непонятным только гипотетический эфир, который служит передаточным средством для этих движений. Этому учению остается только развиваться и применяться с тем же успехом к явлениям электричества и его видоизменений. Таким образом, специальный предмет физики учение о невесомых – вступило первым, после астрономии, в высший фазис научного развития.
В ботанике опыты установления системы начались с XVII или с XVI столетия, но вполне удалось это великому шведу Линнею. Введенная им система была вполне искусственная и составляет даже как бы тип искусственной системы, представляя все ее достоинства (т. е. большое удобство и простоту в подведении под нее классифицируемых предметов) и вместе с тем чрезвычайную неестественность, соединение разнородного, разделение сродного, одним словом, поставление предметов не в ту взаимную связь, которая существует между ними в действительности. Но и тут искусственная система имела то же выгодное влияние на развитие науки, как и всегда. Явилась возможность группировать факты, пользоваться трудами предшественников и свои собственные труды передавать другим в общей связи со всем материалом науки, и результаты оказались те же. Рамка искусственной системы скоро сделалась узка: втиснутые в нее факты сами ее разорвали. Гениальные французы Адансон и два Жюссье, дядя и племянник, установили в ботанике естественную систему и тем не только ввели свою науку в новый коперниковский период развития, но (по словам Кювье) произвели переворот во всем естествознании, потому что естественная система растений не только послужила примером для зоологии, но дала возможность обобщать, в должной именно мере, все анатомические и физиологические наблюдения и опыты, производимые над растениями и животными. Без естественной системы невозможны ни сравнительная анатомия, ни сравнительная физиология (как растительная, так и животная). Кроме того, так как в растительном мире видимость мало соответствует существенному морфологическому характеру растений, то установление естественной системы не могло быть здесь чем-либо случайным, счастливой догадкой, а требовало выработки самой теории естественной системы (принятие во внимание всех признаков предметов, взвешивание относительного достоинства этих признаков и т. д.). Это и было сделано ботаникой, а затем усовершенствовано зоологией (установлением типов организации) – для примера и руководства всем прочим наукам.
В зоологии искусственная система была также введена Линнеем. Здесь надо заметить, что, по самой сущности дела, искусственных систем может быть очень много, одновременно существующих или последовательно заменяющих одна другую. Так и в астрономии, кроме системы Гиппарха, усовершенствованной и усложненной Птоломеем, была еще система египетская, и даже после Коперника появилась еще искусственная система Тихо де Браге, желавшего примирить привычную ложь, от которой трудно было отказаться, с истиною. Так и в ботанике, и в зоологии было несколько искусственных систем, но я беру здесь за грань двух периодов развития только ту из них, которая полнее других выразила идею и цель искусственной системы и которая, следовательно, в сильнейшей степени оказала то влияние на развитие науки, которое вообще свойственно искусственной системе.
Введению естественной системы обязана зоология Кювье. В противоположность искусственной системе естественная система, как и все истинное, может быть только одна, но она может беспрестанно усовершенствоваться, все более и более приближаясь к выражению того соотношения предметов и явлений, которое существует в самой природе. Говоря об естественной системе, надо сделать еще замечание, которое нам пригодится. Именно, Линнеева зоологическая система не была вполне искусственною. Высшие отделы животного царства установлены Линнеем вполне естественно. Но это зависело от того, что характеры главных естественных групп высших животных так резко напечатлены самою природою, что не признать их не было никакой возможности. Эти группы были верно установлены еще Аристотелем; можно даже сказать, что они никогда и никем в особенности установлены не были, а всегда были ясны и для простого неученого человека: звери, птицы, рыбы – возможно ли неверно схватить характеры этих групп? Это уже возможнее относительно пресмыкающихся (змей, ящериц, черепах, лягушек), и в них и была сделана Линнеем ошибка. Если бы различие в характере прочих животных было столь же резко запечатлено во внешней форме, как в животных высших, то искусственная система, по самой силе вещей, была бы невозможна. Поэтому может случиться, что иная наука перескочит в своем развитии через ступень искусственной системы. Мы скоро увидим тому пример.
Минералогия есть собственно учение о морфологических явлениях неорганического царства; своей физиологии она не имеет, ибо она совпадает с химией и отчасти с физикой. Первый опыт классификации минеральных форм, который можно признать системою, принадлежал великому немецкому ученому Вернеру, и его система опять-таки была искусственная и оказала то же влияние на эту отрасль знания, как ботаническая и зоологическая классификация Линнея, привлекши к ней значительное количество ученых сил. Французскому аббату Гаюи принадлежит честь установления естественной морфологии минералов. За ним некоторые немецкие ученые – Моос, Розе, особенно же Митшерлих – открыли частные эмпирические законы, обусловливающие формы кристаллов, и именно Митшерлих открытием изоморфизма указал на связь между формами кристаллов и химическим составом тел. Но общий принцип образования кристаллов, рациональная зависимость наружной формы от внутреннего расположения частиц остаются еще неизвестными.
Тот же Вернер представил первую научную систему геологии, явления которой до того времени приводились в связь только для подтверждения или опровержения библейского сказания о Днях творения или же служили основой для разных фантастико-космогонических мечтаний. Система Вернера, желавшая все произвести из вод, оказалась искусственною, но влияние этой системы на развитие науки было так велико, что введенные Вернером термины: первозданных, флецевых гор, первичных, вторичных, переходных образований, доселе сохранились в науке. Шотландец Гуттон и его последователи поставили на подобающее место воду и огонь, Нептуна и Вулкана, в образовании земной коры и тем ввели науку в период естественной системы, в котором она теперь и находится.
Мы обозрели, таким образом, весь круг естествознания и, как мне кажется, без малейшей натяжки подвели все относящиеся сюда науки под тот общий план развития, который с такою ясностью выказывается в астрономии. Из прочих наук только одна еще сравнительная филология, или лингвистика, причисляемая некоторыми также к числу наук естественных, достигла достаточной степени совершенства, чтобы в ней можно было указать на несколько перейденных эволюционных фазисов.
До конца прошедшего столетия вся обширная область языкознания представляла лишь массу научного материала, не приведенного в взаимную связь. Как в геологии, так и тут некоторые теоретики подчиняли факты извне почерпнутому началу – узко понятому богословскому воззрению, по которому еврейский язык должен был быть первым языком человечества, от которого проистекли все остальные, что, конечно, доставляло обширное поприще произволу и натяжкам.
Открытие санскритского языка произвело переворот в этой науке. Тут случилось то же, на что я указывал, говоря о зоологической системе Линнея по отношению к высшим животным. Первый знаток санскритского, англичанин Вильсон, обладая знанием языков греческого и латинского и своего родного языка (отрасль германского корня), не мог не заметить соединявшего их сродства, что и высказал совершенно определительно. Поэтому первая систематизация языков оказалась естественною. Ступень искусственной системы была тут перешагнута, и языкознание прямо перешло в период естественной системы из периода собирания материалов. Но и естественная система, по самой ее легкости и очевидности, не могла долго останавливать на себе внимания, и потому, вслед за английскими санскритистами, немецкие филологи Бопп и Гримм (относительно немецкого языка) ввели свою науку в период частных эмпирических законов, состоящих в законах фонетического изменения звуков, при этимологической деривации языков. В отдельной группе языков романских, происшедших заведомо от латинских или древнеитальянских наречий, также не было места искусственной системе. Естественная система дана была тут самою историей. В прочих группах языков повторяется только тот ход научного развития, который начался с группы языков арийских.
Из прочих наук логика и чистая математика, не имея внешнего объекта и состоя, так сказать, из чистого диалектического развития мысли, не только не представляют тех фазисов развития, которые выводятся из истории прочих наук, но даже по самой сущности своей не могут представлять никаких переворотов в своем прогрессивном ходе. Между тем как науки объективные исходят от данных видимого мира, представляющихся во всей их сложности и раздробленности, и постепенною группировкою восходят к более общим и простым началам, точкой отправления наук субъективных служат именно простейшие начала, так сказать, присущие нашему уму, из которых все дальнейшее развитие проистекает как следствие. Эти науки, следовательно, суть науки выводные, дедуктивные. Затем остальные науки суть или науки прикладные, несамостоятельные (как, например, терапия, агрономия, технология и проч.), которые заимствуют свои начала и свои материалы из других отраслей знания и прикладывают их только к известным целям, или (как науки общественные, исторические, философские) находятся то в периоде собирания материалов, то в периоде непрестанной замены одной искусственной системы другою.
Замечательно, что для четырех из пяти периодов развития результаты, достигнутые в предыдущем периоде, сохраняют все свое значение и в последующих; организм науки только дополняется. Исключение составляет только второй период – период искусственной системы. Он похож на те преходящие органы животных, которые играют лишь временную роль, как, например, вольфовы тела, исчезающие. после зародышного состояния, не оставляя после себя следов. В самом деле, Ньютонов закон не устраняет из астрономии законов Кеплеровых, ни эти последние – системы Коперника; даже все частные наблюдения, сделанные александрийскими или халдейскими астрономами, сохраняют всю свою силу для науки. Но системы Гиппарха, Птоломея, Тихо де Браге теперь как бы не существуют для науки; они остались лишь в истории и в ней только изучаются. То же самое относится к системам Шталя, Вернера, Линнея, к Ньютоновой теории истечения. В этом смысле, кажется мне, должно понимать то положение, что факты в науке остаются, а теории преходящи. Преходящи не все теории, а те только, которые имеют соотношение к периоду установления искусственной системы; эта система как бы соответствует лесам и подмосткам научного здания, которые потом снимаются, но без которых здания невозможно было бы построить. С другой стороны, искусственная система составляет в известном смысле, может быть, самый полезный и плодотворный шаг в развитии самой науки. Она придает собранному материалу единство, выводит его на свет Божий, лишает характера таинственности, отдельных рецептов и формул, составляющих лишь собственность так называемых адептов, – делает массу фактов доступной всякому, желающему посвятить свои труды и силы какой-либо отрасли знания. Хотя эта система примешивает по необходимости нечто ложное к сумме добытых фактов, но она же дает и средство разрушить, устранить это ложное постановлением его в противоречие с самим собою. Поэтому только с введением искусственной системы знание получает достоинство науки. Но в этом периоде науке предстоит опасность вращаться в ложном кругу, заменять одну искусственную систему другою, не подвигаться существенным образом вперед. Эта опасность устраняется только введением естественной системы, после чего наука, так сказать, входит в правильное русло.
После этого длинного отступления я наконец перехожу к выводам относительно влияния, оказываемого особенностями национального психического строя на науку. Мы рассмотрели историю развития девяти наук и отметили в них в совокупности 33 периода, или фазиса, развития, разграниченных 24 научными реформами. Национальность того ученого или тех ученых, которые возвели свою науку на непосредственно высшую ступень развития, мы с намерением всегда отмечали. (…) Именно, обращая внимание лишь на народы, бывшие главными деятелями в науке, – на немцев, англичан и французов, мы видим, что англичане более или менее содействовали возведению наук на все четыре ступени их развития; немцы оказали преимущественное участие в возведении наук на ступень частных эмпирических законов, ибо более или менее участвовали в этом труде во всех науках, достигших этого периода развития; вместе с англичанами разделяют они славу возведения наук на высшую ступень их совершенства; в четырех случаях из восьми были единственными деятелями или главными участниками в искусственной систематизации знаний, но ни одной науки не ввели в период естественной системы. Совершенно напротив того, французы были главными деятелями в сообщении движения наукам в периоде естественной системы, именно, из девяти случаев в пяти, и ни в одной науке не установили искусственной системы.
Из этого мы видим, во-первых, что роль каждой из трех национальностей в общем научном движении совершенно соответственна степени различия их национального характера, так что между французами и немцами замечается наибольшая противоположность, а англичане, которые и этнографически и лингвистически соединяют немцев с французами, занимают и тут как бы посредствующее звено. Во-вторых (и это главное), неучастие немцев в возведении наук на степень развития естественной системы, сильное участие их в установлении систем искусственных и, напротив того, преобладающее участие французов в естественно-систематическом периоде научного развития и совершенное их неучастие в периоде искусственно-систематическом – изъясняются самым удовлетворительным образом общепризнанными особенностями в психическом строе этих двух богато одаренных народов.
Мы видели, что искусственная система почти всегда предшествует естественной. Это зависит от того, что весьма мало вероятия на то, чтобы в неприведенной в порядок груде материалов можно было прямо схватить между ними все сходства и различия и притом каждое из них должным образом взвесить и оценить. Гораздо вероятнее, что сначала бросится в глаза какой-либо признак, кажущийся почему-либо преобладающим. Так, в астрономии этим преобладающим признаком была сочтена обманчивая видимость явлений; в химии – также обманчивая видимость отделения чего-то при горении, что и было названо Шталем флогистоном. Но это только одна из причин искусственности систем, так сказать, причина объективная, проистекающая из самой сущности группируемых данных. Но есть и другая причина – причина субъективная, зависящая от психического строя классификатора. Если он одарен способностями по преимуществу умозрительными, то сложность отношений между предметами мало удовлетворит его; она будет казаться ему неразумной случайностью. Он будет непременно отыскивать насквозь проницающее начало, ein durchgreifendes Princip, как говорят немцы, и, думая, что нашел его, подвергнет его всем видоизменениям диалектического процесса развития, будет варьировать эту тему на все лады и подводить под эти вариации своей главной темы все разнообразие классифицируемого. Но это и есть способ, неминуемо ведущий к искусственной группировке предметов. Поэтому, когда естественная система была уже установлена и в ботанике и в зоологии и оставалось бы только все более и более ее усовершенствовать, – она мало удовлетворяла умозрительные умы, и они старались переделать ее на свой лад, втиснув в свои логические категории, в рамку какого-либо диалектически развиваемого, якобы насквозь проницающего начала. Так, Окен, исходя из того начала, что животное царство должно дифференцироваться, или расчленяться, аналогически с расчленением отдельного и притом наиболее совершенного животного организма, – составил группы головных, грудных, брюшных животных, в которых как бы преобладает характер головы, груди или брюха. Каждая из этих групп может быть (по системе Окена) типическою или составлять переходы к прочим, и потому являются животные голово-головные, голово-брюшные, голово-грудные, брюхо-брюшные, брюхо-грудные, брюхо-головные и т. д., все в том же роде. Другой немецкий ученый, на этот раз ботаник, Рейхенбах, уже в последней половине тридцатых годов думал найти этот насквозь проницающий принцип деления прямо в диалектической методе Гегелевой логики. Он отличает сначала формы, в которых будущее диалектическое развитие заключается еще как бы в зерне, находится еще в состоянии безразличия, что называет prothesis. Развитие его протезиса ведет к установлению типической формы thesis и ее противоположности antithesis, которые затем как бы примиряются в высшем единстве synthesis. В каждой из растительных групп, будто бы соответствующих этим протезису, антитезису и синтезису, конечно, повторяется тот же самый диалектический процесс.
Оставя в стороне то, что есть странного и утрированного в этих примерах, не так ли точно располагаются по строгой системе пишущиеся диссертации? Здесь это не составляет недостатка, потому что идея, положенная в основание деления, может быть, действительно, составляет мысль, которая насквозь проникает всю диссертацию; но чтобы идея, подкладываемая бесконечно разнообразной природе, действительно имела это качество и действительно так же бы варьировалась или диалектически развивалась, как ее варьирует и развивает систематик, – на это нет никакого вероятия.
Понятно, что такое направление ума, которым немцы особенно отличаются, вовсе не благоприятно для схватывания и оценивания признаков, предметов и явлений без предвзятой идеи. Напротив того, французы, менее искусные диалектики и глубокие мыслители, имеют более отверстый ум для непосредственного восприятия внешних впечатлений и их комбинаций по степеням действительно существующего между ними сродства, причем отсутствие всепроницающего начала не тревожит их ума. Посмотрите, как устанавливается естественная система в ботанике, где ее всего труднее было установить. Бернард Жюссье был смотритель королевского сада, т. е. садовник. Он подыскивал те формы, которые, на его физиогномический взгляд, гармонировали между собою, и сажал их близко друг к другу, постепенно исправляя свои ошибки, а его племянник научно устанавливал группы, составленные таким физиогномическим путем. – Но ежели умозрительное направление ума и одержание его какою-либо все подчиняющею себе идеей мало благоприятствуют установлению естественной системы в какой-либо области знания, они поистине драгоценны при открытии как частных, так и общих законов природы, происходящем почти всегда путем умозрения. Кеплером всецело владела мысль, что планеты совершают свои пути согласно каким-либо гармоническим сочетаниям, и он старается подвести отношение между расстояниями и временами обращения планет то под отношения между различными измерениями правильных геометрических тел, то под законы музыкальной гармонии и, наконец, под влиянием этого одержания идеей, отыскивает свои бессмертные законы.
За результат всех этих многочисленных примеров должно, кажется, принять, что плоды науки суть действительно достояние всего человечества в большей мере, чем прочие стороны цивилизации, которые в такой полноте не могут передаваться от народа к народу, особенно же – от одного культурно-исторического типа другому, но что самое произращение этих плодов, т. е. обработка и развитие наук, носит на себе не менее национальный характер, чем искусство, народная и государственная жизнь. Но различием в субъективных свойствах (в психическом строе) народностей, обрабатывающих науки, не исчерпываются еще все причины, по которым и развитие науки носит на себе национальный отпечаток. В некоторых науках сам объект их существенно национален. Таковы все науки общественные.
Чтобы доказать национальность характера наук вследствие особенностей психического строя, присущего разным народностям, мы прибегли, между прочим, к изложению хода их исторического развития; для доказательства высшей степени национальности некоторых наук, – национальности, проявляющейся не только в субъективном, но и в объективном смысле, – прибегнем к классификации наук; но в этом отношении не будем далеко ее проводить, а остановимся на том только, что нам нужно для нашей частной цели.
За главное деление наук должно, кажется мне, признать их субъективный или объективный характер, разумея под науками субъективными такие, которые не имеют внешнего предмета, а суть, по существу своему, изложение самого хода человеческого мышления; таковы только математика и логика. Все прочие науки имеют внешнее содержание, и оно обусловливает их характер.
Некоторые из этих наук могут быть названы общими или теоретическими, потому что они имеют своим предметом общие мировые сущности, безотносительно к специальным формам, в которые они облечены. Таких общих мировых сущностей три: материя, движение и дух. Изучение материи самой в себе составляет предмет химии; изучение движения – предмет физики; изучением духа, безотносительно к его частным проявлениям, должна заниматься метафизика. Однако не только существование, но даже самая возможность существования такой науки весьма сомнительна. Чтобы возможно было изучение законов духа вообще, нужно бы иметь, по крайней мере, несколько духовных существ, дабы мочь элиминировать то, что в них случайно (то, что зависит от образа соединения духа с материей и от организации этой материи), от того, что существенно принадлежит духу, как духу. Но мы знаем лишь одно духовное существо – человека; поэтому, кажется, осторожнее заменить метафизику психологией. Но возможна ли или невозможна метафизика, – которая (в параллель с химией) была бы наукою о духе безотносительно к его проявлениям в соединении с известными формами, – для нас важно теперь лишь то, что психология представляет нам такие явления, которые не подводятся под законы материи и ее движения. Поэтому все первоначальные, самобытные законы, которым подлежит вся область нашего знания, почерпаются только из трех наук: химии, физики, психологии. Если астрономические исследования привели к открытию закона тяготения, то этот закон тем не менее есть закон физический, а не специально-астрономический.
Затем все остальные науки имеют своим предметом лишь видоизменения материальных и духовных сил и законов – под влиянием морфологического принципа, о котором мы заметим только, что он так же точно не проистекает из свойств материи и ее движения, как паровая машина не проистекает из расширительной силы пара. Морфологический принцип есть идеальное в природе. Развивать мысль эту здесь не у места. Для нас важно то различие, которое проистекает для характера наук, имеющих своим предметом общие мировые сущности: материю, движение и дух, от тех, которые рассматривают лишь их разнообразные осуществления под влиянием морфологического принципа. Это различие заключается в том, что только первые науки могут вырабатывать общие теории, остальные же могут отыскивать лишь частные законы, простирающиеся на более или менее обширные группы предметов или существ, расположенных по естественной системе, но ни в каком случае не объясняющие всех их собою. Для пояснения сделаем сравнение некоторых химических законов (с одной стороны) с физиологическими законами (с другой).
Химия говорит нам, что тела соединяются не иначе как в определенных для каждого тела по весу количествах, известных под именем химических пропорционалов, паев или атомистических весов. И мы вполне убеждены, что так же точно происходят эти соединения на Луне, Солнце, Юпитере, Сириусе и в отдаленнейших туманных пятнах. Так же точно мы уверены, что свет, проходя через прозрачные средины, преломляется, что от полированных поверхностей он отражается, сохраняя равенство угла падения с углом отражения, где бы это отражение ни происходило – на Земле ли или на звездах Медведицы, и откуда бы свет ни исходил – от лампы, от Солнца или от любой звезды. Но из физиологических законов общи для всех животных или растений только те, которые обусловливаются всем им общими химическими и физическими свойствами, как, например, весом. На что казался общим закон, что размножение живых существ состоит в воспроизведении себе подобных, а между тем так называемая перемежаемость поколений (Generations-wechsel) показывает нам, что есть множество существ, у которых не дети походят на родителей, а только внуки – на дедов или правнуки – на прадедов. На что также общим казался закон, что при половом размножении необходимо присутствие двух элементов: мужского и женского, разъединенных в двух индивидуумах или соединенных в одном, а между тем явления партеногенезиса, или деворождения, показывают нам, что даже совершенно девственные самки бабочек кладут яйца, из которых развиваются вполне образовавшиеся животные. Следовательно, и эти казавшиеся столь общими для всего живого законы применимы лишь к некоторым группам известной обширности. Если относительно других законов не делали подобных же обобщений, то только потому, что с самого начала физиологических исследований им подлежали уже существа довольно разнородные. Но представим себе, что мы не знали бы ни одного водяного животного. Мы, без сомнения, утверждали бы, что всякое живое существо, погруженное в воду, непременно задохнется, ибо не может дышать в воде; мы думали бы, что легкие и, пожалуй, воздухоносные трубочки (трахеи) суть единственно возможные органы дыхания, и, конечно, никогда не придумали бы жабр путем теории.
Этих примеров достаточно, чтобы показать, что только химия, физика и наука о духе могут быть науками теоретическими, что не может быть теоретической физиологии или анатомии, а только физиология и анатомия сравнительные. Точно то же относится к наукам филологическим, к историческим и, наконец, к общественным. Общественные явления не подлежат никаким особого рода силам, следовательно, и не управляются никакими особыми законами, кроме общих духовных законов. Эти законы действуют особым образом, под влиянием морфологического начала образования обществ; но так как эти начала для разных обществ различны, то и возможно только не теоретическое, а лишь сравнительное обществословие и части его: политика, политическая экономия и т. д.
Что невозможна общая теория устройства гражданских и политических обществ – это сознано давно, и мало уже таких доктринеров, которые бы думали, что, например, английское государственное устройство есть некий идеал, которого все должны стремиться достигнуть, что между государствами (или вообще обществами) есть, так сказать, только различие возрастное, а не качественное. Но один уголок общественных наук упрямо сохраняет это доктринерство – именно политическая экономия. Она думает, что всякое господствующее в ней учение есть общее для всех царств и народов, что, например, так как нет земледельческой общины в тех обществах, которые эта наука изучила и на изучении которых выводила свои теории, то общины и нигде быть не должно, что она составляет явление анормальное. Политическая экономия утверждает, что так называемая свободная торговля, которая есть выгоднейшая форма мены для Англии, где эта наука изучала торговые и промышленные явления, должна непременно применяться и к Америке, и к России. По-моему, это то же самое, как бы утверждать, что дышать можно только жабрами или только легкими, невзирая на то, живет ли животное в воде или на суше. Теоретическая политика или экономия так же невозможна, как невозможна теоретическая физиология или анатомия. Все эти науки и вообще все науки, за исключением трех вышеупомянутых, могут быть только сравнительными. Следовательно, за неимением теоретической основы каких-либо особенного рода самобытных, непроизводных экономических или политических сил и законов – все явления общественного мира суть явления национальные и как таковые только и могут быть изучаемы и рассматриваемы. Они, конечно, могут и должны быть сравниваемы между собою, и из такого сравнения могут проистекать правила для более или менее обширной группы политических обществ, но никогда политическое или экономическое явление, замечаемое у одного народа и там уместное и благодетельное, не может считаться уже по одному этому уместным и благодетельным у другого. Это может быть, но может и не быть. Следовательно, общественные науки народны по самому своему объекту.
Итак, мы можем заключить, что и наука может быть национальна, но что в разных науках степень национальности различна. Национальность менее всего проявляется в науках, простых по своему содержанию или очень высоко стоящих по своему развитию, – в таких науках, к которым приложимы строгие методы исследования. Эти методы и составят препятствие к проявлению народности или вообще индивидуальности в несколько значительной степени. Здесь роль народности ограничивается почти лишь способом изложения и выбором методы исследования, если таких приложимых метод несколько. Роль народности в науках увеличивается по мере усложнения предмета, не допускающего введения точной и строгой методы. Если науки эти не принадлежат к разряду наук общественных, то причина национального характера, который они могут и должны принимать, зависит от особенности психического строя каждой народности, в особенности же каждого культурно-исторического типа. Наиболее же национальный характер имеют (или, по крайней мере, должны бы иметь для успешности своего развития) науки общественные, так как тут и самый объект науки становится национальным. Это, как само собою разумеется, относится и к наукам словесным, но об них и говорить нечего, так как никто никогда не утверждал, что правила немецкой грамматики обязательны и для русского языка.
Глава VII. Гниет ли Запад?
Вероятно ли в настоящее время появление новой (славянской) культуры? – Что такое гниение? – В каком периоде развития находятся европейские общества? Момент высшего развития сил; результаты его наступают позже. – Пример Греции, Рима, Индии. – Определение эпохи, в которой находится цивилизация Европы
О, никогда земля, от первых дней творенья,
Не зрела над собой столь пламенных светил.
Но, горе – век прошел – и мертвенным покровом
Задернут Запад весь. Там будет мрак глубок…
Услышь же глас судьбы, воспрянь в сиянье новом,
Проснися, дремлющий Восток.
Хомяков
В предыдущих главах я старался показать, что одно различение и сопоставление исторических событий по ступеням возрастного развития, по ступеням совершенства, противоречит правилам естественной системы, ибо не объемлет всего многообразия этих явлений и необходимо ведет, точно так же, как в зоологии, ботанике, к искусственной системе построения науки; что необходимо присоединять к этому делению по степеням развития на периоды древней, средней и новой истории или на более многочисленные группы качественное различие культурно-исторических типов как высший принцип деления. Я старался далее определить те признаки, которые обусловливают эту группировку исторических явлений, и такими признаками оказались крупные этнографические различия, на основании которых человечество разделяется на несколько больших групп. Одну из этих групп составляют народы славянского семейства, которые представляют ту же меру различия, как и группы санскритская, иранская, эллинская, латинская, германская. Из этого следует, что и славянское семейство народов образует столь же самобытный культурно-исторический тип, как и только что поименованные племена, и ежели откажется от самостоятельного развития своих начал, то и вообще должно отказаться от всякого исторического значения и снизойти на ступень служебного для чуждых целей этнографического материала, – и чем скорее, тем лучше. Для устранения некоторых недоразумений мне казалось небесполезным сделать довольно длинное отступление, чтобы уяснить отношения народного к общечеловеческому, как вообще, так и в частности относительно развития научного, против народности в котором обыкновенно всего более восстают. Характер употреблявшихся мною доказательств был внешний, так сказать, формальный. Я не касался ни сущности славянского характера, ни сущности характера прочих культурно-исторических типов, а только старался показать, что ежели степень различия славянского семейства от прочих этнографических семейств человечества вообще и в особенности семейств арийского корня равнозначительна с различием их между собою, то и проистекающие из сего коренного различия разности в ходе культурно-исторического развития должны быть также равнозначительны. Против такой методы доказательств, кажется мне, можно сделать только следующее возражение. Действительно, аналогия говорит за самобытную славянскую цивилизацию; но славянское племя может составлять исключение, не имея в себе достаточных особенностей, чтобы развить, выработать эту самобытную культуру. Это возражение часто и делают, требуя категорического ответа на то, в чем именно будет состоять эта новая цивилизация, каков будет характер ее науки, ее искусства, ее гражданского и общественного строя и т. д. В таком виде возражение это совершенно нелепо, ибо удовлетворительный на него ответ, если бы он был возможен, сделал бы самое развитие этой цивилизации совершенно излишним. В общих чертах, насколько это возможно сделать на основании существенного характера доселе бывших цивилизаций, в сравнении с теми зачатками ее, которые успели уже выразиться в славянском культурно-историческом типе, я постараюсь представить ответ и на этот затруднительный вопрос, но до этого посильного ответа предстоит пройти еще длинный путь. А теперь мы должны обратиться к исследованию не более или менее вероятных результатов этого будущего векового развития, а тех основных различий, которые существуют между типом славянским и германо-романским, или европейским, так как в этом различиии состоит весь вопрос. Исчерпать всю сущность этого различия я также не надеюсь, но желал бы представить некоторые его черты, главнейше на основании выработанного уже славянофильскою школою, с некоторыми, может быть, дополнениями, которые удастся мне сделать. Но прежде чем вступить на этот путь, мне хотелось бы устранить еще одно, в сущности, неважное возражение, которое, имея также характер формальный, должно найти свое место, прежде чем вступим в иной порядок мыслей и доказательств.
Возражение это, о котором также много препирались в былое время, состоит в следующем. Если славяне имеют право на культурно-историческую самобытность, то надо сознаться, что они имели несчастье явиться со своими требованиями в весьма неблагоприятное для таких притязаний время. Запад, Европа, находится в апогее своего цивилизационного величия, блеск его идет во все концы земли, все освещает и согревает исходящими из него светом и теплотою. Удобное ли это время для скромных задатков новой культуры, новой цивилизации? Да и зачем она, когда та, которую мы видим, так могущественна, находится в полноте своих сил, и не видно, чтоб они слабели, чтобы ощущалась потребность заменить ее чем-либо новым? Европа ведь не императорский Рим или Византия. Неужели же можно не в шутку утверждать, как то некогда делали Хомяков и Киреевский, что Запад гниет? Сами славянофилы, по-видимому, отказались от этой экстравагантности. Защищать такие парадоксы – не значит ли хотеть быть plus royaliste gue le roi?
Возражение это назвал я, в сущности, неважным. Разве не повторялось уже несколько раз, что во времена блеска одной культуры зарождалась новая? Не тогда ли начал Рим свое торжественное шествие, когда Греция озарялась полным блеском цивилизации и тщилась, хотя, конечно, и неудачно, передать ее отдаленнейшим народам Востока? Собственно говоря, идеальным порядком вещей на земле был бы тот, когда бы все великие этнографические группы, на которые разделено человечество, одновременно развили лежащие в них особенности направления до культурного цвета; когда бы древние Китай, Индия, Иран, возмужалая Европа, юное славянство и еще более юная Америка разом выказали всю полноту и все разнообразие заключающихся или заключавшихся в них сил, которые бы усугублялись плодотворным взаимодействием друг на друга. Такое состояние вселенской культуры имело бы только один недостаток со всемирно-исторической точки зрения. Сколько оно выигрывало бы в отношении пространственного протяжения, столько теряло бы во временной последовательности и тем противоречило бы требованиям экономии, всегда соблюдаемой природою. Ни одна культура не может быть вечною, и ежели бы все разом проливали свет свой, то все разом (или почти разом) и померкли бы, и мрачная ночь варварства распространилась бы над всей землей, так что новой культурной жизни не у чего бы было и зажечь свой светильник. Как в начале, пришлось бы добывать огонь цивилизации трудным и медленным трением дерева об дерево. Поэтому, хотя мы и не видим, почему бы не существовать еще раз двум самобытным цивилизациям одновременно бок о бок, однако же более склонны думать, что ежели вызывается культурная жизнь нового исторического типа, то, должно быть, жизнь старого угасает. Не в этом ли и главное объяснение вражды, инстинктивно чувствуемой прежним историческим деятелем к новому – предшественником к преемнику? Сама мысль, высказанная славянофилами о гниении Запада, кажется мне совершенно верною, только выразилась она в жару борьбы и спора слишком резко и потому с некоторым преувеличением.
Гниение есть полное разложение состава органических тел, и притом с выделением разных, неприятно действующих на орган обоняния, газов. Этот последний, весьма несущественный, признак гниения и обращал на себя преимущественное внимание наших западников, как бы наносил им самое чувствительное оскорбление. В полемических статьях того времени с насмешкою говорилось о химиках, не умевших отличать гниения от жизненного брожения.
Невежество тут было на стороне не этих химиков, а тех остроумцев, которые видели существенное различие между гниением и каким-то жизненным брожением, которого, как известно, в природе не существует. Всякое брожение есть разложение, то есть переход из сложных форм организованного вещества в более простые формы, приближающиеся к неорганическим формам соединений. Следовательно, гниение ли, брожение ли, – это в рассматриваемом нами отношении решительно одно и то же. Если брожение, то и разложение форм – вещественных ли соединений или общественного быта. Чтобы из такого разложения на элементы составилась новая органическая форма, необходимо присутствие образовательного принципа, под влиянием которого эти элементы могли бы сложиться в новое целое, одаренное внутренним оживотворяющим началом. Но на такой принцип не было указано, а в этом-то сущность дела. Впрочем, мы пойдем гораздо далее в наших уступках. Искренно и охотно скажем, что явлений полного разложения форм европейской жизни, будет ли то в виде гниения, то есть с отделением зловонных газов и миазмов, или без оного – в виде брожения, еще не замечается. Дело не в этом. Оставив преувеличения, вопрос заключается в том, в каком периоде своего развития находятся европейские общества, на какой точке своего пути: восходят ли они еще по кривой, выражающей ход общественного движения, достигли ли кульминационной точки или уже перешли ее и склоняются к западу своей жизни? Относительно индивидуальной жизни отдельных существ вопрос этот решается легко, потому что имеется для каждого из них множество предметов сравнения. Когда волосы начинают белеть, прямой стан сгибаться, лицо морщиниться, мы знаем значение этих признаков, потому что они бесчисленное число раз уже повторялись. Относительно целых обществ это не так. Правда, история представляет нам несколько культурных типов, перешедших полный цикл своего развития, но обстоятельства этого развития большей части из них нам плохо известны. Собственно, только жизнь Греции и Рима сохранились для нас в достаточной полноте, чтобы служить элементами сравнения, да и из них жизнь Рима была далеко не полною, претерпев слишком сильное искажение через влияние Греции. Кое-что ответит нам и Индия. Но всего этого мало. Возможностью этих сравнений надо, конечно, воспользоваться, но, за неимением достаточного числа данных, мы должны еще обратиться к аналогии других явлений, хотя и неоднородных с явлениями жизни цивилизаций, но имеющих с ними то общее, что они представляют развития под влиянием причин, правильно и постепенно изменяющихся в своей напряженности.
Возьмем для первого примера ход дневной температуры. Она зависит от видимого движения солнца по небесному своду. Высшей точки своей кульминации достигает солнце в момент полудня, но результат этого движения – теплота продолжает еще возрастать два или три часа и после того, как причина, ее производящая, стала уже склоняться.
Затем обратимся к аналогии того процесса в жизни земли, который обусловливается годичным периодом. Время летнего солнцестояния, которому соответствует наибольшая долгота дня и высшее стояние солнца, падает на июнь месяц, а результаты этого периодического движения относительно температуры достигают своей наибольшей величины только в июле или в августе. К этому же времени, или еще позднее, выказываются результаты для жизни растительной. В конце лета и в начале осени наступает период исполнения обещаний весны, тогда как дни уже много сократились и солнце стало гораздо ниже ходить.
Возьмем жизнь отдельного человека: полноты своих нравственных и физических сил достигает он около тридцатилетнего возраста, несколько времени стоят они на одном уровне, а за сорок лет начинают видимо ослабевать. Когда же дают эти силы самые обильные, самые совершенные результаты? Не ранее сорока лет. В одном из своих образцовых критических или биографических опытов, – не могу, к сожалению, вспомнить, в котором именно, – Маколей замечает, что ни одно истинно первоклассное произведение человеческого духа, будет ли то в области науки или в области искусства, не было выполнено ранее сорокалетнего возраста, хотя, без сомнения, их первоначальная идея зародилась в уме в более ранний возраст. Если и можно найти исключения из этого положения английского историка, то их, во всяком случае, очень мало.
То же показывает нам и развитие языков. Филологи единогласно утверждают, что все совершеннейшие языки, не исключая древнейших: санскритского, зендского, греческого, латинского, еврейского, окончили уже рост свой ранее того периода, в который оставили они нам следы своего существования, и находились уже в состоянии вырождения и упадка в те отдаленные времена, в которые они становятся нам известны. По весьма убедительному объяснению Мюллера, в этом заключается даже причина, дающая возможность генетической классификации языков арийского корня, так что кульминационный период развития этого семейства языков падает на то время, когда общий всем арийцам коренной язык не распался еще на свои отрасли. Но когда же дала та сила, которая образовала языки, свои самые большие результаты, то есть литературный цвет и плод? В несравненно позднейший период, для некоторых языков, как, например, для славянских, вероятно, еще и теперь не наступивший.
Из всех этих явлений неоспоримо следует, что момент высшего развития тех сил или причин, которые производят известный ряд явлений, не совпадает с моментом наибольшего обилия результатов, проистекающих из постепенного развития этих сил: что этот последний всегда наступает значительно позже первого. Сравнение не доказательство, compraison n'est par raison, говорит французская пословица. Это так. Но если можно отыскать одну общую причину во всех случаях, которые берутся для сравнения, и если эта же общая причина необходимо должна иметь место и в том явлении, которое этими сравнениями доказывается или поясняется, то сравнения получают доказательную силу, потому что и та частная причина, от действия которой зависит ход развития того процесса, для уяснения которого мы прибегаем к сравнениям, – должна следовать тому же закону, должна принадлежать к той же категории причин, иметь одинаковые свойства с теми причинами, которые действуют в аналогических явлениях, взятых для сравнения. Общая причина, по которой в четырех взятых нами явлениях (в ходе суточной температуры, ходе годичной температуры и в связанных с нею периодических явлениях растительной жизни, в индивидуальном развитии человека и в развитии языков) момент кульминации, достигаемый силою, их обусловливающею, не совпадает с моментом наисильнейшего проявления результатов этой причины, а всегда ему предшествует, так что в этот последний момент причина, обусловливающая собою эти результаты, уже более или менее значительно ослабла, уже нисходит по кривой своего движения, – объясняется из следующего простого и очевидного соображения. Результаты действия причины все более и более накопляются, так сказать, капитализируются до тех пор, пока расходование их не превзойдет притока; и хотя бы сам приток ослабел сравнительно с прошедшим временем, сумма полезного действия все еще должна возрастать, пока он превышает расход. Это само собою понятно относительно дня и года. Но не то же ли относительно развития человека? Если примем, что с тридцатилетнего возраста силы его начинают слабеть, масса сведений, опытность, умение комбинировать умственный материал, метода мышления все еще могут возрастать и улучшаться вследствие, так сказать, духовной гимнастики; и эти приобретения, следовательно, могут еще долгое время перевешивать ослабление непосредственных сил. То же самое происходит и в развитии целых обществ, конечно, несколько непонятным образом. В развитии искусств, например, непосредственные творческие силы могут уменьшаться, но выработанная техника, влияние примеров, образовавшиеся предания, указывающие на ошибки, которых должно избегать, облегчая труд, могут иметь своим последствием то, что искусства будут продолжать процветать еще долгое время и даже достигать высшего совершенства. Почему слабеют силы в отдельном человеке, это нам кажется понятным или, по крайней мере, столь привычным, что и не возбуждает удивления. Но каким образом могут слабеть творческие силы целых обществ, это решительно не поддается объяснению, так как общество состоит из непрестанно возобновляющихся элементов, то есть отдельных людей. Однако история, несомненно, указывает, что это так, и притом не от внешних каких-либо причин, а от причин внутренних. После Юстиниана, например, греческий народ не производит более истинно великих людей ни на каком поприще в течение почти тысячелетнего еще существования империи.