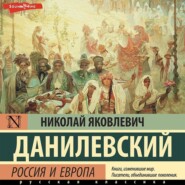По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Россия и Европа
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Гораздо яснее, потому что само событие гораздо известнее, проявляется та же черта в принятии русским народом христианской веры. Обращение народов в новую веру, сколько мы тому знаем примеров, совершалось одним из следующих способов. Апостолы или миссионеры долговременной проповедью, постоянными усилиями, мученичеством прокладывали путь новому учению, которое, постепенно увеличивая число своих последователей, при более или менее долговременной борьбе партий, одерживало наконец победу. Так восторжествовало христианство в Римской империи. Или победители навязывают свое исповедание побежденным, как аравитяне покоренным ими народам Азии и Африки, как Карл Великий – саксонцам, как меченосцы – эстам и латышам; или, наконец, победители принимают веру побежденных, как франки от романизированных галлов. Ни первого, ни второго, ни третьего не было в России; по крайней мере, то, что можно считать в некотором смысле миссионерством, далеко по своей силе не соответствовало быстроте и беспрепятственности распространения христианства. Один человек, который по всему своему характеру представляет самое живое олицетворение славянской природы, является как бы представителем своего народа. Гостеприимный, общительный, веселый, несмотря на свои увлечения, насквозь проникнутый славянским благодушием, вел. кн. Владимир начинает чувствовать пустоту исповедуемого им язычества и стремление к чему-то новому, лучшему, способному удовлетворить душевную жажду, хотя для него и неясную. На его зов стекаются миссионеры от разных религий; он свободно обсуживает, совещаясь со своими приближенными, излагаемые перед ним учения, посылает доверенных лиц исследовать характер этих религий на месте и, убедившись этим путем свободного исследования в превосходстве православия, принимает его. За ним, почти без сопротивления, принимает его и весь русский народ. Процесс, который происходил в душе князя, был только повторением более определенным и сознательным того, что смутно передумала и прочувствовала вся тогдашняя Русь. Ибо этим только и можно объяснить отсутствие сопротивления столь коренному нововведению. Все совершилось без наружной борьбы, потому что видимому действию предшествовала уже борьба внутренняя, отрешение от старого, отжитого и внутренняя жажда лучшего, нового. Рассказ о принятии христианства Владимиром считается легендою. Ежели это легенда, то она говорит еще гораздо более, нежели историческое событие, которое могло бы быть не более как случайностью, тогда как легенда служит выражением того, как, по понятиям русского народа, должен был произойти переход от язычества к христианству. Заподозривают также справедливость или, по крайней мере, полноту летописного рассказа о ходе распространения христианства и в некоторых летописных сказаниях, как, например, о волхве в Ростове, хотят видеть указание на продолжительную борьбу новой религии со старою. Но ежели бы новой религии пришлось выносить сильную борьбу с язычеством, то каким образом при тогдашней слабости государственной власти, при бездорожии, при бесконечных лесах, разделявших область от области, волость от волости, могла бы власть способствовать водворению христианства против воли народа? А главное, каким бы образом монахи-летописцы, в глазах которых все прочие события, все прочие подвиги были ничто в сравнении с подвигами апостольства и мученичества (которые должны бы были сопровождать распространение христианства, если бы народ серьезно противился его введению), именно об этих-то подвигах и умолчали? Не может служить опровержением мирному и беспрепятственному распространению христианства в России и то, часто выставляемое на вид, обстоятельство, что языческие понятия и обряды долгое время продолжали господствовать в народе, да и теперь еще далеко не вполне устранены. Содержание христианства, по его нравственной высоте, бесконечно и вполне едва ли осуществляется даже в отдельных, самого высокого характера личностях, не говоря уже о целой народной массе. Но иное дело полное осуществление христианского идеала в жизни и деятельности, иное дело – более или менее неясное сознание его превосходства, его властительной силы над душою, о чем я только и говорю. Подобный же характер имеет и подвиг Минина. И он является представителем мысли и чувства, живших в целом русском народе, им только яснее сознанных, и разом одушевивших народ.
Но всего очевиднее выразилась особенность русского народного характера, о которой теперь идет речь, в том событии, которому все мы были очевидцами. И в освобождении крестьян, как в призвании варягов, введении христианства, освобождении от поляков, выразились в лице одного человека, в лице императора Александра, мысли и чувства всего русского народа. Все мы очень хорошо знаем, что освобождению крестьян не предшествовало никакой агитации, никакой, ни изустной, ни печатной, пропаганды; все, казалось, были одинаково к нему не подготовлены, интересы единственного образованного сословия в государстве ему противоположны и по самой сущности дела враждебны. Однако все совершилось быстро, с невероятным успехом. Крестьяне не просто освобождаются на европейский лад, а наделяются землею, и все это без всякой борьбы, без всякого сопротивления с какой бы то ни было стороны и без каких-либо партий, кроме разве некоторых уродливых и ничтожных претензий на партию, представляемых газетою "Весть". Что все обойдется благополучно со стороны народа, в этом были уверены все, сколько-нибудь знавшие Россию. Но уверенность в едином спасительном исходе дела, я думаю, поколебалась у многих, когда сделалось известным, что введение реформы поручается лицам от дворянства, предлагаемым предводителями и утверждаемым губернаторами, без участия депутатов со стороны крестьян, без всякого влияния их на выбор посредников. По всем европейским понятиям, от которых всем нам так трудно вполне отрешиться, должно было полагать, что интерес крестьян, преданный в руки противоположного ему интереса дворян, будет нарушен, насколько это только возможно без нарушения буквы закона; а мы знаем, как широка эта возможность. Казалось, что исполнение, применение лишат закон его существеннейшего значения. И такое опасение оказалось совершенно основательным там, где исполнителями, посредниками явилось не русское дворянство, а польское шляхетство. В России реформа совершилась так, как не только Европа, но и большинство из нас самих не могли себе представить. Русский народ – как крестьянство, так и дворянство – выказал себя в таком свете, что, дабы достойным образом обозначить характер их деятельности в это время, должно обратиться к языку народа, у которого все нравственно высокое, все добродетельное имело характер гражданский. То была virtus в полном значении этого слова. Перенесемся мысленно на несколько столетий в будущее и представим себе, что о пережитом нами времени остались лишь такие же скудные следы, как те, которые мы имеем об основании Русского государства или о введении христианства в Россию; представим себе также, что в течение этих столетий не утратилась привычка судить о явлениях русской жизни с европейской точки зрения, и пусть были бы тогда открыты в пыли архивов история о происхождении в селе Бездне Казанской губернии и немногие ей подобные. Как бы возликовали тогдашние европействующие историки! Фактические следы борьбы интересов и сословий найдены, отдельные примеры ничтожных исключений, даже не исключений, а жалких недоразумений, были бы раздуты в целую систему, по которой своеобразные события русской жизни благополучно подводятся под общий нормальный, единственно возможный характер – общеевропейского хода исторического развития. Теперь, конечно, к такому толкованию прибегнуть невозможно. Надо объяснить дело давлением власти, отсутствием энергии в защите своих интересов, влиянием бюрократического элемента и т. д. Конечно, правительственная власть в России имеет большую силу материальную и еще большую нравственную, но мы очень хорошо знаем, что в этом деле ей вовсе не приходилось себя обнаруживать. Мы знаем также, что, дабы сделать все усилия ее бесплодными, не было бы надобности ни в каком деятельном сопротивлении, что для этого было бы вполне достаточно сопротивления пассивного, недобросовестного отношения к делу. Шляхетство западных губерний показало пример, как это делается, и если бы не счастливая случайность открытого восстания – крестьянская реформа в западных губерниях не только не принесла бы ожидаемых от нее плодов, но принесла бы последствия самые вредные. Ежели бы и русское дворянство было одержимо тем же узким эгоистическим направлением, если бы главною побудительною причиною его действий был бы интерес, то, несмотря ни на какие усилия власти (органы которой ведь также все должны бы были разделять те же узкие сословные воззрения), дело не пошло бы лучше, чем в западных губерниях при польских мировых посредниках.
Так же точно несправедливо бы было заключить из общего характера, которым отличались все главные перевороты в жизни русского народа, об отсутствии в нем всякой энергии и самодеятельности, о его воскоподобной мягкости, по которой из него можно лепить что угодно. Мы видим другие примеры, что величайшие усилия правительства не приводили ровно ни к чему там, где цели его были противны народному убеждению или даже где народ относился к его целям совершенно равнодушно. Пример старообрядства доказывает первое, пример же множества учреждений, реформ, нововведений, оставшихся мертвою буквою, пустою формою без содержания, хотя против них не только не было активного, но даже и пассивного сопротивления, а было только совершенно равнодушное, безучастное к ним отношение, достаточно доказывает второе.
Из выставленной здесь черты русского народного характера, проявлявшейся при самых важных торжественных мгновениях его жизни, выводится то заключение, что вообще не интерес составляет главную пружину, главную двигательную силу русского народа, а внутреннее нравственное сознание, медленно подготовляющееся в его духовном организме, но всецело обхватывающее его, когда настает время для его внешнего практического обнаружения и осуществления. А так как интерес составляет настоящую основу того, что мы называем партиями, то во всей исторической жизни России нет ничего, что бы соответствовало этому, по преимуществу западноевропейскому, или романо-германскому, явлению. Все, что можно назвать у нас партиями, зависит от вторжения в русскую жизнь иностранных и инородческих влияний; поэтому, когда говорят у нас об аристократической или демократической партии, об консервативной или прогрессивной, все очень хорошо знают, что это одни пустые слова, за которыми не скрывается никакого содержания. Напротив того, для всех ясен смысл партии немецкой, партии польской, в противоположность партии русской, которая не есть и не может быть партией уже по самому названию, которое ей дают. Что за названиями этих партий скрывается действительная, более или менее могущественная сила, это также мы знаем. Конечно, и у нас есть различные мнения относительно того или другого явления общественной жизни, но потому именно они и суть только мнения, что не представляют собою никакого интереса. Это выказалось бы до очевидности ясно, если бы мы имели статистически обработанные данные о кругах подписчиков на все наши политические журналы; тогда ясно бы оказалось, что все различия в цветах и мнениях журналов не соответствуют никакому сословному или иному какому интересу в кругу их подписчиков. Один только журнал, без сомнения, представил бы исключение – это пресловутая "Весть", которую одну только и можно назвать органом партии, но и эта партия выросла так же точно не на русской почве, как и партия польская и немецкая, которым газета эта так сочувствует. Партия эта называлась некогда боярскою, а ныне может быть названа псевдоаристократическою. Начало ее одушевляющее, в более здоровой и народной форме, конечно, применяясь к жизни народов, в которой имело корни, доставило могущество и благоденствие Англии, сохранило и укрепило маленький мадьярский народ, подчинив ему весьма обширное для его сил королевство Венгерское, доставляло в течение целого ряда веков если не свободу и благоденствие, то силу и величие республике Венецианской. Оно же, будучи менее соответственным с характером французской нации, принесло ей много бедствий и довело до страшной катастрофы, но, по крайней мере, сообщило много блеску длинному периоду ее истории. Но на совершенно несвойственной ему почве славянства это начало не могло не принять самой ложной формы и не иметь самых гибельных последствий. Высшие сословия Польши, всосав его вместе с католицизмом и разными немецкими порядками, внесли отраву во всю жизнь Польши, и оно не только наконец погубило ее, но всю историю ее обратило в притчу во языцех. В Сербии склонило оно голову под иго мусульманства, в Чехии подало руку онемечению, а в Западной России к ополячению народа. В России, где, благодаря Бога, никогда не имело оно ни большой силы, ни большого значения, оно крамольничало во время детства и юношества Иоанна, целовало крест королевичу Владиславу, и будучи побеждено мещанином Мининым и князем Пожарским, задавленное мощью Петра, при последнем уже издыхании навело на Россию десятилетнюю казнь бироновщины, и имело бы гораздо худшие последствия, если бы не было подсечено под самый корень русским дворянством. Не мудрено, что такое антирусское, антиславянское начало принимает несвойственные русской жизни аллюры партии, образцы и идеалы которой, быв прежде польско-шляхетскими, стали теперь немецко-баронскими, сохранив, однако же, горячие симпатии и к своему древнему первообразу.
Другой вывод из выше изложенной исторической особенности важнейших моментов развития русского народа состоит в огромном перевесе, который принадлежит в русском человеке общенародному русскому элементу над элементом личным, индивидуальным. Поэтому-то между тем как англичанин, немец, француз, перестав быть англичанином, немцем или французом, сохраняет довольно нравственных начал, чтобы оставаться еще замечательною личностью в том или другом отношении, русский, перестав быть русским, обращается в ничто – в негодную тряпку, чему каждый, без сомнения, видел столько примеров, что не нуждается ни в каких особых указаниях.
Особенности в психическом строе народа, кроме подмеченных некоторых черт, проявляющихся в особенном характере его истории, могли бы еще быть определены, при посредстве естественной классификации нравственных качеств, по видам, родам, семействам, классам, так чтобы качества эти и в системе были бы расположены в группы, все более и более удаленные друг от друга, по мере их внутренней несовместности между собою. Очевидно, что при таком расположении чем выше группа качеств (в систематическом порядке), которыми можно характеризовать народы (отвлекаясь, конечно, от частных исключений, которые не могут не представляться), тем глубже должно быть существующее между ними различие, тем менее общего будет в направлении всей их деятельности.
Нравственные качества (я не говорю добродетели, потому что не только недостаток, но и самый их излишек может составить порок), кажется мне, весьма естественно разделяются на три группы: на качества благости, справедливости и чистоты. Эти последние, состоящие в противу действии разного рода материальным соблазнам и принадлежащие к области обязанностей человека к самому себе, не могут доставить какой-либо народной характеристики. Они суть, так сказать, венец личных человеческих добродетелей. Оба остальные разряда составляют качества общественные, так как они обусловливают собою характер взаимных отношений людей между собою. Не нужно большой наблюдательности, чтобы признать в первых по преимуществу свойства славянского, а во вторых свойства германского народного характера. Конечно, весьма хорошо усвоивать себе и те добрые качества, которые менее нам сродны, в той мере, в которой они не поставляют препятствия развитию наших личных или народных добродетелей, и в известной мере это, конечно, возможно; но тем не менее возможность с верностью характеризовать два народные характера не частными какими-либо чертами, но целыми высшего разряда группами нравственных качеств, соответствующими их основному делению, должна указывать на весьма существенные различия во всем психическом строе народов славянских и народов германских.
Характеристические особенности в умственных свойствах славянского племени если не труднее подметить, чем в области нравственном, то, однако же, труднее изложить с некоторою доказательностью. По недавности и малому еще развитию у славянских народов науки, в которой эти особенности умственного склада всего яснее отражаются, как тому были представлены примеры в шестой главе, недостает нужных для сравнения материалов.
Это было бы легче сделать относительно эстетических свойств славянского духа, ибо для такого изучения есть уже гораздо более материала. Но для углубления в эту область потребовалось бы сравнительное изучение славянских литератур с литературами других народов. Я не имею ни достаточных познаний, ни нужных для этого способностей, и поэтому все, что мог бы в этом отношении сказать, оказалось бы недостаточно подтвержденным фактами, а, с другой стороны, заставило бы слишком далеко удалиться от истинной цели этой статьи, цели, которая имеет весьма мало общего с эстетикою.
Глава IX. Различие вероисповедное
Откровение. – Четыре понятия о церкви. – Понятие протестантское. Мистическое воззрение на церковь. – Католическое понятие. – Неосновательность папских притязаний. – Непоследовательность католиков. – "Свободная церковь в свободном государстве". – Отношение церкви и государства; брак. – Православное понятие о церкви. – Рационализм Европы
Le romanisme, en remplacant l'unite de la foi universelle, par l'independance de l'opinion individuelle ou diocesaine a ete la premiere heresie contre le dogme de la nature de l'Eglise ou de sa foi en elle meme. La Reforme n'a ete qu'une continuation de cette meme heresie sous une apparence differente.
Quelques mots par un chretien orthodoxe sur les communions occidentalesi.
Различие в просветительных началах русского и большинства других славянских народов от народов германо-романских состоит в том, что первые исповедуют православие, а вторые – римский католицизм или протестантство. Достаточно ли велико различие между этими исповеданиями, чтобы основывать, между прочим, и на нем культурно-историческое различие славянского от германо-романского типа? Не составляет ли оно малосущественную особенность, так сказать, исчезающую в общем понятии христианской цивилизации? И, с другой стороны, не существеннее ли даже различие между католичеством и протестантством, чем между первым и православием, догматическая разность между которыми для многих представляется не очень большой, так как они оба основываются на авторитете, в противоположность протестантству, основывающемуся на свободном исследовании? На это можно бы ответить очень коротко, именно: что отличие истины от лжи бесконечно и что две лжи всегда менее между собою отличаются, чем каждая из них от истины; но такой ответ был бы удовлетворителен только для тех, которые и в нем далее не нуждаются; для тех же, которые в трех названных формах христианства видят не более как формальное различие, соответствующее различным ступеням развития религиозного сознания, такой ответ не сказал бы ровно ничего, и посему-то я позволю себе несколько остановиться на этом существенно важном предмете.
Сущность христианской догматики излагается в символе веры, и действительно все мы: православные, католики, протестанты читаем этот символ почти одинаково, соединяя, однако же, совершенно различный смысл со словами: "верую во единую, святую, соборную и апостольскую церковь", – смысл столь различный, что Хомяков в известных своих брошюрах мог сказать, что все западные христианские общества суть ереси против церкви, в противоположность неправославным обществам восточным, которые, неправильно толкуя и понимая разные другие догматы, выраженные в символе, и тем, конечно, удаляясь от истинной церкви, о сущности самой церкви сохраняют, однако же, понятие правильное. Но важность правильного понятия о церкви такова, что между тем как ложный догмат, касающийся даже самых основных влияний истин христианства, может ограничивать свое вредоносное влияние одним кругом понятий, к нему относящихся, оставляя все прочее неповрежденно-истинным, – ложное понятие о церкви неминуемо ведет хотя иногда и медленным, но неизбежным логическим процессом к ниспровержению всего христианского учения, лишая его всякого основания и всякой опоры.
Как христианская церковь, так и все называющие себя церквами христианские общества одинаково признают своим основанием Божественное Откровение и всякое учение, отвергающее Откровение, не признают уже христианским. Следовательно, необходимость Откровения может служить точкою исхода для обсуждения разных проявлений христианства; далее заходить незачем. Необходимость же Откровения признается потому, что только оно одно может дать вполне достоверное, незыблемое основание для веры и для нравственности… Отношение церкви к Откровению совершенно то же, как отношение суда к гражданскому закону, с тою, конечно, разницею, что внутренняя достоверность заменяется в последнем случае внешнею обязательностью. Представим себе идеально совершенный гражданский кодекс. Без судебной власти для его истолкования и применения, при всем своем совершенстве, он был бы бесполезнейшею из книг. Двое тяжущихся, конечно, никогда не решили бы своей тяжбы, если б им обоим было предоставлено справляться в законе о том, кто из них прав. А если бы все тяжущиеся были достаточно проницательны, достаточно свободны от личного эгоистического взгляда, заволакивающего для них правое, чтобы решать таким образом свои тяжбы, то опять-таки закон был бы для них совершенно излишним; ибо это значило бы, что они носят его в своем уме и сердце во всей полноте и совершенстве. Итак, в конце концов, самое значение Откровения будет зависеть от того, какое значение придается понятию о церкви и нераздельному с нею понятию о ее непогрешимости.
Таких понятий существует, как известно, в христианском мире четыре. Понятие православное, утверждающее, что церковь есть собрание всех верующих всех времен и всех народов под главенством Иисуса Христа и под водительством Святого Духа, и приписывающее церкви, таким образом понимаемой, непогрешимость. Понятие католическое, сосредоточивающее понятие о церкви в лице папы и потому приписывающее ему непогрешимость. Понятие протестантское, переносящее право толкования Откровения на каждого члена церкви и потому переносящее на каждого эту непогрешимость, конечно, только относительно его же самого, или, что то же самое, совершенно отрицающее непогрешимость где бы то ни было. Наконец, понятие некоторых сект, как, например, квакеров, методистов и так далее, которое можно назвать мистическим, так как оно поставляет непогрешимость в зависимость от непосредственного просветления каждого Духом Святым, и признаком такого просветления выставляет собственное сознание каждого, считающего себя вдохновенным или просветленным. Из этих четырех понятий все, кроме третьего – протестантского, представляются теоретически возможными, не представляют внутреннего противоречия, если только могут доказать справедливость своего воззрения. Напротив того, понятие протестантское, отвергая всякую непогрешимость и представляя все произволу личного толкования, тем самым отнимает всякое определенное значение у самого Откровения, ставит его в одну категорию со всяким философским учением, с тою, однако же, невыгодою для Откровения, что так как это последнее выставляет свои истины как определенные положения, которых вовсе не доказывает, а не как выводы из общего начала, добытого посредством логического построения, то лишается и той доказательной силы, которая свойственна систематизированной науке. Поэтому вся сущность религии, по протестантскому воззрению, необходимо сводится на одно лишь личное субъективное чувство. Но субъективная религия, то есть верование тому, чему хочется, или, пожалуй, чему верится, есть отрицание всякого положительного Откровения или отнятие у него не только всякой внешней, но и всякой внутренней обязательности, то есть всякой достоверности, а следовательно, отрицание религии вообще, которая не мыслима без полной достоверности, подчиняющей себе весь дух человека, подобно тому как достоверность логическая подчиняет себе один его ум. Очень верною эмблемою, или символом, протестантского взгляда может, кажется мне, служить следующая черта из жизни президента Соединенных Штатов Джеферсонаii. Джеферсон был, что называется, вольнодумцем или esprit fortiii и, следовательно, не признавал божественности христианства, но, однако же, уважал многие из его истин. Желая отделить справедливое от того, что, по его мнению, ложно, он взял два экземпляра Евангелия и вырезывал из них, что казалось ему сообразным с здравым понятием о нравственности, или, проще сказать, то, что ему нравилось. Свои вырезки наклеивал он в особую тетрадку и таким образом составил себе свод нравственных учений, или, ежели угодно, систему религии для своего обихода. Каждый приверженец протестантского учения поступает, в сущности, совершенно таким же образом, или даже, собственно говоря, иначе и поступать не может. При этом, конечно, у каждого соберется тетрадка с особым содержанием, и мудрено себе представить, чтобы оно не носило на себе печати своего хозяина. Мистик не удостоит вырезки всего, что покажется ему слишком простым или естественным, рационалист того, что покажется слишком таинственным и сверхъестественным. Мудрено, чтобы ножницы не получили иного направления у склонного к мстительности, к честолюбию, к тщеславию, к корыстолюбию, к сладострастию и т. д.
Неизбежные последствия такого взгляда устраняются, насколько возможно, протестантами установлением условных, произвольных, искусственных ортодоксий, которые и известны под именем вероисповеданий англиканского, лютеранского, реформатского, пресвитерианского и т. д., которые, очевидно, никакого авторитета у своих мыслящих последователей иметь не могут, потому что ни за Генрихом VIII, ни за Лютером, ни за Кальвином, ни за Цвинглием не признают они никакого вдохновенного авторитета, а так же точно и за своими церковными собраниями, как, например, за Аугсбургским не признают значения соборного. Все эти ортодоксии суть, следовательно, только различные системы вырезок. Отвергнув церковное предание, Лютер с тем вместе вырезал и текст апостола Павла, в котором повелевается держаться преданий; отвергнув некоторые таинства – вырезал и тексты, которыми апостол Иаков установляет елеосвящение или которыми апостол Павел утверждает, что брак есть великая тайна, и т. д. Кальвин пошел дальше в своих вырезках, вырезав, например, из Ев. Иоанна всю беседу Иисуса Христа с учениками о значении причащения. Переходя от вырезки к вырезке, мне кажется, трудно усмотреть границу между этими вырезками, устанавливающими произвольные ортодоксии, и вырезками Ренана, который счел нужным вырезать все, что имеет сколько-нибудь характер сверхъестественного, и даже само воскресение. На какой же ступени этой лестницы остановиться, на каком основании останавливаться и есть ли даже какая-нибудь возможность остановиться, пока не спустишься до самого низу, откуда уже больше спускаться некуда?
Мистическое воззрение на церковь квакеров, методистов и других сектантов может быть оставлено в стороне" так как учения этих сект не могут считаться просветительным началом народов Европы, будучи лишь незначительным исключением среди господствующих между ними религиозных воззрений.
Про католическое понятие о церкви нельзя сказать, чтобы оно заключало в себе какое-либо внутреннее противоречие, как протестантское. Оно мыслимо, если бы возможно было его доказать. Но в том-то и дело, что доказать можно только его невозможность. Для этого не нужно углубляться в факты церковной истории, тем более что этот способ доказательства вполне убедителен только для того, кто сам до него доискался по источникам. Для прочих же, которые должны принимать слова исследователей на веру, трудно, при господствующем разноречии исследователей, принадлежащих к разным учениям, с совершенным беспристрастием принять ту или другую сторону. Но этого вовсе и не нужно. Невозможность непогрешимости и главенства пап, кажется, очень легко может быть доказана из небольшого числа самых известных фактов и оснований, признаваемых самими католиками. Но защитники католицизма, будучи весьма часто сознательно недобросовестны, похожи на скользких ужей, выскользающих из рук, когда думаешь их схватить. Поэтому у них о каждом из их отличительных догматов есть по нескольку мнений, которые вынимаются из их полемического арсенала, смотря по удобствам. Так и о главенстве и непогрешимости пап и об отношении их власти к власти вселенских соборов встречаются разные мнения у самих католиков. Одни считают пап выше всякого собора, другие же подчиняют пап соборам. Очевидно, что только ультрамонтанское воззрение, считающее авторитет папский выше соборного или, по крайней мере, равным ему, может быть защищаемо с католической точки зрения, признающей в папе наместника Иисуса Христа. Если папа не заключает в себе всей полноты церковного авторитета, то, спрашивается, каким же образом может он устанавливать новые догматы без созвания Вселенского собора? Если не признавать всей полноты этого авторитета, то на чем основывается все католическое учение? Кто установил все разности, замечаемые между нынешним католичеством и прежним вселенским православием? Вселенского собора для этого никогда не собиралось. Кто добавил вселенский символ веры? Ведь сделать это мог лишь равный собору авторитет. Но Вселенского собора по этому поводу не было; даже один собор, и в числе его членов послы Иоанна осудили это нововведение, – осуждение, которого папа впоследствии только не ратификовал, так как надежды, с которыми он делал все эти уступки, не исполнились. Следовательно, это изменение символа может лишь в том случае иметь значение, с самой точки зрения католиков, если они признают за папою авторитет, по крайней мере, равный авторитету Вселенского собора. Но ежели папы имеют такой авторитет и соединенную с ним непогрешимость, то этот авторитет, эта высшая степень церковной благодати должна кем-нибудь им быть передаваема. Католики утверждают, что она передана им апостолом Петром. Принимая значение верховенства апостола Петра над прочими апостолами именно в этом католическом его смысле, соглашаясь и с тем, что Петр был римским епископом, оставляя без внимания, что первые два римские епископа, Лин и Анаклет, были рукоположены Павлом, а не Петром, все-таки остается еще узнать, когда и посредством какого акта передал апостол Петр свое верховенство над церковью своему якобы преемнику? Сколько известно, апостол Петр никого после себя папою не назначал. Он поставил нескольких лиц епископами, но ни одному епископу, по понятиям самих католиков, не присвоивается непогрешимости. Для этого, очевидно, нужно получить степень благодати гораздо выше епископской, нужно, чтобы вся благодать, заключающаяся вообще в церкви, сосредоточилась на одном лице, которое и было бы ее видимым источником. Точно так, как ни из чего не следует, что лицо, посвященное епископом в священники, могло бы занять без особого посвящения кафедру посвятившего его епископа, так же точно не следует, чтоб из числа нескольких епископов, посвященных апостолом Петром, один из них мог, без нового, особого сообщения даров благодати тем же апостолом, вступить в обладание всею полнотою церковного авторитета. В противном случае необходимо принять, что и всем епископам, посвященным апостолом Петром, прилична вся та полнота авторитета, которая соединялась в лице апостола, а следовательно, и всем тем епископам, которых они посвятили, так что или верховенство апостола Петра никому не было передано, ибо собственно в папы он никого не посвящал, или оно было передано весьма многим, и число этих лиц все возрастало с течением веков. (…)
Неосновательность папских притязаний, а следовательно, и всего католического понятия о церкви можно доказать еще и другим, столь же простым и очевидным способом. Становясь опять на католическую точку зрения и признавая верховенство ап. Петра над прочими апостолами в том именно смысле, в каком понимают его католики, спрашивается: кому принадлежит высший в церкви авторитет после ап. Петра? Очевидно, что он принадлежит другим апостолам. Но по кончине ап. Петра, ап. Иоанн жил еще более 30 лет и, однако же, не занимал римской кафедры, и даже призываем на нее не был. Следовательно, если утверждают, что папам принадлежит главенство над церковью потому, что они суть наследники ап. Петра на римской кафедре, то против этого можно возразить с такою же точно силою, что так как высший церковный авторитет после кончины Петра на эту кафедру призван не был, то из этого необходимо следует, что, по понятиям первых христиан, верховный авторитет в церкви вовсе не соединялся необходимым образом с римским епископством, ибо иначе надо признать, что папы Лин, Анаклет и св. Климент имели преимущество власти и авторитета над самим ап. Иоанном или что в то время было в церкви два равносильные авторитета, из которых каждый соединял в себе всю полноту церковной власти. Для уяснения представим себе, что предстоит решить следующий исторический вопрос. В столице какого-нибудь государства существовала некоторая важная и значительная должность, точного значения которой мы, однако же, не знаем, – не знаем, соединялась ли с нею вся полнота самодержавной царской власти, или же это была только должность, весьма уважаемая и высокая, но, однако же, без преимуществ верховенства. Данные для решения этого вопроса имеются следующие: 1) известно, что первый, занимавший эту должность, имел царскую власть; 2) известен закон перехода этой власти; например, известно, что она передавалась от отца к сыну по первородству, так что сын этот имел в глазах народа высший авторитет после своего отца. При этих несомненных данных события имели следующий ход. Отец умер. На должность, которую он занимал, поступает не сын, а кто-либо другой, даже не по назначению отца, а по избранию; и затем, по понятиям всего народа, вновь вступивший на должность (объем власти которой составляет искомое задачи) занимает ее законным образом; сам ее занимающий считает себя также законным образом ее занимающим; наконец, тот, который по первородству должен был бы ее занимать, если бы она была царская, также считает выбранного помимо его законным образом ее занимающим; и нераздельно и одновременно с этим, однако же, весь народ, сам поставленный на должность и наследник царской власти одинаково признают, что царская власть (т. е. в нашем случае высший церковный авторитет), несомненно, принадлежит не кому другому, как этому наследнику. Если при всем этом мы признаем, что должность, точное значение которой нам неизвестно и которое мы отыскиваем, тем не менее была должностью царскою, то придем к следующему неразрешимому противоречию: что весь народ (т. е. все первые христиане), сами лица, занимавшие означенную должность (Лин, Анаклет, св. Климент), и даже сам законный наследник царства (апост. Иоанн) признавали этих лиц, занимавших более чем в течение 30 лет эту мнимо-царскую должность, одновременно и нераздельно и законными государями и похитителями престола. Чтобы выйти из этого противоречия, необходимо признать, что должность сама по себе не имела царского значения и что если первый ее занимавший и был вместе с тем царем, то это было лишь случайное совпадение, вроде того как, например, римские императоры принимали на себя часто и должность консулов. Нельзя против этого сделать и того возражения, что обстоятельства или собственное нежелание ап. Иоанна воспрепятствовали ему занять римскую кафедру, ибо все-таки ее должны бы были ему предложить, даже он сам должен бы был потребовать ее для себя, дабы выяснить ее значение для предбудущих веков, а затем уже по каким-либо причинам от нее отказаться. Не подумали об этом заблаговременно отцы-иезуиты, а то непременно отыскали бы какое-нибудь свидетельство о таковом событии, за несуществованием которого необходимо признать, что ни первые христиане, ни первые папы, ни сам ап. Иоанн не соединяли с римским епископством никакого понятия о церковном главенстве, а, следовательно, такового единоличного главенства не имел в виду и сам Иисус Христос.
Независимо от того, доходит ли до сознания самих католиков вся несостоятельность папских притязаний, самые практические последствия власти и значения, приписываемого папам, таковы, что католические народы не могут сносить их бремени и стараются высвободиться от них разного рода непоследовательностями. Например, непогрешимость папы ограничивают одною духовною областью, на основании слов: "царство мое не от мира сего" и "воздадите Божие Богови и кесарево кесареви". Такое разграничение, без сомнения, справедливо, но как же решить, где границы мира сего, где кончается кесарево и где начинается Божие? Очевидно, что ни мир, ни кесарь этого решить не могут, ибо они погрешительны и могут положить неправильную границу – могут выйти из своих пределов, как вышел из них Пилат, которому сказаны были первые из этих слов; как выходили Римские кесари, которые, как известно, вообще не были склонны к нетерпимости и гонениям за веру, а думали, что требовали именно кесарева, заставляя христиан приносить жертву богам, нераздельным с римским государством, воскуривать фимиам на алтаре статуй, воздвигнутых кесарю, представителю обожествленного государства. Если папа – наместник Христов, то очевидно, что никому, кроме его, не может принадлежать и разграничение Божьего от кесарева. Пий IX обнародовал свою знаменитую энциклику. Нельзя даже и с посторонней беспристрастной точки зрения сказать, чтобы многие параграфы ее не относились действительно к области Божией, как, например, вопрос о религиозной терпимости. Что же против нее возражают? Что она противоречит духу времени, и приглашают папу согласоваться с ним, если он хочет сохранить свою власть и значение. Как смешны и ничтожны должны казаться такие возражения истинному католику! Велика важность в самом деле – дух времени, сопоставленный с тем, кто по католическому понятию есть уполномоченный Духа вечности! Если дух времени в противоречии с ним, то это уже не в первый раз; этот дух времени есть дух того, кого называют царем века сего. Приглашение папе поклониться ему, чтобы сохранить свою власть, не было ли делано в тех же почти выражениях на горе в пустыне Тому, чьим наместником католики считают папу? Таковы практические затруднения, которые уже давно существуют для государств и народов, называющих себя католическими, а теперь возведены на степень непримиримых противоречий Пиевыми "non possumus", перед которыми, впрочем, нельзя не благоговеть, как перед выражением бесстрашной последовательности мысли и внутреннего убеждения. Противоречия эти на наших глазах если не усилились, то, по крайней мере, получили печать неизгладимости окончательным словом римского лжевселенского собора. Вообще роль Пия IX заключается в том, чтобы формулировать со всею резкостью, выставить на вид со всею яркостью притязания и требования католичества так, чтобы они били в глаза своим противоречием со всеми наизаконнейшими требованиями других областей жизни и мысли, чтобы разрыв между теми и другими дошел до сознания самых близоруких, самых тупоумных людей, чтобы уничтожить всякую возможность неопределенного, междоумочного положения между католицизмом и европейскою цивилизацией. Католические народы поставляются в необходимость выбирать одно из трех: или отказаться от всех плодов, выработанных кровью и потом многовековой борьбы и многовекового труда, и возвратиться к временам Григория VII и Урбана II; или отказаться от католического понимания церкви и, следовательно, либо перейти на скользкий путь протестантства, либо возвратиться в лоно православия; или же, наконец, отречься вместе с католичеством и от самого христианства. Как ни покажется странным, однако же под невыносимым бременем, налагаемым католичеством, народы и государства католической Европы склоняются, по-видимому, к этой последней альтернативе. Это выражается в знаменитом, пользующимся таким всеобщим фавором афоризме Кавура: "свободная церковь в свободном государстве", т. е., выражаясь полнее и точнее, свободная от государства церковь в государстве, свободном от церкви. Что же это такое значит? Церковь, по нашему православному понятию, есть собрание верующих всех времен и народов под главенством Иисуса Христа и под водительством Св. Духа. Каким же образом может государство быть от нее свободным, свободным от Христа? Конечно, не иначе как перестав быть христианским. Про Турцию мы можем, например, без всякого сомнения утверждать, что это есть государство, свободное от церкви (т. е. от церкви христианской). Этого ли хотят поборники знаменитой Кавуровой формулы? Конечно, нет, по крайней мере, не все они этого хотят. И действительно, с католической точки зрения вопрос и не представляется столь радикальным. Церковь, по католическим понятиям, сосредоточивается в иерархии, а иерархия в папе, так что, собственно, государство, свободное от церкви, означает не более как государство, свободное от папы, что далеко не так страшно. Но хотя, однако, церковь, по католическому понятию, и сосредоточивается в папе, однако же внутреннее содержание ее не заключается вполне в папской власти. Католическое вероисповедание, будучи католическим, вместе с тем, однако же, и христианское. Поэтому не все в католичестве ложь, многое истинное, действительно церковное в нем сохранилось, и государство, объявляя себя свободным от церкви, следовательно, объявляя себя вне церкви существующим, по необходимости выделяет себя и от того, что неразлучно с христианством.
Во многое существенно христианское государство, по ограниченности сферы своих действий, не может и не должно вмешиваться; но во многом также обе эти сферы, церковная и государственная, столь же тесно связаны, столько же проникают друг друга, как дух и тело. Таков, например, супружеский союз, который есть существенно церковный, христианский, а вместе с тем и существенно гражданский. Объявляя себя свободным от церкви, государство необходимо должно нарушить и эту неразрывную связь, должно видеть в браке учреждение исключительно гражданское и тем лишить его всякой нравственной основы. Не говоря о всей оскорбительности для нравственного чувства подчинять любовь, самое свободное, самое стыдливое, наиболее чуждающееся всякого грубого внешнего соприкосновения человеческое отношение, соизволению мэров, становых или квартальных надзирателей, – оскорбительности, которая заставляет предпочитать отношения между полами, основанные на одном природном влечении, такому неуместному административному вмешательству; обратим лишь внимание на те необходимые логические последствия, к которым ведет так называемый гражданский брак. Последствия эти противухристианские, противунравственные и вместе с тем нелепые, и, утверждая это, я имею в виду именно тот гражданский брак, который введен или вводится в разных европейских государствах, предъявляющих более или менее претензии на свободу от церкви, а не гражданский брак, как его понимают некоторые наши умствователи, ибо хотя в этом последнем смысле он также противен христианству, но не нелеп с их точки зрения, т. е. не ведет к последствиям, которые привели бы самих защитников его к противоречию с самими собою.
Ежели брак есть учреждение гражданское только, то он не может быть чем-либо иным, как обыкновенным контрактом между двумя лицами, утверждаемым правительственною властью, которая принимает на себя ручательство за его соблюдение каждою из заключающих сторон, поскольку другая сторона этого будет требовать, но никак не более. Ежели, следовательно, обе стороны пожелают расторгнуть этот договор или как-нибудь изменить его с обоюдного согласия, то гражданская власть, под страхом непоследовательности и превышения своей власти, никоим образом этому воспротивиться не может, не имеет на это ни малейшего права, ни основания. Следовательно, гражданский брак расторжим ad libitumiv. От такого расторжения могут, правда, пострадать третьи лица дети, но подобные же последствия нередко сопровождают и расторжение контрактов другого рода, что, однако же, не дает государству права объявлять их нерасторжимыми. Например, два лица заключают контракт, которым обязуются на общий счет устроить фабрику. Но через несколько времени они, с обоюдного согласия, решаются закрыть свою фабрику и расторгнуть связывающий их договор. Через это работники, работавшие на фабрике, могут лишиться средств к жизни и прийти в самое бедственное положение, которое принудит даже. государство позаботиться об их судьбе; но это не резон отказывать в просьбе расторгнуть, по обоюдному согласию, свободно заключенный договор. Так же точно и относительно брачного договора государство может принять меры к обеспечению детей, наложив известные обязательства на их родителей, учредив над детьми опеку и т. д. Ведь прибегает же оно к этим средствам обеспечения детей в случае расторжения брака смертью или по другим причинам, считаемым законными при браке церковном. Итак, гражданский брак может быть расторгаем и вновь заключаем хотя бы каждый месяц и каждую неделю. Единственное ограничение, представляющееся возможным с этой точки зрения, есть излишнее обременение брачных чиновников делами при слишком часто возобновляемых расторжениях и заключениях браков.
Но свободный договор не только может быть, по обоюдному согласию, расторгаем, он точно так же может быть и изменяем на том же основании. Ежели, например, жена вовсе не причастна чувству ревности, то почему бы ей не согласиться на принятие в супружеское общество третьего лица – еще другой жены, на равных с нею правах? Не представляется никаких резонов, почему бы брачный чиновник мог отказать в своем утверждении такому дополнению к брачному договору. Обопрется ли он на нравственность, – но на какую, – на христианскую? От нее государство, свободное от церкви, должно быть свободно, как и от всего церковного. На общечеловеческую? Если и признать такое неуловимое, никаким определениям не подчиняющееся начало, то многоженство никак не может считаться ему противным, потому что существует и признается нравственность и в Турции, и в Персии, и в Китае, и в Индии, жители которых имеют самые основательные претензии на право называться людьми и, следовательно, требовать, чтобы считаемое ими за нравственное не исключалось из понятия общечеловечески нравственного. Многоженство существовало у царей и даже у первосвященников иудейских, которые признаются весьма нравственными людьми. Может также, конечно, случиться и обратный казус, может найтись неревнивый муж, который согласится на изменение брачного контракта в смысле многомужия, и ежели бы брачный чиновник опять восстал против этого во имя общечеловеческой нравственности, то муж мог бы указать на пример тибетцев или, еще лучше, на пример благородных и рыцарских гуанхов, древних обитателей Канарских островов, уничтоженных испанцами. Основываясь на этих неопровержимых с точки зрения общечеловеческой нравственности фактах, целая компания неревнивых жен и столь же мало ревнивых мужей могли бы пойти далее по пути прогресса и неопровержимой логической последовательности и возжелать осуществить на практике соединение общечеловеческой нравственности по понятиям турок, персиан, китайцев, индийцев с таковою же по понятиям тибетцев и гуанхов, т. е. заключить контракт на началах общности жен и мужей. Далее: нельзя не предвидеть затруднения брачного чиновника, к которому явились бы для заключения брачного контракта брат с сестрою, и на его разглагольствования о противуестественности и безнравственности такого союза победоносно бы возражали на первое, что они сами судьи естественности или противуестественности союза, в который желают вступить, и что хотя считается противуестественным питаться гнилым мясом или тухлыми яйцами, однако же никакая административная власть не сочтет себя вправе изменять menu обеда лиц с такими противуестественными вкусами; а на второе представили бы столь же победоносный пример, что поклонники религии Зороастра не считали противным общечеловеческой нравственности супружества между братьями и сестрами и что в глазах чиновников, служащих свободному от церкви государству, огнепоклонничество и христианство должны иметь одинаковую цену. Несчастному, приставленному к брачным делам, административному лицу ничего бы не оставалось, как опереться на правила нравственности, выработанные коннозаводскою практикою, если таковые могут почитаться достаточными для регуляции междучеловеческих отношений. Можно, конечно, возразить, что никакому административному лицу нет надобности справляться с началами общечеловеческой нравственности и т. п. отвлеченностями, что для него достаточно положительного закона. Не позволяется, и баста. Это, конечно, так, но позволительно, однако же, думать, что сам закон не может же служить выражением того, что кому-нибудь во сне пригрезилось, а что сам закон должен на чем-нибудь да основываться.
С освобождением государства от церкви и признанием формулы, также некогда произнесенной знаменитым государственным мужем, что закон атеистичен (la loi est athee), всякое христианское основание у закона отнимается если и не сейчас, после принятия означенных формул, то со временем, потому что и в мире общественном существует своего рода инерция или косность, по которой он движется в известном направлении еще долго после того, как сила, его толкавшая, перестала уже действовать. Но непобедимая логика наконец всегда-таки берет свое. Может быть, приведут в пример Римское государство, в котором гражданский брак подлежал существенно тем же условиям, как христианский церковный. Пример справедлив только отчасти, потому что римский брак нельзя назвать браком гражданским. Римское государство не только не было свободно от своей языческой церкви, но, напротив того, представляло теснейшее с нею соединение, так что Римское государство было вместе и церковью. Римский император был вместе с тем и pontifex maximusv. Известно, что император Грациан был даже за то убит языческою партией, что, будучи христианином, не хотел облечься в одежду языческого первосвященника. Или укажут на Соединенные Штаты, в которых государство свободно от церкви, и наоборот, без всяких вредных от того последствий. Пример Соединенных Штатов указывает только на то фальшивое положение, в которое неминуемо поставляется государство, принявшее ложное начало, положение, из которого только один выход – крайняя непоследовательность. На берегах Соленого озера, в территории Ута существует общество мормонов, принимающее, как известно, многоженство; и Соединенные Штаты, объявляющие свое государство свободным от церкви и церковь свободною от государства, отказываются признать за мормонами право образовать самостоятельный штат. На каком же это, спрашивается, основании? И спрашивается еще, если бы собралось более 40 000 китайцев, которых и теперь уже в Калифорнии очень много, и поселившись на пустопорожнем месте, каковых в Соединенных Штатах еще так много, потребовали бы признать их область штатом, что, любопытно бы знать, ответило бы на это федеральное правительство? Если бы оно допустило китайский штат, то официально допустило бы и освятило своим авторитетом многоженство и не имело бы ни малейшего основания не допустить и не освятить того же и у мормонов, а затем и у всех, кто пожелал бы жить в этой форме полового союза; если бы же все-таки продолжало не признавать его у мормонов и у прочих граждан Союза, то показало бы, что оно вовсе не свободно от церкви, а имеет свою господствующую церковь, условно установленную государственную религию и основанную на ней государственную мораль, как это и теперь, несомненно, делают Соединенные Штаты. И эта, implicitervi, принимаемая Соединенными Штатами государственная религия отличается лишь тем от других протестантских государственный религий, что тетрадка, в которую они, по примеру Джеферсона, наклеивают свои вырезки, очень мало объемиста.
Из этого выходит, что христианство как в протестантском, так и в католическом сознании подпилено под самый корень, что оно с их точки зрения не выдерживает самой простой критики и держится лишь до поры до времени только по инерции или косности, присущей и нравственному миру. Если эта шаткость основы не столь ясно дошла до сознания католического мира, как до сознания мира протестантского, то зато необходимые практические следствия католического воззрения легли уже всею своею тяжестью на народы этого исповедования, и тяжесть эта стала для них невыносимою. Это внутреннее противоречие касается уже не одного только догматического содержания христианского учения, что, по утилитарному взгляду на религию, не составляло бы еще большой беды, но проникло уже до самых плодов его, то есть до этической, нравственной стороны христианства, как это, впрочем, иначе и быть не может, ибо одно от другого отделяется лишь большим или меньшим промежутком времени, смотря по большей или меньшей быстроте вывода практических последствий из данного основания, быстроте, которою разные народы одарены в различной степени.
Ни теоретических противоречий, ни практической невыносимой тяжести не сопрягается с православным понятием о церкви и о ее непогрешимости. Понятие это не отнимает у религии твердой незыблемой почвы Откровения, как протестантство, и не выходит из пределов, обозначенных в самом Писании: "Аз созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ю", произвольными к нему дополнениями, не основанными ни на Писании, ни на предании, как католичество, которое сосредоточивает эту неодолимость церкви в лице папы, приписывая ему непогрешимость вопреки истории. Православное понятие о непогрешимости церкви не налагает на ум неудобоносимого бремени, ибо хотя она по справедливости считается чудесною, однако принадлежит к тому разряду чудесного, которое необходимо проявляется во всем, в чем ощущается непосредственное действие божественного Промысла. И стройный порядок природы непогрешим, и история непогрешима; в непогрешимости церкви этот божественный Промысл проявляется только более прямым и непосредственным образом. Непогрешимость эта выражается во всем том, что составляет голос всей церкви, и, следовательно, самым явным и определенным образом во вселенских соборах. Но собрать Вселенский собор не во власти никакого царя, никакого патриарха, одним словом, не в чьей власти в отдельности; ибо Вселенским становится только тот собор, который в этом качестве утверждается самим божественным Промыслом, так как внешних признаков для придания собору характера вселенского не существует; и тем только соборам присвоивается это качество, которые были признаны за таковые сознанием всей церкви, т. е., если позволено будет так выразиться, которые были ратификованы самим Главою церкви и Духом Святым.
Между тем как против непогрешимости пап не раз свидетельствует история, непогрешимость соборов запечатлена в истории чудодейственною силою. Все христианские историки видят в распространении христианства явление чудесное и выставляют его как одно из доказательств божественности христианского учения. Но совершенно таким же характером чудесности запечатлены и действия вселенских соборов. Анафема собора прогремела – и пораженное ею учение теряет жизненную силу, иссыхает, как пораженная проклятием смоковница, хотя нередко все внешние обстоятельства, вся сила мирской власти были на стороне отверженного, признанного ересью учения. После смерти Константина арианство господствует на Востоке и на Западе, целый ряд императоров употребляет все усилия для доставления ему торжества, точно так же, как ряд языческих императоров до Константина и Юлиан Отступник напрягали все усилия язычества. Кроме империи, могущественнейшие народы того времени – готфы, занимавшие страны прибалканские и придунайские, Иллирию, Италию, Южную Францию и Испанию, а также бургунды, занимавшие юго-запад Германии, и вандалы, основавшиеся в Африке, – ревностные последователи Ария. Сравнительно с этим могуществом, какое жалкое место занимает гонимое православие! Но анафема собора произнесена – и все это могущество осуждено на ничтожество; не проходит и трех веков, как исчезают уже и последние следы арианства. То же явление повторяется с иконоборством. Ежели несторианство, монофизитство и монофелитство, которым также нередко покровительствуют императоры, и не совершенно исчезли, то слабые следы их сохранились только в трущобах и захолустьях Азии и Африки, вне всякого исторического и религиозного движения, как медленно умирающие остатки племен, составляющих этнографические курьезы, в непроходимых горных котловинах Кавказа или Пиренеи. Слово соборов – было словом власть имеющих. Таковы ли были действия папской анафемы, подкрепляемой светским мечом и всею мощью императоров и королей? vii
Что касается до практического влияния церкви на гражданское положение общества, то вопроса об отношении церкви к государству, имеющего столь преобладающее значение для народов Европы, на почве православия в принципе, в идее вовсе и возникнуть не могло. Грань между божьим и кесаревым, предел между царствами обоих миров не может быть нарушен, потому что сама церковь во всем, что до нее касается, непогрешимая, никогда не может его переступить; если же его когда переступает государство, то это не более как частное и временное насилие, могущее, правда, причинить бедствие или страдание отдельным христианам, иерархам, даже целым народам, но совершенно бессильное по отношению к церкви вообще. Свобода ее ненарушима по той простой причине, что ни для какой земной власти недосягаема. Церковь остается свободною и под гонениями Неронов и Диоклетианов, и под еретическими императорами Византии, и под гнетом турецким. Император Констанций, принудивший папу Либерия признать полуарианский символ и отречься от св. Афанасия, не только бы нарушил, но уничтожил бы свободу церкви, ежели бы в то время христианская церковь имела действительно то значение, которое ей приписывают католики. По случаю придания титула вселенского константинопольскому патриарху папа Григорий Великий пишет патриарху антиохийскому: "Вы не можете не согласиться, что если один епископ назовется вселенским, то вся церковь рушится, если падет этот вселенский". Но что могли сделать все гонения Льва Исаврянина или Константина Копронима, что значили все отступничества того или другого патриарха при православном понятии о церкви? Они увеличили только число ее мучеников или дали случай выказаться новым примерам человеческой слабости.
Нельзя не упомянуть при этом о том непонимании или о той недобросовестности, которые выказывают западные писатели во всем, как только дело коснется славянства или православия: как будто бы и просвещенным умам, принадлежащим к одному культурно-историческому типу, не дано понимать явлений другого типа, к которому они по своему положению должны относиться враждебно. Историки, писавшие о Византийской империи, непременно говорят о так называемом ими придворном православии (Hoforthodoxie), которое будто бы установлялось императорским произволом. Они забывают при этом одно, что, каковы бы ни были религиозные верования императоров, которые они старались навязать своим подданным, православие оставалось всегда одно и то же и было в Византийской империи то же самое, которое существовало тогда и на Западе, на который власть императоров или вовсе не распространялась, или распространялась на небольшие местности, и то на короткое время. Ежели православие сообразовалось с тем, что исповедовали Феодосии, Юстиниан, Феодора или Ирина, те почему же не сообразовалось оно с тем, что исповедовали Констанций, Валентиниан, Ираклий, Лев Исаврянин или Константин Копроним? Не значит ли это, что только когда императоры признавали то, что церковь признавала православным, их религиозная ревность оставляла после себя постоянные результаты; когда же они следовали своим личным внушениям, их старания и домогательства исчезали бесследно? Церковное ли православие или придворное господствовало после этого в Византии? Православие ли придавало силу и значение императорам, его державшимся, или оно заимствовало свою силу от их личных воззрений и взглядов?
Из этого краткого взгляда на православное, католическое и протестантское понимание значения церкви уже достаточно выказывается существенность различия между просветительными началами, исповедуемыми русским и большинством славянских народов, и теми, на которых основывается европейская цивилизация. Различие это не поглощается родовым понятием христианской цивилизации, потому что, вследствие вольного и невольного искажения правильного понятия о церкви, европейская цивилизация, произрастив немало действительно христианских плодов, – на основании неудержимого хода развития того зерна западной лжи, которое примешалось к вселенской истине, – дошла до непримиримого противоречия, теоретического и практического, с обеими западными формами христианства, которые, однако же, как протестантская, так и католическая Европа отожествляет с самим христианством и потому тщится заменить его рационализмом, более или менее радикальным, в области убеждения, а в области практической старается устранить противоречие разрывом между государством и церковью, т. е. между телом и духом; другими словами, хочет излечить болезнь смертью. Этот замен и этот разрыв еще не вполне совершились, но последний обхватывает все большее и большее число государств и приближается к своему кризису. Первый же проникает все глубже в такие слои общества, в которых этот рационализм, проходящий всевозможные градации между деизмом и нигилизмом с огромным преобладанием последнего, по степени их развития и образованности не может уже составлять философского убеждения, а принимает характер веры – и веры по преимуществу атеистической, а следовательно, и с утилитарной точки зрения лишенной всякого этического значения. Это противоречие выказалось ранее в странах католических, потому что практическое противоречие между католическим воззрением и новою гражданственностью ранее ощутилось под католическим гнетом. Но после первой вспышки последовало условное, наружное примирение, потому что противоречие было почувствовано только высшими сословиями, и открывавшаяся бездна казалась слишком ужасною. Так как католический принцип не носит на себе печати необходимого внутреннего противоречия, то стоило только отвратить взор и не вглядываться слишком пристально в его гнилые корни и расшатавшиеся подставки, чтобы временное и наружное примирение сделалось возможным. Напротив того, противоречие с протестантской точки зрения оказалось позднее, когда исчезла надежда на возможность отыскания положительной религиозной истины посредством критики, основанной на рационализме, критики, уже приступающей к своей работе с предвзятою, хотя и бессознательно, может быть, идеей отвергнуть все, по ее понятиям выходящее из порядка вещей самого тесного круга реальности. Начавшись позднее, оно проникло глубже, потому что по самому основному началу протестантизма он ни на чем остановиться не может. Тут не поможет никакое отвращение взора в сторону; противоречие видимо для внутреннего глаза, который и закрыть нельзя. Надо или возвести Лютера, Кальвина, Цвинглия, Генриха VIII, Шлейермахера или кого угодно в сан пророка, пришедшего объяснить закон, или если не прямо перейти к Бюхнеру, то остановиться на узенькой и скользкой ступеньке к нему ведущей лестницы. С другой стороны, оказывается, что продолжительное примирение, даже наружное, с Римом невозможно, что чуть задумаешь отдохнуть, как папская милиция уже начинает свое наступление, свое неустанное, достойное лучшей цели упорство, постепенное нечувствительное заворачивание назад к порядкам Григориев, Урбанов и Бонифациев. Что же тут делать? Есть ли исход? Для отдельных лиц, алчущих правды, – да; двери православия отверсты. Для целых народов, вероятно, нет исхода прямого, непосредственного; надо сначала перейти все ступени дряхлости, болезни, смерти и разложения, чтобы из разложившихся элементов составилось новое этнографическое целое, новый культурно-исторический тип. Для народов, как и для отдельного человека, нет ни живой воды, ни источника юности. "Не оживешь, аще не умрешь", – относится также и к народам.
Православное учение считает православную церковь единою спасительною. Здесь не место касаться того, как понимать это по отношению к отдельным лицам. Но смысл этого учения кажется мне таков по отношению к целым народам: неправославный взгляд на церковь лишает само Откровение его достоверности и незыблемости в глазах придерживающихся его и тем разрушает в умах медленным, но неизбежным ходом логического развития самую сущность христианства, а без христианства нет и истинной цивилизации, т. е. нет спасения и в мирском смысле этого слова.
Глава X. Различия в ходе исторического воспитания
Определение государства. – Отношение между народностью и государством. Племена несознательные. – Племена, умершие для политической жизни. – Одна народность – одно государство. – Различные формы государства. – Федерация; союзное государство, союз государств и политическая система. – Происхождение государства. – Культурородная сила леса. – Зависимость как условие для развития государства. – Рабство. – Данничество. – Феодализм. – Гнет мысли и гнет совести в средневековой Европе. – Внутреннее противоречие в жизни современной Европы. Франция – самое полное выражение Европы. – Очерк французской истории. Благоприятные обстоятельства Англии. – Гнет отвлеченного государства. – Начало национальности. – Столетние периоды. – Характер XIX века. – Вопрос национальности и Наполеоны. – Связь вопросов национальных со славянским вопросом. – Особенности исторического развития России. – Призвание варягов. – Татарское нашествие. Смутное время. – Крепостное состояние
Или, еще лучше, я мог бы назвать их двумя беспредельными и поистине беспримерными электрическими машинами (которые вертятся общественным механизмом) с батареями противоположных свойств; горемычный рабочий класс батарея отрицательная, дендизм – положительная: одна ежечасно притягивает и присвоивает себе все положительное электричество нации (т. е. деньги); другая трудится подобным образом над отрицательным (то есть над голодом), которое одинаково могущественно. До сих пор вы видите только отдельные, преходящие искорки, но подождите немного, пока вся нация не очутится в электрическом состоянии, пока все ваше жизненное электричество, перестав быть здорово-нейтральным, не разделится на две разобщенные доли положительного и отрицательного (денег и голода), и они не противостанут друг другу, заключенные в лейденских банках двух мировых батарей! Прикосновение детского пальца приводит их в соединение, и тогда – что тогда? Земля расшибается в неосязаемый прах этим громовым ударом страшного суда. Солнце не досчитывает одной из своих планет, и впредь уже нет более лунных затмений.
Carlyle. Sartor resartus
Существенная разница – разница типическая между миром германо-романским, или европейским, и миром славянским – заключается еще в ходе исторического воспитания, которое получили тот и другой. Прежде изложения этого различия необходимо уяснить себе некоторые общие теоретические понятия о государстве. Что такое государства и в чем существенно состоит процес их образования и развития? Оставляя всякие мистические, ничего ясного уму не представляющие определения государства (как, например, то, которое мы во время оно заучивали на школьных скамьях: что государство есть высшее проявление закона правды и справедливости на земле), мне кажется, надо остановиться на более удовлетворительном в сравнении с прочими – английском понятии, что государство есть такая форма, или такое состояние общества, которое обеспечивает членам его покровительство личности и имущества, понимая под личностью жизнь, честь и свободу. Такое определение кажется мне вполне удовлетворительным, если жизнь, честь и свободу личности понимать в обширном значении этого слова, т. е. не одну индивидуальную жизнь, честь и свободу, но также жизнь, честь и свободу национальную, которые составляют существенную долю этих благ. Без этого распространения понятия о личной чести и свободе – явления, представляемые государствами, не подойдут под определение его. Для чего в самом деле скопляться миллионам и десяткам миллионов людей в громадные политические единицы, если бы этим соединением сил имелось в виду только обеспечить жизнь, имущество и личную честь и свободу? Для этого достаточно, казалось бы, и таких групп, как швейцарские кантоны или немецкие герцогства средней руки. Если бы одни эти личные блага имелись в виду при жизни в государстве, то для чего бы, например, в 1813 году восставать народам Германии против власти Наполеона? Власть эта была достаточно просвещенная, чтобы обеспечить им все эти блага настолько же, по крайней мере, насколько делали это в то время немецкие правительства. В государствах Рейнского союза она даже обеспечивала их лучше, нежели это прежде делала Священная Римская империя немецкой национальности или после – Германский союз. Например, Наполеонов кодекс, усовершенствованные формы судопроизводства были дарами Наполеонова владычества, которые, по его низвержении, нередко заставляли по нем вздыхать. Для чего бы и нам было приносить в жертву сотни тысяч людей и сотни миллионов денег, жечь города и села, если бы дело шло только о защите жизни, имуществ, личной чести и свободы? Наполеон, без сомнения, их не нарушил бы, ежели бы власть его была признана с покорностью, – может быть, даже доставил бы им такие гарантии, которых тогдашнее общественное и гражданское состояние России не представляло. Очевидно, потому, что все эти блага и немцам, и нам казались ничтожными в сравнении с честью и свободою национальною. Если посмотрим на те жертвы, которых каждое государство требует от своих подданных в виде имущественных взносов и личных услуг, то увидим, что, по крайней мере, четыре пятых из этих жертв идут на обеспечение не личных, а национальных благ. Сюда относится содержание почти всего флота – ибо много ли надо судов для защиты частного имущества от морских разбоев, – почти всей армии, ибо для сохранения внутреннего порядка также немного надо войска; весь государственный долг, который всеми почти государствами был заключаем для расходов, сопряженных с сохранением национальной чести и свободы, или национальных интересов, а не для обеспечения этих благ частным лицам. Так же точно и значительность расходов по финансовому управлению объясняется лишь значительностью сборов, которые должны быть взимаемы на содержание армии, флота и уплату государственного долга. Без этих надобностей и самая администрация могла бы быть гораздо проще и дешевле стоить.
Народности, национальности суть органы человечества, посредством которых заключающаяся в нем идея достигает, в пространстве и во времени, возможного разнообразия, возможной многосторонности осуществления, как это было показано в предыдущих главах; следовательно, жертвы, требуемые для охранения народности, суть самые существенно необходимые, самые священные. Народность составляет поэтому существенную основу государства, самую причину его существования, и главная цель его и есть именно охранение народности. Из самого определения государства следует, что государство, не имеющее народной основы, не имеет в себе жизненного начала и вообще не имеет никакой причины существовать. Если, в самом деле, государство есть случайная смесь народностей, то какую национальную честь, какую национальную свободу может оно охранять и защищать, когда честь и свобода их могут быть (и в большинстве случаев не могут не быть) друг другу противоположны? На что идут миллионы, поглощаемые флотами, армиями, финансовым управлением, государственным долгом таких государств? Ни на что, как на оскорбление и лишение народной чести и свободы народностей, втиснутых в его искусственную рамку. Что значит честь и свобода Турции, честь и свобода Австрии, честь и свобода бывшей Польши? Не иное что, как угнетение и оскорбление действительного народного чувства и действительной национальной свободы народов, составляющих эти государства: греков, сербов, болгар, чехов, русских, румынов, недавно еще итальянцев. Эти государства могут быть по сердцу только тем, кому они дают средства к этому угнетению и оскорблению: турецкой орде в Турции, небольшому клочку немцев, а с недавнего времени и мадьяр в Австрии, оторвавшемуся от своей народности и от славянского корня польскому шляхетству и католическому духовенству.
Из этого национального значения государства следует, что каждая народность, если получила уже и не утратила еще сознание своего самобытного исторического национального значения, должна составлять государство и что одна народность должна составлять только одно государство. Эти положения подвержены, по-видимому, многим исключениям, но только по-видимому.
Первое положение, утверждающее, что всякая национальность имеет право на государственное существование, по необходимости ограничивается условием сознания этого права, ибо бессознательной личности ни индивидуальной, ни народной быть не может, и лишать этой личности того, кто ее не имеет, невозможно. Это несознание народом своей народной личности может происходить от различных причин: от коренной неспособности возвыситься над состоянием дикости и племенной разрозненности или только от недостижения достаточной зрелости возраста. Весьма вероятно, что обе эти причины, в сущности, сливаются всегда в одну последнюю. Но как бы то ни было, если племя, находящееся на такой еще несознательной ступени развития, обхватывается другим, уже начавшим свой политический рост, то первое поглощается последним; ибо не может же племя, более могучее и зрелое, остановить рост свой потому, что ему на пути встречаются эти племенные недоростки. Если между деревом и его корой попадется посторонний предмет – дерево обрастает его, включает в свою массу. Но с народами бывает еще нечто иное: в племенной, этнографический, а не исторический период своего бытия они обладают значительною гибкостью, мягкостью организма. Не подвергнувшись еще влиянию своего особого образовательного начала, они сохраняют способность легко вступать в тесное соединение с другими народностями, точно так же, как многие химические вещества вступают в соединение между собою только в состоянии зарождения (in statu nascenri). Эти этнографические элементы производят смешанный тип, если они между собою равносильны; или только немного изменяют главный тип, если одно из соединяющихся племен значительно преобладает численностью или нравственною уподобляющею силою. Если бы этим поглощаемым племенам предоставлена была возможность долее продолжать свое независимое существование или если бы влияние на них племен, далее подвинувшихся в своем развитии, было отдаленнее, то, может быть, и они достигли бы исторического момента своей жизни и образовали бы самобытные государства. Но, не имев этого счастья или не будучи к тому способны, они входят в состав какого-либо преобладающего (предназначенного к исторической судьбе) племени. Процесс этого поглощения совершается, конечно, не вдруг, а тем медленнее, чем естественнее и менее насильственно он происходит. Такова была судьба финских племен, рассеянных по пространству России. Славяне никогда их не покоряли: с самого начала истории племена их являются в дружном союзе с племенами славянскими и сообща кладут основание государства. Но более сильное племя поглощает их естественным путем ассимиляции. Процесс этот еще не кончен, и мы видим финское племя до сих пор на всех ступенях слияния – начиная от той, при которой остались только следы бывшей розни (в фински звучащих названиях урочищ), до сохранивших еще свою полную племенную физиономию эстов и, несмотря на это, желающих слиться с русским народом, если бы мы сами не поставляли тому преград. Само собою разумеется, что весь, корелы, зыряне, мордва, черемисы, чуваши, так же как остяки, вогуличи или самоеды, не могут составлять государств; но они и притязаний на это никаких не имеют, не имеют сознания исторического или политического характера своей народности, – его, следовательно, и вовсе не существует. Таково же, например, положение басков во Франции и в Испании.
Другие народы умерли для политической жизни, сохранив еще, однако, свои этнографические особенности. Типом таких народов могут служить евреи, которые нигде не выказывают ни малейшего поползновения соединиться в особую политическую группу. Точно так же, как разные стороны личного, так и разные стороны народного характера лишь постепенно обнаруживаются и так же постепенно замирают. Близко к евреям (по замиранию политической, а следовательно, и исторической стороны народного характера) стоят армяне, которые, желая сохранить особенности своего вероисповедания, свой язык, свои нравы, нигде не выказывают стремлений к политической жизни, – между тем как греки, находящиеся в Турции в таком же состоянии угнетения, не перестают выказывать свою политическую жизненность. (…)
Если цель государства состоит, главнейше, в защите и охране жизни, чести и свободы народной и так как эта жизнь, честь и свобода у одной народной личности может быть только одна, то само собою понятно, справедливо и второе положение, то есть что одна народность может составлять только одно государство. Если какая-либо часть народности входит в состав другого государства, то это нарушает уже и ее свободу, и ее честь. Если часть народности составляет другое самобытное государство, то цель, для которой оба эти государства существуют, не может быть хорошо достигнута ни тем, ни другим; собственно говоря, самой цели этой уже не существует, или, по крайней мере, она существует не вполне. Оба эти государства не достигли, значит, истинного сознания своей народной личности; цель их может быть только какая-нибудь временная или случайная. По-видимому, такому понятию совершенно противоречит существование Соединенных Штатов, национальность которых есть английская. Но как существование мелких финских племен в составе русского государства указывает лишь на незавершившийся, неокончившийся еще процесс их ассимиляции, так существование самобытного государства Соединенных Штатов указывает, напротив того, на зародившееся только образование новой национальности, совершенно различной от английской. Мы присутствуем теперь, сами мало это замечая (ибо так мало резок, так мало заметен бывает всякий процесс нового образования), при переселении народов-совершенно подобном тому, которое породило нынешний европейский, или романо-германский, культурно-исторический тип. Причины этого переселения народов совершенно однородны с теми, которые произвели так называемое Великое переселение: в обоих случаях тот же недостаток средств к существованию на местах родины переселенцев. Объем нового переселения нисколько не меньше, если даже не больше происходившего в первые века христианской эры. Сотни тысяч, а иногда и до полумиллиона народа переселяется ежегодно через океан. Результаты переселения одни и те же: смешение народов, приходящих на новую почву не в государственной, туго поддающейся слиянию форме, а в виде более свободных, так сказать, разжиженных этнографических элементов. Весьма было бы странно, если бы это смешение голландцев, англичан, немцев, кельтов, французов, испанцев и даже славян (чехов), при совершенно особых физических и нравственных условиях страны, не произвело бы новой или новых народностей, – как некогда смешение разных германских, галльских, романских и отчасти славянских и арабских элементов произвело новые народности: английскую, немецкую, французскую, итальянскую, испанскую. Эти элементы, в различной пропорции смешения занявшие западные части Римской империи и Германии, не были уже в то время совершенно дикими и потому должны были иметь какое-либо общественное или даже государственное устройство, тем более что находились под влиянием культурного элемента римского. Поселившись на новой почве, они не представляли уже племени без всякой политической связи, каковы, например, американские дикари; но политическая связь их не могла быть государством, основанным на народном национальном характере, ибо такового еще не выработалось. Старый римский, галльский, бретонский мир был разрушен, новый (преимущественно, хотя и не исключительно германский) не успел еще с ним слиться в новое или в новые целые. Поэтому первые государства, последовавшие за падением Римской империи, имели, так сказать, временной, провизуарныйi характер, дабы под кровом их могли выработаться новые народности. Государства Лангобардское, Остготское, Вестготское, Свевское, Бургундское, Франкское (времен Меровингов) не выражали собою определенных народностей. Общегерманский элемент до того даже в них преобладал, что они могли еще составить одно целое под скипетром Карла Великого, и истинным моментом рождения новых народностей: французской, итальянской и специально немецкой по справедливости считается Вердюнский договор, заключенный около 400 лет после занятия варварами своих новых местожительств. Такой же временной, провизуарный характер носят на себе и Соединенные Штаты. Государственный характер их развился очень сильно (как доказывает энергия, выказанная ими в недавней междоусобной борьбе), но особого народного еще не выразилось, или он выразился еще очень слабо. Я этим вовсе не хочу утверждать, чтобы Соединенным Штатам непременно угрожала гибель и что на их месте должны возникнуть новые государства, основанные каждое на самобытной народности. Нет основания проводить аналогию так далеко, да и сама аналогия этого не требует. Если развалины империи готов вошли в состав нескольких государств, то зато монархия франков, в тесном смысле этого слова, продолжает существовать от времен Хлодовикаii или Меровея до наших времен. Продолжает же она существовать потому, что под кровом старой, ненациональной еще франкской монархии развилась особая французская национальность. Я хочу выразить только ту мысль, что теперешние Штаты составляют форму провизуарную, под кровом которой должны образоваться одна или несколько национальностей, и, смотря поэтому, будет одно или несколько государств.
Если существеннейшая цель государства есть охрана народности, то очевидно, что сила и крепость этой народной брони должна сообразоваться с силою опасностей, против которых ей приходилось и приходится еще бороться. Поэтому государство должно принять форму одного централизованного политического целого там, где опасность эта велика; но может принять форму более или менее слабо соединенных федеративною связью отдельных частей, где опасность мала.
Национальность не составляет, однако, понятия столь резкого, чтобы все, не принадлежащее к ней, было ей совершенно чуждо в одинаковой мере. Такого резкого отграничения не представляет даже индивидуальность личная. Та и другая имеют с другими национальностями или индивидуальностями более или менее тесную родственную связь, которая может быть столь тесна, что свобода и честь этих сродных существ столь же близко до них касаются, как и их собственные, и совершенно между собою неразделимы. Такие группы образуют семейства лиц и народов; и народы, если имеют такие семейства, не могут оставаться в совершенной между собою отдельности. Как, однако же, ни тесна эта связь, она не может совершенно стереть границ ни народной, ни индивидуальной личности. Поэтому хотя бы народы были и очень близки между собою, но, если они сознают себя особыми политическими целыми, они в одно государство безнасильственно сложиться не могут; но для взаимной защиты, для возвеличения каждой отдельной народности и для укрепления их естественной связи должны составлять федерацию, которая в свою очередь (смотря по величине опасностей, среди которых предназначено ей жить и действовать) может представлять связь различной силы и крепости: может принять форму союзного государства, союза государств или просто политической системы. Первая будет иметь место, когда вся политическая деятельность союза сосредоточена в руках одной власти, а членам союза предоставлена самая обширная административная автономия. Вторая – когда, при политической самостоятельности частей, они связаны неразрывным договором общего внешнего действия, как оборонительного, так и наступательного. Третья когда эта общность действия обусловлена лишь одним нравственным сознанием, без всякого определенного положительного обязательства. В первых двух случаях связь обеспечена не только общею законодательною властью, объемлющею более или менее обширную сферу деятельности членов союза, но и властью судебною, разрешающею вопросы, которые возникают от приложения этих законов к частным случаям, и властью исполнительною, имеющею приводить в исполнение судебные решения. Напротив того, в случае политической системы – ни судебной, ни исполнительной союзной власти не существует; само же союзное законодательство, выражающееся в международных договорах, относится лишь к частным случаям, имеет силу именно только относительно этих случаев, во всей их частности – без всякой обязательности (даже нравственной) подчиняться проистекающим из них выводам, хотя бы и самым естественным, логически необходимым. Можно, конечно, сказать, что и в союзе государств фактически может не существовать принудительной власти, как мы недавно видели на примере Пруссии, не подчинившейся союзному решению. Но такой случай возможен и в государстве, если только ослушник имеет достаточно силы, дабы противиться государственному закону. Напротив того, в системе государств по самой сущности ее не существует имеющей обязательную силу судебной и исполнительной власти, что, в сущности, равнозначительно совершенному отсутствию таковых, почему и всякое нарушение интересов одного или нескольких членов системы другими может быть не иначе восстановлено как насилием, т. е. войною, или добровольным примирением.
Итак, формы политически централизованного государства, союзного государства, союза государств и политической системы обусловливаются, с одной стороны, отдельностью народных личностей, служащих их основанием, и степенью их сродства между собою, с другой стороны – степенью опасности, угрожающей национальной чести и свободе, которым государства должны служить защитою и обороною. Неверное понимание этих отношений никогда не остается безнаказанным и ведет к самым пагубным последствиям. Так, например, по степени национального сродства все греческие племена могли бы составлять одно государство, ибо имели один язык, одну религию, одни предания и т. д. Но развиваясь в стране, весьма хорошо защищенной природою – морем и горами, удаленной от враждебных народностей, еще даже не образовавшихся, – они долгое время находились вне всякой внешней опасности; поэтому без неудобства могли бы образовать из себя союзное государство или даже союз государств, чему и было положено начало в некоторых общих учреждениях: в амфиктионовом суде, в общем Дельфийском казнохранилище, в общих играх и т. п. Но греческие государства тяготились всякою связью и составили из себя только политическую систему. Внешние опасности наступили, но и они не могли заставить их теснее соединиться между собою; и, когда рознь их зашла уже очень далеко, они отвергли якорь спасения, брошенный им великим македонским государем Филиппом. Только силою подчинялись они спасительному единству и сохраняли его, только пока эта сила действовала. Поэтому греки погибли как нация гораздо ранее, чем живые народные эллинские силы совершенно иссякли. Греческая культура должна была доживать свой век, слоняясь по чужим углам: в Египте, в Пергаме, и наконец везде она должна была подчиниться совершенно уже чуждому ей Риму.
Ежели национальность составляет истинную основу государства, саму причину и главную цель его бытия, то, конечно, и происхождение государства обусловливается сознанием этой национальности как чего-то особого и самобытного, требующего соединения всех личных сил для своего утверждения и обезопасения; и поводом к образованию государства будет служить всякое событие, которое возбуждает это сознание, – всякое противоположение других национальностей, точно так как ощущение противоположности внешнего мира с внутренним приводит к сознанию индивидуальной личности. Никто теперь не думает, чтобы какое-либо условие, договор, контракт служили основанием государства; так же как никто не думает, чтобы подобное условие создало язык. Но таким основанием не может даже считаться прирожденный человеку инстинкт общественности, ведущий только к сожительству в обществе (родом, племенем, общиною), а не к государству. Для сего последнего нужно нечто большее, необходим внешний толчок, приводящий племена к ясному сознанию их народной личности, а следовательно – и к необходимости ее защиты и охранения. По крайней мере, мы не знаем примера, чтобы какое-либо государство образовалось без такого внешнего толчка – одного или нескольких, одновременно или последовательно возбудивших в племени народное сознание. Могло ли бы без него развиться государство – сказать трудно. Во всяком случае, для такого образования государства (из одних внутренних побуждений) было бы потребно неосуществимое на практике стечение обстоятельств. Именно, необходимо бы было отсутствие всяких внешних и внутренних возмущающих влияний в течение чрезвычайно долгого времени, чтобы присущая человеку усовершаемость, приводящая к усложнению его отношений к природе и к себе подобным, могла выказать, будучи совершенно предоставлена самой себе, всю заключающуюся в ней внутреннюю силу под влиянием одних природою противопоставляемых препятствий.
По всем вероятиям, государство, образующееся в таких идеальных условиях, приняло бы форму федерации, но федерации совершенно иного характера, нежели все те, которые мы знаем. Именно государственное верховенство Должно бы в ней заключаться не в целом, а в самом элементарном общественном союзе – в деревенской или в волостной общине, и взаимная связь и зависимость должна бы быть тем слабее, чем выше порядок группы, этими общинами составляемой, т. е. связь окружная была бы сильнее и теснее уездной, уездная – областной, областная – краевой, краевая – государственной.
Это разделение на общины должно непременно предшествовать всякому дальнейшему развитию, потому что она требуется оседлою жизнью; оседлая же жизнь возможна лишь в стране, представляющей физические препятствия к кочеванию большими массами. Номады к усовершенствованию неспособны, и хотя пастушеская жизнь составляет очевидный прогресс сравнительно с звероловною, однако же прогресс этот обманчивый, потому что из него нет дальнейшего исхода. Кочевничество представляет слишком много удобств, слишком большое обеспечение существованию посредством многочисленных стад, слишком большое потворство лени. Но физическими препятствиями к кочевой жизни могут служить только леса или периодические речные разливы, как, например, в Египте. Эти последние, однако же, составляют слишком сильное препятствие, требуют слишком большой наблюдательности от дикого племени, чтобы оно могло извлечь из них для себя пользу. Горы совершенно разъединяют людей, запирают их в долины и котловины и, будучи весьма удобными для сохранения этнографических отличий, совершенно неспособны служить почвою для развития первоначальной самобытной цивилизации. Остаются, следовательно, одни леса, которые, представляя достаточное препятствие для развития кочевой жизни, не составляют, однако, непреодолимой преграды к основанию оседлой жизни, а следовательно – и к развитию первоначальной культуры слабыми средствами племени, выходящего под давлением нужды из состояния первобытной дикости. Лес имеет поэтому огромную культурородную силу. Он имеет и другое влияние: своею таинственною гущей и полумраком он навевает поэтическое настроение духа на живущий в нем народ. Я не думаю, чтобы самобытная культура, вне всякого постороннего влияния, могла возникнуть иначе как в лесной стране. Но каким образом происходит рассеяние в лесу? Не иначе как отдельными островами. Стоит только проехать со вниманием по обширной лесной стране (какова, например, Северная Россия), чтобы проследить, как это делается. Сначала отдельные поселения рассеяны редкими островками в лесном море. Отселки, хутора, починки занимают новые места неподалеку от своей метрополии; разделяющие их небольшие лесные преграды вырубаются, и образуется волость, состоящая из нескольких деревень, между которыми нет разделяющего лесного пространства. Около этого большого острова оседлости сгруппированы мелкие островки. Сами волости отделены между собою значительными лесными пространствами. Число волостей увеличивается, и лес, в котором были сначала вкраплены редкие поселки, из лесного океана принимает форму сети, все нити которой между собою соединены. Но другие препятствия – обширные болота препятствуют тому, чтобы эта лесная сеть была равномерно прорешетена поселками. Остаются обширные лесные пространства – волоки, как их называют у нас на севере, которые разделяют одну группу поселков (волостей, общин) от другой. С увеличением населения сеть во многих местах прорывается, волости соединяются между собою, сливаются и наконец сами образуют уже сплошную сеть, в которой отдельными группами разбросаны куски леса, как прежде были разбросаны поселки в лесной сети. Эти куски леса все уменьшаются, и является сплошное море или, лучше сказать, озеро поселков, в котором разбросаны лесные острова. Эти озера не сливаются, однако, в одно обширное море, оставаясь долго еще разделенными обширными волоками. Этому ходу расселения в лесной стране должен следовать и ход развития общественности. Долго обособленные от своих соседей, волости образуют самобытные верховные общественные единицы. Они должны составить маленькие независимые политические центры. Когда они вступают в связь с другими волостями, эта самобытность уже утвердилась у них временем. Конечно, от увеличения числа людей, вступивших в непосредственную связь, усложняются между ними отношения, являются такие нужды, которым волость удовлетворить уже не может, – и она бывает поэтому принуждена отделить часть своей власти всей той группе волостей, которые вошли в близкие непосредственные сношения и т. д., от более тесной к более обширной группе. Но каждая группа отделит в пользу высшей, в состав которой она войдет, конечно, только возможно меньшую долю власти над собою, касающуюся только тех предметов и интересов, которые не могут входить в круг деятельности группы более тесной. Из этого должна естественно проистечь федеративная связь – но такая, в которой власть разливалась бы не сверху вниз, а восходила бы снизу вверх. Этим, кажется мне, объясняется федеративное устройство всех народов, живших в лесной стране, которых история застала еще во время этнографического периода их жизни (как, например, у германцев и у славян). Этим объясняется федеративное устройство Соединенных Штатов, где внешние возмущающие влияния, по местным особенностям, должны были иметь – и до самого новейшего времени имели сравнительно весьма слабое влияние. Но достигло ли бы этим путем племя, предоставленное одному лишь воздействию на него местных влияний страны (обусловливающих ход его расселения), до сознания своей народности, как бы ни был длинен период, в течение которого это воздействие продолжалось, – а следовательно, возникла ли бы из этого действительно государственная связь, в которой, собственно, не ощущалось бы никакой нужды, – это весьма сомнительно. Еще сомнительнее возможность достаточно продолжительного отсутствия всякого возмущающего влияния как со стороны чуждых племен, так и со стороны внутри племени возникающих страстей, а главное, сильных личностей, возвышающихся над уровнем общих народных понятий и стремящихся подчинить соплеменников своему влиянию. Я хотел только показать, что племя, предоставленное собственному своему развитию и устраненное от всяких возмущающих влияний, но находящееся в условиях, побуждающих его принять оседлую жизнь, вероятно, приняло бы федеративное устройство.
На деле это, конечно, происходит не так. Различные племена между собою сталкиваются, и это столкновение ведет к уяснению их народного сознания и возбуждает чувство необходимости оградить свободу и честь своей народности, восстановить их, если они были нарушены, или сохранить преобладание, раз приобретенное над другими народностями. Если бы под влиянием ничем не возмущаемых воздействий природы и успела образоваться слабая федеративная связь, она должна бы уступить более крепкой связи для успешности борьбы. – Но и необходимость охранения народности, проистекающая из племенной борьбы, бывает недостаточна для того, чтобы племя наложило на себя государственное бремя. Борьба бывает кратковременна; для ее целей достаточно временного усилия и временной централизации власти, как, например, в казацких общинах, признававших власть атаманскую только в военное время, или в еврейских коленах, признававших диктаторскую власть судей только в эпохи величайших опасностей. Уроки прошедшего скоро забываются вообще, а еще скорее – в первобытное время народной или еще только племенной жизни. Племенная необузданная воля имеет столько прелести для первобытного человека, что он расстается с нею только под давлением постоянно действующей причины. Борьба для этого недостаточна – необходима зависимость.
Но всего очевиднее выразилась особенность русского народного характера, о которой теперь идет речь, в том событии, которому все мы были очевидцами. И в освобождении крестьян, как в призвании варягов, введении христианства, освобождении от поляков, выразились в лице одного человека, в лице императора Александра, мысли и чувства всего русского народа. Все мы очень хорошо знаем, что освобождению крестьян не предшествовало никакой агитации, никакой, ни изустной, ни печатной, пропаганды; все, казалось, были одинаково к нему не подготовлены, интересы единственного образованного сословия в государстве ему противоположны и по самой сущности дела враждебны. Однако все совершилось быстро, с невероятным успехом. Крестьяне не просто освобождаются на европейский лад, а наделяются землею, и все это без всякой борьбы, без всякого сопротивления с какой бы то ни было стороны и без каких-либо партий, кроме разве некоторых уродливых и ничтожных претензий на партию, представляемых газетою "Весть". Что все обойдется благополучно со стороны народа, в этом были уверены все, сколько-нибудь знавшие Россию. Но уверенность в едином спасительном исходе дела, я думаю, поколебалась у многих, когда сделалось известным, что введение реформы поручается лицам от дворянства, предлагаемым предводителями и утверждаемым губернаторами, без участия депутатов со стороны крестьян, без всякого влияния их на выбор посредников. По всем европейским понятиям, от которых всем нам так трудно вполне отрешиться, должно было полагать, что интерес крестьян, преданный в руки противоположного ему интереса дворян, будет нарушен, насколько это только возможно без нарушения буквы закона; а мы знаем, как широка эта возможность. Казалось, что исполнение, применение лишат закон его существеннейшего значения. И такое опасение оказалось совершенно основательным там, где исполнителями, посредниками явилось не русское дворянство, а польское шляхетство. В России реформа совершилась так, как не только Европа, но и большинство из нас самих не могли себе представить. Русский народ – как крестьянство, так и дворянство – выказал себя в таком свете, что, дабы достойным образом обозначить характер их деятельности в это время, должно обратиться к языку народа, у которого все нравственно высокое, все добродетельное имело характер гражданский. То была virtus в полном значении этого слова. Перенесемся мысленно на несколько столетий в будущее и представим себе, что о пережитом нами времени остались лишь такие же скудные следы, как те, которые мы имеем об основании Русского государства или о введении христианства в Россию; представим себе также, что в течение этих столетий не утратилась привычка судить о явлениях русской жизни с европейской точки зрения, и пусть были бы тогда открыты в пыли архивов история о происхождении в селе Бездне Казанской губернии и немногие ей подобные. Как бы возликовали тогдашние европействующие историки! Фактические следы борьбы интересов и сословий найдены, отдельные примеры ничтожных исключений, даже не исключений, а жалких недоразумений, были бы раздуты в целую систему, по которой своеобразные события русской жизни благополучно подводятся под общий нормальный, единственно возможный характер – общеевропейского хода исторического развития. Теперь, конечно, к такому толкованию прибегнуть невозможно. Надо объяснить дело давлением власти, отсутствием энергии в защите своих интересов, влиянием бюрократического элемента и т. д. Конечно, правительственная власть в России имеет большую силу материальную и еще большую нравственную, но мы очень хорошо знаем, что в этом деле ей вовсе не приходилось себя обнаруживать. Мы знаем также, что, дабы сделать все усилия ее бесплодными, не было бы надобности ни в каком деятельном сопротивлении, что для этого было бы вполне достаточно сопротивления пассивного, недобросовестного отношения к делу. Шляхетство западных губерний показало пример, как это делается, и если бы не счастливая случайность открытого восстания – крестьянская реформа в западных губерниях не только не принесла бы ожидаемых от нее плодов, но принесла бы последствия самые вредные. Ежели бы и русское дворянство было одержимо тем же узким эгоистическим направлением, если бы главною побудительною причиною его действий был бы интерес, то, несмотря ни на какие усилия власти (органы которой ведь также все должны бы были разделять те же узкие сословные воззрения), дело не пошло бы лучше, чем в западных губерниях при польских мировых посредниках.
Так же точно несправедливо бы было заключить из общего характера, которым отличались все главные перевороты в жизни русского народа, об отсутствии в нем всякой энергии и самодеятельности, о его воскоподобной мягкости, по которой из него можно лепить что угодно. Мы видим другие примеры, что величайшие усилия правительства не приводили ровно ни к чему там, где цели его были противны народному убеждению или даже где народ относился к его целям совершенно равнодушно. Пример старообрядства доказывает первое, пример же множества учреждений, реформ, нововведений, оставшихся мертвою буквою, пустою формою без содержания, хотя против них не только не было активного, но даже и пассивного сопротивления, а было только совершенно равнодушное, безучастное к ним отношение, достаточно доказывает второе.
Из выставленной здесь черты русского народного характера, проявлявшейся при самых важных торжественных мгновениях его жизни, выводится то заключение, что вообще не интерес составляет главную пружину, главную двигательную силу русского народа, а внутреннее нравственное сознание, медленно подготовляющееся в его духовном организме, но всецело обхватывающее его, когда настает время для его внешнего практического обнаружения и осуществления. А так как интерес составляет настоящую основу того, что мы называем партиями, то во всей исторической жизни России нет ничего, что бы соответствовало этому, по преимуществу западноевропейскому, или романо-германскому, явлению. Все, что можно назвать у нас партиями, зависит от вторжения в русскую жизнь иностранных и инородческих влияний; поэтому, когда говорят у нас об аристократической или демократической партии, об консервативной или прогрессивной, все очень хорошо знают, что это одни пустые слова, за которыми не скрывается никакого содержания. Напротив того, для всех ясен смысл партии немецкой, партии польской, в противоположность партии русской, которая не есть и не может быть партией уже по самому названию, которое ей дают. Что за названиями этих партий скрывается действительная, более или менее могущественная сила, это также мы знаем. Конечно, и у нас есть различные мнения относительно того или другого явления общественной жизни, но потому именно они и суть только мнения, что не представляют собою никакого интереса. Это выказалось бы до очевидности ясно, если бы мы имели статистически обработанные данные о кругах подписчиков на все наши политические журналы; тогда ясно бы оказалось, что все различия в цветах и мнениях журналов не соответствуют никакому сословному или иному какому интересу в кругу их подписчиков. Один только журнал, без сомнения, представил бы исключение – это пресловутая "Весть", которую одну только и можно назвать органом партии, но и эта партия выросла так же точно не на русской почве, как и партия польская и немецкая, которым газета эта так сочувствует. Партия эта называлась некогда боярскою, а ныне может быть названа псевдоаристократическою. Начало ее одушевляющее, в более здоровой и народной форме, конечно, применяясь к жизни народов, в которой имело корни, доставило могущество и благоденствие Англии, сохранило и укрепило маленький мадьярский народ, подчинив ему весьма обширное для его сил королевство Венгерское, доставляло в течение целого ряда веков если не свободу и благоденствие, то силу и величие республике Венецианской. Оно же, будучи менее соответственным с характером французской нации, принесло ей много бедствий и довело до страшной катастрофы, но, по крайней мере, сообщило много блеску длинному периоду ее истории. Но на совершенно несвойственной ему почве славянства это начало не могло не принять самой ложной формы и не иметь самых гибельных последствий. Высшие сословия Польши, всосав его вместе с католицизмом и разными немецкими порядками, внесли отраву во всю жизнь Польши, и оно не только наконец погубило ее, но всю историю ее обратило в притчу во языцех. В Сербии склонило оно голову под иго мусульманства, в Чехии подало руку онемечению, а в Западной России к ополячению народа. В России, где, благодаря Бога, никогда не имело оно ни большой силы, ни большого значения, оно крамольничало во время детства и юношества Иоанна, целовало крест королевичу Владиславу, и будучи побеждено мещанином Мининым и князем Пожарским, задавленное мощью Петра, при последнем уже издыхании навело на Россию десятилетнюю казнь бироновщины, и имело бы гораздо худшие последствия, если бы не было подсечено под самый корень русским дворянством. Не мудрено, что такое антирусское, антиславянское начало принимает несвойственные русской жизни аллюры партии, образцы и идеалы которой, быв прежде польско-шляхетскими, стали теперь немецко-баронскими, сохранив, однако же, горячие симпатии и к своему древнему первообразу.
Другой вывод из выше изложенной исторической особенности важнейших моментов развития русского народа состоит в огромном перевесе, который принадлежит в русском человеке общенародному русскому элементу над элементом личным, индивидуальным. Поэтому-то между тем как англичанин, немец, француз, перестав быть англичанином, немцем или французом, сохраняет довольно нравственных начал, чтобы оставаться еще замечательною личностью в том или другом отношении, русский, перестав быть русским, обращается в ничто – в негодную тряпку, чему каждый, без сомнения, видел столько примеров, что не нуждается ни в каких особых указаниях.
Особенности в психическом строе народа, кроме подмеченных некоторых черт, проявляющихся в особенном характере его истории, могли бы еще быть определены, при посредстве естественной классификации нравственных качеств, по видам, родам, семействам, классам, так чтобы качества эти и в системе были бы расположены в группы, все более и более удаленные друг от друга, по мере их внутренней несовместности между собою. Очевидно, что при таком расположении чем выше группа качеств (в систематическом порядке), которыми можно характеризовать народы (отвлекаясь, конечно, от частных исключений, которые не могут не представляться), тем глубже должно быть существующее между ними различие, тем менее общего будет в направлении всей их деятельности.
Нравственные качества (я не говорю добродетели, потому что не только недостаток, но и самый их излишек может составить порок), кажется мне, весьма естественно разделяются на три группы: на качества благости, справедливости и чистоты. Эти последние, состоящие в противу действии разного рода материальным соблазнам и принадлежащие к области обязанностей человека к самому себе, не могут доставить какой-либо народной характеристики. Они суть, так сказать, венец личных человеческих добродетелей. Оба остальные разряда составляют качества общественные, так как они обусловливают собою характер взаимных отношений людей между собою. Не нужно большой наблюдательности, чтобы признать в первых по преимуществу свойства славянского, а во вторых свойства германского народного характера. Конечно, весьма хорошо усвоивать себе и те добрые качества, которые менее нам сродны, в той мере, в которой они не поставляют препятствия развитию наших личных или народных добродетелей, и в известной мере это, конечно, возможно; но тем не менее возможность с верностью характеризовать два народные характера не частными какими-либо чертами, но целыми высшего разряда группами нравственных качеств, соответствующими их основному делению, должна указывать на весьма существенные различия во всем психическом строе народов славянских и народов германских.
Характеристические особенности в умственных свойствах славянского племени если не труднее подметить, чем в области нравственном, то, однако же, труднее изложить с некоторою доказательностью. По недавности и малому еще развитию у славянских народов науки, в которой эти особенности умственного склада всего яснее отражаются, как тому были представлены примеры в шестой главе, недостает нужных для сравнения материалов.
Это было бы легче сделать относительно эстетических свойств славянского духа, ибо для такого изучения есть уже гораздо более материала. Но для углубления в эту область потребовалось бы сравнительное изучение славянских литератур с литературами других народов. Я не имею ни достаточных познаний, ни нужных для этого способностей, и поэтому все, что мог бы в этом отношении сказать, оказалось бы недостаточно подтвержденным фактами, а, с другой стороны, заставило бы слишком далеко удалиться от истинной цели этой статьи, цели, которая имеет весьма мало общего с эстетикою.
Глава IX. Различие вероисповедное
Откровение. – Четыре понятия о церкви. – Понятие протестантское. Мистическое воззрение на церковь. – Католическое понятие. – Неосновательность папских притязаний. – Непоследовательность католиков. – "Свободная церковь в свободном государстве". – Отношение церкви и государства; брак. – Православное понятие о церкви. – Рационализм Европы
Le romanisme, en remplacant l'unite de la foi universelle, par l'independance de l'opinion individuelle ou diocesaine a ete la premiere heresie contre le dogme de la nature de l'Eglise ou de sa foi en elle meme. La Reforme n'a ete qu'une continuation de cette meme heresie sous une apparence differente.
Quelques mots par un chretien orthodoxe sur les communions occidentalesi.
Различие в просветительных началах русского и большинства других славянских народов от народов германо-романских состоит в том, что первые исповедуют православие, а вторые – римский католицизм или протестантство. Достаточно ли велико различие между этими исповеданиями, чтобы основывать, между прочим, и на нем культурно-историческое различие славянского от германо-романского типа? Не составляет ли оно малосущественную особенность, так сказать, исчезающую в общем понятии христианской цивилизации? И, с другой стороны, не существеннее ли даже различие между католичеством и протестантством, чем между первым и православием, догматическая разность между которыми для многих представляется не очень большой, так как они оба основываются на авторитете, в противоположность протестантству, основывающемуся на свободном исследовании? На это можно бы ответить очень коротко, именно: что отличие истины от лжи бесконечно и что две лжи всегда менее между собою отличаются, чем каждая из них от истины; но такой ответ был бы удовлетворителен только для тех, которые и в нем далее не нуждаются; для тех же, которые в трех названных формах христианства видят не более как формальное различие, соответствующее различным ступеням развития религиозного сознания, такой ответ не сказал бы ровно ничего, и посему-то я позволю себе несколько остановиться на этом существенно важном предмете.
Сущность христианской догматики излагается в символе веры, и действительно все мы: православные, католики, протестанты читаем этот символ почти одинаково, соединяя, однако же, совершенно различный смысл со словами: "верую во единую, святую, соборную и апостольскую церковь", – смысл столь различный, что Хомяков в известных своих брошюрах мог сказать, что все западные христианские общества суть ереси против церкви, в противоположность неправославным обществам восточным, которые, неправильно толкуя и понимая разные другие догматы, выраженные в символе, и тем, конечно, удаляясь от истинной церкви, о сущности самой церкви сохраняют, однако же, понятие правильное. Но важность правильного понятия о церкви такова, что между тем как ложный догмат, касающийся даже самых основных влияний истин христианства, может ограничивать свое вредоносное влияние одним кругом понятий, к нему относящихся, оставляя все прочее неповрежденно-истинным, – ложное понятие о церкви неминуемо ведет хотя иногда и медленным, но неизбежным логическим процессом к ниспровержению всего христианского учения, лишая его всякого основания и всякой опоры.
Как христианская церковь, так и все называющие себя церквами христианские общества одинаково признают своим основанием Божественное Откровение и всякое учение, отвергающее Откровение, не признают уже христианским. Следовательно, необходимость Откровения может служить точкою исхода для обсуждения разных проявлений христианства; далее заходить незачем. Необходимость же Откровения признается потому, что только оно одно может дать вполне достоверное, незыблемое основание для веры и для нравственности… Отношение церкви к Откровению совершенно то же, как отношение суда к гражданскому закону, с тою, конечно, разницею, что внутренняя достоверность заменяется в последнем случае внешнею обязательностью. Представим себе идеально совершенный гражданский кодекс. Без судебной власти для его истолкования и применения, при всем своем совершенстве, он был бы бесполезнейшею из книг. Двое тяжущихся, конечно, никогда не решили бы своей тяжбы, если б им обоим было предоставлено справляться в законе о том, кто из них прав. А если бы все тяжущиеся были достаточно проницательны, достаточно свободны от личного эгоистического взгляда, заволакивающего для них правое, чтобы решать таким образом свои тяжбы, то опять-таки закон был бы для них совершенно излишним; ибо это значило бы, что они носят его в своем уме и сердце во всей полноте и совершенстве. Итак, в конце концов, самое значение Откровения будет зависеть от того, какое значение придается понятию о церкви и нераздельному с нею понятию о ее непогрешимости.
Таких понятий существует, как известно, в христианском мире четыре. Понятие православное, утверждающее, что церковь есть собрание всех верующих всех времен и всех народов под главенством Иисуса Христа и под водительством Святого Духа, и приписывающее церкви, таким образом понимаемой, непогрешимость. Понятие католическое, сосредоточивающее понятие о церкви в лице папы и потому приписывающее ему непогрешимость. Понятие протестантское, переносящее право толкования Откровения на каждого члена церкви и потому переносящее на каждого эту непогрешимость, конечно, только относительно его же самого, или, что то же самое, совершенно отрицающее непогрешимость где бы то ни было. Наконец, понятие некоторых сект, как, например, квакеров, методистов и так далее, которое можно назвать мистическим, так как оно поставляет непогрешимость в зависимость от непосредственного просветления каждого Духом Святым, и признаком такого просветления выставляет собственное сознание каждого, считающего себя вдохновенным или просветленным. Из этих четырех понятий все, кроме третьего – протестантского, представляются теоретически возможными, не представляют внутреннего противоречия, если только могут доказать справедливость своего воззрения. Напротив того, понятие протестантское, отвергая всякую непогрешимость и представляя все произволу личного толкования, тем самым отнимает всякое определенное значение у самого Откровения, ставит его в одну категорию со всяким философским учением, с тою, однако же, невыгодою для Откровения, что так как это последнее выставляет свои истины как определенные положения, которых вовсе не доказывает, а не как выводы из общего начала, добытого посредством логического построения, то лишается и той доказательной силы, которая свойственна систематизированной науке. Поэтому вся сущность религии, по протестантскому воззрению, необходимо сводится на одно лишь личное субъективное чувство. Но субъективная религия, то есть верование тому, чему хочется, или, пожалуй, чему верится, есть отрицание всякого положительного Откровения или отнятие у него не только всякой внешней, но и всякой внутренней обязательности, то есть всякой достоверности, а следовательно, отрицание религии вообще, которая не мыслима без полной достоверности, подчиняющей себе весь дух человека, подобно тому как достоверность логическая подчиняет себе один его ум. Очень верною эмблемою, или символом, протестантского взгляда может, кажется мне, служить следующая черта из жизни президента Соединенных Штатов Джеферсонаii. Джеферсон был, что называется, вольнодумцем или esprit fortiii и, следовательно, не признавал божественности христианства, но, однако же, уважал многие из его истин. Желая отделить справедливое от того, что, по его мнению, ложно, он взял два экземпляра Евангелия и вырезывал из них, что казалось ему сообразным с здравым понятием о нравственности, или, проще сказать, то, что ему нравилось. Свои вырезки наклеивал он в особую тетрадку и таким образом составил себе свод нравственных учений, или, ежели угодно, систему религии для своего обихода. Каждый приверженец протестантского учения поступает, в сущности, совершенно таким же образом, или даже, собственно говоря, иначе и поступать не может. При этом, конечно, у каждого соберется тетрадка с особым содержанием, и мудрено себе представить, чтобы оно не носило на себе печати своего хозяина. Мистик не удостоит вырезки всего, что покажется ему слишком простым или естественным, рационалист того, что покажется слишком таинственным и сверхъестественным. Мудрено, чтобы ножницы не получили иного направления у склонного к мстительности, к честолюбию, к тщеславию, к корыстолюбию, к сладострастию и т. д.
Неизбежные последствия такого взгляда устраняются, насколько возможно, протестантами установлением условных, произвольных, искусственных ортодоксий, которые и известны под именем вероисповеданий англиканского, лютеранского, реформатского, пресвитерианского и т. д., которые, очевидно, никакого авторитета у своих мыслящих последователей иметь не могут, потому что ни за Генрихом VIII, ни за Лютером, ни за Кальвином, ни за Цвинглием не признают они никакого вдохновенного авторитета, а так же точно и за своими церковными собраниями, как, например, за Аугсбургским не признают значения соборного. Все эти ортодоксии суть, следовательно, только различные системы вырезок. Отвергнув церковное предание, Лютер с тем вместе вырезал и текст апостола Павла, в котором повелевается держаться преданий; отвергнув некоторые таинства – вырезал и тексты, которыми апостол Иаков установляет елеосвящение или которыми апостол Павел утверждает, что брак есть великая тайна, и т. д. Кальвин пошел дальше в своих вырезках, вырезав, например, из Ев. Иоанна всю беседу Иисуса Христа с учениками о значении причащения. Переходя от вырезки к вырезке, мне кажется, трудно усмотреть границу между этими вырезками, устанавливающими произвольные ортодоксии, и вырезками Ренана, который счел нужным вырезать все, что имеет сколько-нибудь характер сверхъестественного, и даже само воскресение. На какой же ступени этой лестницы остановиться, на каком основании останавливаться и есть ли даже какая-нибудь возможность остановиться, пока не спустишься до самого низу, откуда уже больше спускаться некуда?
Мистическое воззрение на церковь квакеров, методистов и других сектантов может быть оставлено в стороне" так как учения этих сект не могут считаться просветительным началом народов Европы, будучи лишь незначительным исключением среди господствующих между ними религиозных воззрений.
Про католическое понятие о церкви нельзя сказать, чтобы оно заключало в себе какое-либо внутреннее противоречие, как протестантское. Оно мыслимо, если бы возможно было его доказать. Но в том-то и дело, что доказать можно только его невозможность. Для этого не нужно углубляться в факты церковной истории, тем более что этот способ доказательства вполне убедителен только для того, кто сам до него доискался по источникам. Для прочих же, которые должны принимать слова исследователей на веру, трудно, при господствующем разноречии исследователей, принадлежащих к разным учениям, с совершенным беспристрастием принять ту или другую сторону. Но этого вовсе и не нужно. Невозможность непогрешимости и главенства пап, кажется, очень легко может быть доказана из небольшого числа самых известных фактов и оснований, признаваемых самими католиками. Но защитники католицизма, будучи весьма часто сознательно недобросовестны, похожи на скользких ужей, выскользающих из рук, когда думаешь их схватить. Поэтому у них о каждом из их отличительных догматов есть по нескольку мнений, которые вынимаются из их полемического арсенала, смотря по удобствам. Так и о главенстве и непогрешимости пап и об отношении их власти к власти вселенских соборов встречаются разные мнения у самих католиков. Одни считают пап выше всякого собора, другие же подчиняют пап соборам. Очевидно, что только ультрамонтанское воззрение, считающее авторитет папский выше соборного или, по крайней мере, равным ему, может быть защищаемо с католической точки зрения, признающей в папе наместника Иисуса Христа. Если папа не заключает в себе всей полноты церковного авторитета, то, спрашивается, каким же образом может он устанавливать новые догматы без созвания Вселенского собора? Если не признавать всей полноты этого авторитета, то на чем основывается все католическое учение? Кто установил все разности, замечаемые между нынешним католичеством и прежним вселенским православием? Вселенского собора для этого никогда не собиралось. Кто добавил вселенский символ веры? Ведь сделать это мог лишь равный собору авторитет. Но Вселенского собора по этому поводу не было; даже один собор, и в числе его членов послы Иоанна осудили это нововведение, – осуждение, которого папа впоследствии только не ратификовал, так как надежды, с которыми он делал все эти уступки, не исполнились. Следовательно, это изменение символа может лишь в том случае иметь значение, с самой точки зрения католиков, если они признают за папою авторитет, по крайней мере, равный авторитету Вселенского собора. Но ежели папы имеют такой авторитет и соединенную с ним непогрешимость, то этот авторитет, эта высшая степень церковной благодати должна кем-нибудь им быть передаваема. Католики утверждают, что она передана им апостолом Петром. Принимая значение верховенства апостола Петра над прочими апостолами именно в этом католическом его смысле, соглашаясь и с тем, что Петр был римским епископом, оставляя без внимания, что первые два римские епископа, Лин и Анаклет, были рукоположены Павлом, а не Петром, все-таки остается еще узнать, когда и посредством какого акта передал апостол Петр свое верховенство над церковью своему якобы преемнику? Сколько известно, апостол Петр никого после себя папою не назначал. Он поставил нескольких лиц епископами, но ни одному епископу, по понятиям самих католиков, не присвоивается непогрешимости. Для этого, очевидно, нужно получить степень благодати гораздо выше епископской, нужно, чтобы вся благодать, заключающаяся вообще в церкви, сосредоточилась на одном лице, которое и было бы ее видимым источником. Точно так, как ни из чего не следует, что лицо, посвященное епископом в священники, могло бы занять без особого посвящения кафедру посвятившего его епископа, так же точно не следует, чтоб из числа нескольких епископов, посвященных апостолом Петром, один из них мог, без нового, особого сообщения даров благодати тем же апостолом, вступить в обладание всею полнотою церковного авторитета. В противном случае необходимо принять, что и всем епископам, посвященным апостолом Петром, прилична вся та полнота авторитета, которая соединялась в лице апостола, а следовательно, и всем тем епископам, которых они посвятили, так что или верховенство апостола Петра никому не было передано, ибо собственно в папы он никого не посвящал, или оно было передано весьма многим, и число этих лиц все возрастало с течением веков. (…)
Неосновательность папских притязаний, а следовательно, и всего католического понятия о церкви можно доказать еще и другим, столь же простым и очевидным способом. Становясь опять на католическую точку зрения и признавая верховенство ап. Петра над прочими апостолами в том именно смысле, в каком понимают его католики, спрашивается: кому принадлежит высший в церкви авторитет после ап. Петра? Очевидно, что он принадлежит другим апостолам. Но по кончине ап. Петра, ап. Иоанн жил еще более 30 лет и, однако же, не занимал римской кафедры, и даже призываем на нее не был. Следовательно, если утверждают, что папам принадлежит главенство над церковью потому, что они суть наследники ап. Петра на римской кафедре, то против этого можно возразить с такою же точно силою, что так как высший церковный авторитет после кончины Петра на эту кафедру призван не был, то из этого необходимо следует, что, по понятиям первых христиан, верховный авторитет в церкви вовсе не соединялся необходимым образом с римским епископством, ибо иначе надо признать, что папы Лин, Анаклет и св. Климент имели преимущество власти и авторитета над самим ап. Иоанном или что в то время было в церкви два равносильные авторитета, из которых каждый соединял в себе всю полноту церковной власти. Для уяснения представим себе, что предстоит решить следующий исторический вопрос. В столице какого-нибудь государства существовала некоторая важная и значительная должность, точного значения которой мы, однако же, не знаем, – не знаем, соединялась ли с нею вся полнота самодержавной царской власти, или же это была только должность, весьма уважаемая и высокая, но, однако же, без преимуществ верховенства. Данные для решения этого вопроса имеются следующие: 1) известно, что первый, занимавший эту должность, имел царскую власть; 2) известен закон перехода этой власти; например, известно, что она передавалась от отца к сыну по первородству, так что сын этот имел в глазах народа высший авторитет после своего отца. При этих несомненных данных события имели следующий ход. Отец умер. На должность, которую он занимал, поступает не сын, а кто-либо другой, даже не по назначению отца, а по избранию; и затем, по понятиям всего народа, вновь вступивший на должность (объем власти которой составляет искомое задачи) занимает ее законным образом; сам ее занимающий считает себя также законным образом ее занимающим; наконец, тот, который по первородству должен был бы ее занимать, если бы она была царская, также считает выбранного помимо его законным образом ее занимающим; и нераздельно и одновременно с этим, однако же, весь народ, сам поставленный на должность и наследник царской власти одинаково признают, что царская власть (т. е. в нашем случае высший церковный авторитет), несомненно, принадлежит не кому другому, как этому наследнику. Если при всем этом мы признаем, что должность, точное значение которой нам неизвестно и которое мы отыскиваем, тем не менее была должностью царскою, то придем к следующему неразрешимому противоречию: что весь народ (т. е. все первые христиане), сами лица, занимавшие означенную должность (Лин, Анаклет, св. Климент), и даже сам законный наследник царства (апост. Иоанн) признавали этих лиц, занимавших более чем в течение 30 лет эту мнимо-царскую должность, одновременно и нераздельно и законными государями и похитителями престола. Чтобы выйти из этого противоречия, необходимо признать, что должность сама по себе не имела царского значения и что если первый ее занимавший и был вместе с тем царем, то это было лишь случайное совпадение, вроде того как, например, римские императоры принимали на себя часто и должность консулов. Нельзя против этого сделать и того возражения, что обстоятельства или собственное нежелание ап. Иоанна воспрепятствовали ему занять римскую кафедру, ибо все-таки ее должны бы были ему предложить, даже он сам должен бы был потребовать ее для себя, дабы выяснить ее значение для предбудущих веков, а затем уже по каким-либо причинам от нее отказаться. Не подумали об этом заблаговременно отцы-иезуиты, а то непременно отыскали бы какое-нибудь свидетельство о таковом событии, за несуществованием которого необходимо признать, что ни первые христиане, ни первые папы, ни сам ап. Иоанн не соединяли с римским епископством никакого понятия о церковном главенстве, а, следовательно, такового единоличного главенства не имел в виду и сам Иисус Христос.
Независимо от того, доходит ли до сознания самих католиков вся несостоятельность папских притязаний, самые практические последствия власти и значения, приписываемого папам, таковы, что католические народы не могут сносить их бремени и стараются высвободиться от них разного рода непоследовательностями. Например, непогрешимость папы ограничивают одною духовною областью, на основании слов: "царство мое не от мира сего" и "воздадите Божие Богови и кесарево кесареви". Такое разграничение, без сомнения, справедливо, но как же решить, где границы мира сего, где кончается кесарево и где начинается Божие? Очевидно, что ни мир, ни кесарь этого решить не могут, ибо они погрешительны и могут положить неправильную границу – могут выйти из своих пределов, как вышел из них Пилат, которому сказаны были первые из этих слов; как выходили Римские кесари, которые, как известно, вообще не были склонны к нетерпимости и гонениям за веру, а думали, что требовали именно кесарева, заставляя христиан приносить жертву богам, нераздельным с римским государством, воскуривать фимиам на алтаре статуй, воздвигнутых кесарю, представителю обожествленного государства. Если папа – наместник Христов, то очевидно, что никому, кроме его, не может принадлежать и разграничение Божьего от кесарева. Пий IX обнародовал свою знаменитую энциклику. Нельзя даже и с посторонней беспристрастной точки зрения сказать, чтобы многие параграфы ее не относились действительно к области Божией, как, например, вопрос о религиозной терпимости. Что же против нее возражают? Что она противоречит духу времени, и приглашают папу согласоваться с ним, если он хочет сохранить свою власть и значение. Как смешны и ничтожны должны казаться такие возражения истинному католику! Велика важность в самом деле – дух времени, сопоставленный с тем, кто по католическому понятию есть уполномоченный Духа вечности! Если дух времени в противоречии с ним, то это уже не в первый раз; этот дух времени есть дух того, кого называют царем века сего. Приглашение папе поклониться ему, чтобы сохранить свою власть, не было ли делано в тех же почти выражениях на горе в пустыне Тому, чьим наместником католики считают папу? Таковы практические затруднения, которые уже давно существуют для государств и народов, называющих себя католическими, а теперь возведены на степень непримиримых противоречий Пиевыми "non possumus", перед которыми, впрочем, нельзя не благоговеть, как перед выражением бесстрашной последовательности мысли и внутреннего убеждения. Противоречия эти на наших глазах если не усилились, то, по крайней мере, получили печать неизгладимости окончательным словом римского лжевселенского собора. Вообще роль Пия IX заключается в том, чтобы формулировать со всею резкостью, выставить на вид со всею яркостью притязания и требования католичества так, чтобы они били в глаза своим противоречием со всеми наизаконнейшими требованиями других областей жизни и мысли, чтобы разрыв между теми и другими дошел до сознания самых близоруких, самых тупоумных людей, чтобы уничтожить всякую возможность неопределенного, междоумочного положения между католицизмом и европейскою цивилизацией. Католические народы поставляются в необходимость выбирать одно из трех: или отказаться от всех плодов, выработанных кровью и потом многовековой борьбы и многовекового труда, и возвратиться к временам Григория VII и Урбана II; или отказаться от католического понимания церкви и, следовательно, либо перейти на скользкий путь протестантства, либо возвратиться в лоно православия; или же, наконец, отречься вместе с католичеством и от самого христианства. Как ни покажется странным, однако же под невыносимым бременем, налагаемым католичеством, народы и государства католической Европы склоняются, по-видимому, к этой последней альтернативе. Это выражается в знаменитом, пользующимся таким всеобщим фавором афоризме Кавура: "свободная церковь в свободном государстве", т. е., выражаясь полнее и точнее, свободная от государства церковь в государстве, свободном от церкви. Что же это такое значит? Церковь, по нашему православному понятию, есть собрание верующих всех времен и народов под главенством Иисуса Христа и под водительством Св. Духа. Каким же образом может государство быть от нее свободным, свободным от Христа? Конечно, не иначе как перестав быть христианским. Про Турцию мы можем, например, без всякого сомнения утверждать, что это есть государство, свободное от церкви (т. е. от церкви христианской). Этого ли хотят поборники знаменитой Кавуровой формулы? Конечно, нет, по крайней мере, не все они этого хотят. И действительно, с католической точки зрения вопрос и не представляется столь радикальным. Церковь, по католическим понятиям, сосредоточивается в иерархии, а иерархия в папе, так что, собственно, государство, свободное от церкви, означает не более как государство, свободное от папы, что далеко не так страшно. Но хотя, однако, церковь, по католическому понятию, и сосредоточивается в папе, однако же внутреннее содержание ее не заключается вполне в папской власти. Католическое вероисповедание, будучи католическим, вместе с тем, однако же, и христианское. Поэтому не все в католичестве ложь, многое истинное, действительно церковное в нем сохранилось, и государство, объявляя себя свободным от церкви, следовательно, объявляя себя вне церкви существующим, по необходимости выделяет себя и от того, что неразлучно с христианством.
Во многое существенно христианское государство, по ограниченности сферы своих действий, не может и не должно вмешиваться; но во многом также обе эти сферы, церковная и государственная, столь же тесно связаны, столько же проникают друг друга, как дух и тело. Таков, например, супружеский союз, который есть существенно церковный, христианский, а вместе с тем и существенно гражданский. Объявляя себя свободным от церкви, государство необходимо должно нарушить и эту неразрывную связь, должно видеть в браке учреждение исключительно гражданское и тем лишить его всякой нравственной основы. Не говоря о всей оскорбительности для нравственного чувства подчинять любовь, самое свободное, самое стыдливое, наиболее чуждающееся всякого грубого внешнего соприкосновения человеческое отношение, соизволению мэров, становых или квартальных надзирателей, – оскорбительности, которая заставляет предпочитать отношения между полами, основанные на одном природном влечении, такому неуместному административному вмешательству; обратим лишь внимание на те необходимые логические последствия, к которым ведет так называемый гражданский брак. Последствия эти противухристианские, противунравственные и вместе с тем нелепые, и, утверждая это, я имею в виду именно тот гражданский брак, который введен или вводится в разных европейских государствах, предъявляющих более или менее претензии на свободу от церкви, а не гражданский брак, как его понимают некоторые наши умствователи, ибо хотя в этом последнем смысле он также противен христианству, но не нелеп с их точки зрения, т. е. не ведет к последствиям, которые привели бы самих защитников его к противоречию с самими собою.
Ежели брак есть учреждение гражданское только, то он не может быть чем-либо иным, как обыкновенным контрактом между двумя лицами, утверждаемым правительственною властью, которая принимает на себя ручательство за его соблюдение каждою из заключающих сторон, поскольку другая сторона этого будет требовать, но никак не более. Ежели, следовательно, обе стороны пожелают расторгнуть этот договор или как-нибудь изменить его с обоюдного согласия, то гражданская власть, под страхом непоследовательности и превышения своей власти, никоим образом этому воспротивиться не может, не имеет на это ни малейшего права, ни основания. Следовательно, гражданский брак расторжим ad libitumiv. От такого расторжения могут, правда, пострадать третьи лица дети, но подобные же последствия нередко сопровождают и расторжение контрактов другого рода, что, однако же, не дает государству права объявлять их нерасторжимыми. Например, два лица заключают контракт, которым обязуются на общий счет устроить фабрику. Но через несколько времени они, с обоюдного согласия, решаются закрыть свою фабрику и расторгнуть связывающий их договор. Через это работники, работавшие на фабрике, могут лишиться средств к жизни и прийти в самое бедственное положение, которое принудит даже. государство позаботиться об их судьбе; но это не резон отказывать в просьбе расторгнуть, по обоюдному согласию, свободно заключенный договор. Так же точно и относительно брачного договора государство может принять меры к обеспечению детей, наложив известные обязательства на их родителей, учредив над детьми опеку и т. д. Ведь прибегает же оно к этим средствам обеспечения детей в случае расторжения брака смертью или по другим причинам, считаемым законными при браке церковном. Итак, гражданский брак может быть расторгаем и вновь заключаем хотя бы каждый месяц и каждую неделю. Единственное ограничение, представляющееся возможным с этой точки зрения, есть излишнее обременение брачных чиновников делами при слишком часто возобновляемых расторжениях и заключениях браков.
Но свободный договор не только может быть, по обоюдному согласию, расторгаем, он точно так же может быть и изменяем на том же основании. Ежели, например, жена вовсе не причастна чувству ревности, то почему бы ей не согласиться на принятие в супружеское общество третьего лица – еще другой жены, на равных с нею правах? Не представляется никаких резонов, почему бы брачный чиновник мог отказать в своем утверждении такому дополнению к брачному договору. Обопрется ли он на нравственность, – но на какую, – на христианскую? От нее государство, свободное от церкви, должно быть свободно, как и от всего церковного. На общечеловеческую? Если и признать такое неуловимое, никаким определениям не подчиняющееся начало, то многоженство никак не может считаться ему противным, потому что существует и признается нравственность и в Турции, и в Персии, и в Китае, и в Индии, жители которых имеют самые основательные претензии на право называться людьми и, следовательно, требовать, чтобы считаемое ими за нравственное не исключалось из понятия общечеловечески нравственного. Многоженство существовало у царей и даже у первосвященников иудейских, которые признаются весьма нравственными людьми. Может также, конечно, случиться и обратный казус, может найтись неревнивый муж, который согласится на изменение брачного контракта в смысле многомужия, и ежели бы брачный чиновник опять восстал против этого во имя общечеловеческой нравственности, то муж мог бы указать на пример тибетцев или, еще лучше, на пример благородных и рыцарских гуанхов, древних обитателей Канарских островов, уничтоженных испанцами. Основываясь на этих неопровержимых с точки зрения общечеловеческой нравственности фактах, целая компания неревнивых жен и столь же мало ревнивых мужей могли бы пойти далее по пути прогресса и неопровержимой логической последовательности и возжелать осуществить на практике соединение общечеловеческой нравственности по понятиям турок, персиан, китайцев, индийцев с таковою же по понятиям тибетцев и гуанхов, т. е. заключить контракт на началах общности жен и мужей. Далее: нельзя не предвидеть затруднения брачного чиновника, к которому явились бы для заключения брачного контракта брат с сестрою, и на его разглагольствования о противуестественности и безнравственности такого союза победоносно бы возражали на первое, что они сами судьи естественности или противуестественности союза, в который желают вступить, и что хотя считается противуестественным питаться гнилым мясом или тухлыми яйцами, однако же никакая административная власть не сочтет себя вправе изменять menu обеда лиц с такими противуестественными вкусами; а на второе представили бы столь же победоносный пример, что поклонники религии Зороастра не считали противным общечеловеческой нравственности супружества между братьями и сестрами и что в глазах чиновников, служащих свободному от церкви государству, огнепоклонничество и христианство должны иметь одинаковую цену. Несчастному, приставленному к брачным делам, административному лицу ничего бы не оставалось, как опереться на правила нравственности, выработанные коннозаводскою практикою, если таковые могут почитаться достаточными для регуляции междучеловеческих отношений. Можно, конечно, возразить, что никакому административному лицу нет надобности справляться с началами общечеловеческой нравственности и т. п. отвлеченностями, что для него достаточно положительного закона. Не позволяется, и баста. Это, конечно, так, но позволительно, однако же, думать, что сам закон не может же служить выражением того, что кому-нибудь во сне пригрезилось, а что сам закон должен на чем-нибудь да основываться.
С освобождением государства от церкви и признанием формулы, также некогда произнесенной знаменитым государственным мужем, что закон атеистичен (la loi est athee), всякое христианское основание у закона отнимается если и не сейчас, после принятия означенных формул, то со временем, потому что и в мире общественном существует своего рода инерция или косность, по которой он движется в известном направлении еще долго после того, как сила, его толкавшая, перестала уже действовать. Но непобедимая логика наконец всегда-таки берет свое. Может быть, приведут в пример Римское государство, в котором гражданский брак подлежал существенно тем же условиям, как христианский церковный. Пример справедлив только отчасти, потому что римский брак нельзя назвать браком гражданским. Римское государство не только не было свободно от своей языческой церкви, но, напротив того, представляло теснейшее с нею соединение, так что Римское государство было вместе и церковью. Римский император был вместе с тем и pontifex maximusv. Известно, что император Грациан был даже за то убит языческою партией, что, будучи христианином, не хотел облечься в одежду языческого первосвященника. Или укажут на Соединенные Штаты, в которых государство свободно от церкви, и наоборот, без всяких вредных от того последствий. Пример Соединенных Штатов указывает только на то фальшивое положение, в которое неминуемо поставляется государство, принявшее ложное начало, положение, из которого только один выход – крайняя непоследовательность. На берегах Соленого озера, в территории Ута существует общество мормонов, принимающее, как известно, многоженство; и Соединенные Штаты, объявляющие свое государство свободным от церкви и церковь свободною от государства, отказываются признать за мормонами право образовать самостоятельный штат. На каком же это, спрашивается, основании? И спрашивается еще, если бы собралось более 40 000 китайцев, которых и теперь уже в Калифорнии очень много, и поселившись на пустопорожнем месте, каковых в Соединенных Штатах еще так много, потребовали бы признать их область штатом, что, любопытно бы знать, ответило бы на это федеральное правительство? Если бы оно допустило китайский штат, то официально допустило бы и освятило своим авторитетом многоженство и не имело бы ни малейшего основания не допустить и не освятить того же и у мормонов, а затем и у всех, кто пожелал бы жить в этой форме полового союза; если бы же все-таки продолжало не признавать его у мормонов и у прочих граждан Союза, то показало бы, что оно вовсе не свободно от церкви, а имеет свою господствующую церковь, условно установленную государственную религию и основанную на ней государственную мораль, как это и теперь, несомненно, делают Соединенные Штаты. И эта, implicitervi, принимаемая Соединенными Штатами государственная религия отличается лишь тем от других протестантских государственный религий, что тетрадка, в которую они, по примеру Джеферсона, наклеивают свои вырезки, очень мало объемиста.
Из этого выходит, что христианство как в протестантском, так и в католическом сознании подпилено под самый корень, что оно с их точки зрения не выдерживает самой простой критики и держится лишь до поры до времени только по инерции или косности, присущей и нравственному миру. Если эта шаткость основы не столь ясно дошла до сознания католического мира, как до сознания мира протестантского, то зато необходимые практические следствия католического воззрения легли уже всею своею тяжестью на народы этого исповедования, и тяжесть эта стала для них невыносимою. Это внутреннее противоречие касается уже не одного только догматического содержания христианского учения, что, по утилитарному взгляду на религию, не составляло бы еще большой беды, но проникло уже до самых плодов его, то есть до этической, нравственной стороны христианства, как это, впрочем, иначе и быть не может, ибо одно от другого отделяется лишь большим или меньшим промежутком времени, смотря по большей или меньшей быстроте вывода практических последствий из данного основания, быстроте, которою разные народы одарены в различной степени.
Ни теоретических противоречий, ни практической невыносимой тяжести не сопрягается с православным понятием о церкви и о ее непогрешимости. Понятие это не отнимает у религии твердой незыблемой почвы Откровения, как протестантство, и не выходит из пределов, обозначенных в самом Писании: "Аз созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ю", произвольными к нему дополнениями, не основанными ни на Писании, ни на предании, как католичество, которое сосредоточивает эту неодолимость церкви в лице папы, приписывая ему непогрешимость вопреки истории. Православное понятие о непогрешимости церкви не налагает на ум неудобоносимого бремени, ибо хотя она по справедливости считается чудесною, однако принадлежит к тому разряду чудесного, которое необходимо проявляется во всем, в чем ощущается непосредственное действие божественного Промысла. И стройный порядок природы непогрешим, и история непогрешима; в непогрешимости церкви этот божественный Промысл проявляется только более прямым и непосредственным образом. Непогрешимость эта выражается во всем том, что составляет голос всей церкви, и, следовательно, самым явным и определенным образом во вселенских соборах. Но собрать Вселенский собор не во власти никакого царя, никакого патриарха, одним словом, не в чьей власти в отдельности; ибо Вселенским становится только тот собор, который в этом качестве утверждается самим божественным Промыслом, так как внешних признаков для придания собору характера вселенского не существует; и тем только соборам присвоивается это качество, которые были признаны за таковые сознанием всей церкви, т. е., если позволено будет так выразиться, которые были ратификованы самим Главою церкви и Духом Святым.
Между тем как против непогрешимости пап не раз свидетельствует история, непогрешимость соборов запечатлена в истории чудодейственною силою. Все христианские историки видят в распространении христианства явление чудесное и выставляют его как одно из доказательств божественности христианского учения. Но совершенно таким же характером чудесности запечатлены и действия вселенских соборов. Анафема собора прогремела – и пораженное ею учение теряет жизненную силу, иссыхает, как пораженная проклятием смоковница, хотя нередко все внешние обстоятельства, вся сила мирской власти были на стороне отверженного, признанного ересью учения. После смерти Константина арианство господствует на Востоке и на Западе, целый ряд императоров употребляет все усилия для доставления ему торжества, точно так же, как ряд языческих императоров до Константина и Юлиан Отступник напрягали все усилия язычества. Кроме империи, могущественнейшие народы того времени – готфы, занимавшие страны прибалканские и придунайские, Иллирию, Италию, Южную Францию и Испанию, а также бургунды, занимавшие юго-запад Германии, и вандалы, основавшиеся в Африке, – ревностные последователи Ария. Сравнительно с этим могуществом, какое жалкое место занимает гонимое православие! Но анафема собора произнесена – и все это могущество осуждено на ничтожество; не проходит и трех веков, как исчезают уже и последние следы арианства. То же явление повторяется с иконоборством. Ежели несторианство, монофизитство и монофелитство, которым также нередко покровительствуют императоры, и не совершенно исчезли, то слабые следы их сохранились только в трущобах и захолустьях Азии и Африки, вне всякого исторического и религиозного движения, как медленно умирающие остатки племен, составляющих этнографические курьезы, в непроходимых горных котловинах Кавказа или Пиренеи. Слово соборов – было словом власть имеющих. Таковы ли были действия папской анафемы, подкрепляемой светским мечом и всею мощью императоров и королей? vii
Что касается до практического влияния церкви на гражданское положение общества, то вопроса об отношении церкви к государству, имеющего столь преобладающее значение для народов Европы, на почве православия в принципе, в идее вовсе и возникнуть не могло. Грань между божьим и кесаревым, предел между царствами обоих миров не может быть нарушен, потому что сама церковь во всем, что до нее касается, непогрешимая, никогда не может его переступить; если же его когда переступает государство, то это не более как частное и временное насилие, могущее, правда, причинить бедствие или страдание отдельным христианам, иерархам, даже целым народам, но совершенно бессильное по отношению к церкви вообще. Свобода ее ненарушима по той простой причине, что ни для какой земной власти недосягаема. Церковь остается свободною и под гонениями Неронов и Диоклетианов, и под еретическими императорами Византии, и под гнетом турецким. Император Констанций, принудивший папу Либерия признать полуарианский символ и отречься от св. Афанасия, не только бы нарушил, но уничтожил бы свободу церкви, ежели бы в то время христианская церковь имела действительно то значение, которое ей приписывают католики. По случаю придания титула вселенского константинопольскому патриарху папа Григорий Великий пишет патриарху антиохийскому: "Вы не можете не согласиться, что если один епископ назовется вселенским, то вся церковь рушится, если падет этот вселенский". Но что могли сделать все гонения Льва Исаврянина или Константина Копронима, что значили все отступничества того или другого патриарха при православном понятии о церкви? Они увеличили только число ее мучеников или дали случай выказаться новым примерам человеческой слабости.
Нельзя не упомянуть при этом о том непонимании или о той недобросовестности, которые выказывают западные писатели во всем, как только дело коснется славянства или православия: как будто бы и просвещенным умам, принадлежащим к одному культурно-историческому типу, не дано понимать явлений другого типа, к которому они по своему положению должны относиться враждебно. Историки, писавшие о Византийской империи, непременно говорят о так называемом ими придворном православии (Hoforthodoxie), которое будто бы установлялось императорским произволом. Они забывают при этом одно, что, каковы бы ни были религиозные верования императоров, которые они старались навязать своим подданным, православие оставалось всегда одно и то же и было в Византийской империи то же самое, которое существовало тогда и на Западе, на который власть императоров или вовсе не распространялась, или распространялась на небольшие местности, и то на короткое время. Ежели православие сообразовалось с тем, что исповедовали Феодосии, Юстиниан, Феодора или Ирина, те почему же не сообразовалось оно с тем, что исповедовали Констанций, Валентиниан, Ираклий, Лев Исаврянин или Константин Копроним? Не значит ли это, что только когда императоры признавали то, что церковь признавала православным, их религиозная ревность оставляла после себя постоянные результаты; когда же они следовали своим личным внушениям, их старания и домогательства исчезали бесследно? Церковное ли православие или придворное господствовало после этого в Византии? Православие ли придавало силу и значение императорам, его державшимся, или оно заимствовало свою силу от их личных воззрений и взглядов?
Из этого краткого взгляда на православное, католическое и протестантское понимание значения церкви уже достаточно выказывается существенность различия между просветительными началами, исповедуемыми русским и большинством славянских народов, и теми, на которых основывается европейская цивилизация. Различие это не поглощается родовым понятием христианской цивилизации, потому что, вследствие вольного и невольного искажения правильного понятия о церкви, европейская цивилизация, произрастив немало действительно христианских плодов, – на основании неудержимого хода развития того зерна западной лжи, которое примешалось к вселенской истине, – дошла до непримиримого противоречия, теоретического и практического, с обеими западными формами христианства, которые, однако же, как протестантская, так и католическая Европа отожествляет с самим христианством и потому тщится заменить его рационализмом, более или менее радикальным, в области убеждения, а в области практической старается устранить противоречие разрывом между государством и церковью, т. е. между телом и духом; другими словами, хочет излечить болезнь смертью. Этот замен и этот разрыв еще не вполне совершились, но последний обхватывает все большее и большее число государств и приближается к своему кризису. Первый же проникает все глубже в такие слои общества, в которых этот рационализм, проходящий всевозможные градации между деизмом и нигилизмом с огромным преобладанием последнего, по степени их развития и образованности не может уже составлять философского убеждения, а принимает характер веры – и веры по преимуществу атеистической, а следовательно, и с утилитарной точки зрения лишенной всякого этического значения. Это противоречие выказалось ранее в странах католических, потому что практическое противоречие между католическим воззрением и новою гражданственностью ранее ощутилось под католическим гнетом. Но после первой вспышки последовало условное, наружное примирение, потому что противоречие было почувствовано только высшими сословиями, и открывавшаяся бездна казалась слишком ужасною. Так как католический принцип не носит на себе печати необходимого внутреннего противоречия, то стоило только отвратить взор и не вглядываться слишком пристально в его гнилые корни и расшатавшиеся подставки, чтобы временное и наружное примирение сделалось возможным. Напротив того, противоречие с протестантской точки зрения оказалось позднее, когда исчезла надежда на возможность отыскания положительной религиозной истины посредством критики, основанной на рационализме, критики, уже приступающей к своей работе с предвзятою, хотя и бессознательно, может быть, идеей отвергнуть все, по ее понятиям выходящее из порядка вещей самого тесного круга реальности. Начавшись позднее, оно проникло глубже, потому что по самому основному началу протестантизма он ни на чем остановиться не может. Тут не поможет никакое отвращение взора в сторону; противоречие видимо для внутреннего глаза, который и закрыть нельзя. Надо или возвести Лютера, Кальвина, Цвинглия, Генриха VIII, Шлейермахера или кого угодно в сан пророка, пришедшего объяснить закон, или если не прямо перейти к Бюхнеру, то остановиться на узенькой и скользкой ступеньке к нему ведущей лестницы. С другой стороны, оказывается, что продолжительное примирение, даже наружное, с Римом невозможно, что чуть задумаешь отдохнуть, как папская милиция уже начинает свое наступление, свое неустанное, достойное лучшей цели упорство, постепенное нечувствительное заворачивание назад к порядкам Григориев, Урбанов и Бонифациев. Что же тут делать? Есть ли исход? Для отдельных лиц, алчущих правды, – да; двери православия отверсты. Для целых народов, вероятно, нет исхода прямого, непосредственного; надо сначала перейти все ступени дряхлости, болезни, смерти и разложения, чтобы из разложившихся элементов составилось новое этнографическое целое, новый культурно-исторический тип. Для народов, как и для отдельного человека, нет ни живой воды, ни источника юности. "Не оживешь, аще не умрешь", – относится также и к народам.
Православное учение считает православную церковь единою спасительною. Здесь не место касаться того, как понимать это по отношению к отдельным лицам. Но смысл этого учения кажется мне таков по отношению к целым народам: неправославный взгляд на церковь лишает само Откровение его достоверности и незыблемости в глазах придерживающихся его и тем разрушает в умах медленным, но неизбежным ходом логического развития самую сущность христианства, а без христианства нет и истинной цивилизации, т. е. нет спасения и в мирском смысле этого слова.
Глава X. Различия в ходе исторического воспитания
Определение государства. – Отношение между народностью и государством. Племена несознательные. – Племена, умершие для политической жизни. – Одна народность – одно государство. – Различные формы государства. – Федерация; союзное государство, союз государств и политическая система. – Происхождение государства. – Культурородная сила леса. – Зависимость как условие для развития государства. – Рабство. – Данничество. – Феодализм. – Гнет мысли и гнет совести в средневековой Европе. – Внутреннее противоречие в жизни современной Европы. Франция – самое полное выражение Европы. – Очерк французской истории. Благоприятные обстоятельства Англии. – Гнет отвлеченного государства. – Начало национальности. – Столетние периоды. – Характер XIX века. – Вопрос национальности и Наполеоны. – Связь вопросов национальных со славянским вопросом. – Особенности исторического развития России. – Призвание варягов. – Татарское нашествие. Смутное время. – Крепостное состояние
Или, еще лучше, я мог бы назвать их двумя беспредельными и поистине беспримерными электрическими машинами (которые вертятся общественным механизмом) с батареями противоположных свойств; горемычный рабочий класс батарея отрицательная, дендизм – положительная: одна ежечасно притягивает и присвоивает себе все положительное электричество нации (т. е. деньги); другая трудится подобным образом над отрицательным (то есть над голодом), которое одинаково могущественно. До сих пор вы видите только отдельные, преходящие искорки, но подождите немного, пока вся нация не очутится в электрическом состоянии, пока все ваше жизненное электричество, перестав быть здорово-нейтральным, не разделится на две разобщенные доли положительного и отрицательного (денег и голода), и они не противостанут друг другу, заключенные в лейденских банках двух мировых батарей! Прикосновение детского пальца приводит их в соединение, и тогда – что тогда? Земля расшибается в неосязаемый прах этим громовым ударом страшного суда. Солнце не досчитывает одной из своих планет, и впредь уже нет более лунных затмений.
Carlyle. Sartor resartus
Существенная разница – разница типическая между миром германо-романским, или европейским, и миром славянским – заключается еще в ходе исторического воспитания, которое получили тот и другой. Прежде изложения этого различия необходимо уяснить себе некоторые общие теоретические понятия о государстве. Что такое государства и в чем существенно состоит процес их образования и развития? Оставляя всякие мистические, ничего ясного уму не представляющие определения государства (как, например, то, которое мы во время оно заучивали на школьных скамьях: что государство есть высшее проявление закона правды и справедливости на земле), мне кажется, надо остановиться на более удовлетворительном в сравнении с прочими – английском понятии, что государство есть такая форма, или такое состояние общества, которое обеспечивает членам его покровительство личности и имущества, понимая под личностью жизнь, честь и свободу. Такое определение кажется мне вполне удовлетворительным, если жизнь, честь и свободу личности понимать в обширном значении этого слова, т. е. не одну индивидуальную жизнь, честь и свободу, но также жизнь, честь и свободу национальную, которые составляют существенную долю этих благ. Без этого распространения понятия о личной чести и свободе – явления, представляемые государствами, не подойдут под определение его. Для чего в самом деле скопляться миллионам и десяткам миллионов людей в громадные политические единицы, если бы этим соединением сил имелось в виду только обеспечить жизнь, имущество и личную честь и свободу? Для этого достаточно, казалось бы, и таких групп, как швейцарские кантоны или немецкие герцогства средней руки. Если бы одни эти личные блага имелись в виду при жизни в государстве, то для чего бы, например, в 1813 году восставать народам Германии против власти Наполеона? Власть эта была достаточно просвещенная, чтобы обеспечить им все эти блага настолько же, по крайней мере, насколько делали это в то время немецкие правительства. В государствах Рейнского союза она даже обеспечивала их лучше, нежели это прежде делала Священная Римская империя немецкой национальности или после – Германский союз. Например, Наполеонов кодекс, усовершенствованные формы судопроизводства были дарами Наполеонова владычества, которые, по его низвержении, нередко заставляли по нем вздыхать. Для чего бы и нам было приносить в жертву сотни тысяч людей и сотни миллионов денег, жечь города и села, если бы дело шло только о защите жизни, имуществ, личной чести и свободы? Наполеон, без сомнения, их не нарушил бы, ежели бы власть его была признана с покорностью, – может быть, даже доставил бы им такие гарантии, которых тогдашнее общественное и гражданское состояние России не представляло. Очевидно, потому, что все эти блага и немцам, и нам казались ничтожными в сравнении с честью и свободою национальною. Если посмотрим на те жертвы, которых каждое государство требует от своих подданных в виде имущественных взносов и личных услуг, то увидим, что, по крайней мере, четыре пятых из этих жертв идут на обеспечение не личных, а национальных благ. Сюда относится содержание почти всего флота – ибо много ли надо судов для защиты частного имущества от морских разбоев, – почти всей армии, ибо для сохранения внутреннего порядка также немного надо войска; весь государственный долг, который всеми почти государствами был заключаем для расходов, сопряженных с сохранением национальной чести и свободы, или национальных интересов, а не для обеспечения этих благ частным лицам. Так же точно и значительность расходов по финансовому управлению объясняется лишь значительностью сборов, которые должны быть взимаемы на содержание армии, флота и уплату государственного долга. Без этих надобностей и самая администрация могла бы быть гораздо проще и дешевле стоить.
Народности, национальности суть органы человечества, посредством которых заключающаяся в нем идея достигает, в пространстве и во времени, возможного разнообразия, возможной многосторонности осуществления, как это было показано в предыдущих главах; следовательно, жертвы, требуемые для охранения народности, суть самые существенно необходимые, самые священные. Народность составляет поэтому существенную основу государства, самую причину его существования, и главная цель его и есть именно охранение народности. Из самого определения государства следует, что государство, не имеющее народной основы, не имеет в себе жизненного начала и вообще не имеет никакой причины существовать. Если, в самом деле, государство есть случайная смесь народностей, то какую национальную честь, какую национальную свободу может оно охранять и защищать, когда честь и свобода их могут быть (и в большинстве случаев не могут не быть) друг другу противоположны? На что идут миллионы, поглощаемые флотами, армиями, финансовым управлением, государственным долгом таких государств? Ни на что, как на оскорбление и лишение народной чести и свободы народностей, втиснутых в его искусственную рамку. Что значит честь и свобода Турции, честь и свобода Австрии, честь и свобода бывшей Польши? Не иное что, как угнетение и оскорбление действительного народного чувства и действительной национальной свободы народов, составляющих эти государства: греков, сербов, болгар, чехов, русских, румынов, недавно еще итальянцев. Эти государства могут быть по сердцу только тем, кому они дают средства к этому угнетению и оскорблению: турецкой орде в Турции, небольшому клочку немцев, а с недавнего времени и мадьяр в Австрии, оторвавшемуся от своей народности и от славянского корня польскому шляхетству и католическому духовенству.
Из этого национального значения государства следует, что каждая народность, если получила уже и не утратила еще сознание своего самобытного исторического национального значения, должна составлять государство и что одна народность должна составлять только одно государство. Эти положения подвержены, по-видимому, многим исключениям, но только по-видимому.
Первое положение, утверждающее, что всякая национальность имеет право на государственное существование, по необходимости ограничивается условием сознания этого права, ибо бессознательной личности ни индивидуальной, ни народной быть не может, и лишать этой личности того, кто ее не имеет, невозможно. Это несознание народом своей народной личности может происходить от различных причин: от коренной неспособности возвыситься над состоянием дикости и племенной разрозненности или только от недостижения достаточной зрелости возраста. Весьма вероятно, что обе эти причины, в сущности, сливаются всегда в одну последнюю. Но как бы то ни было, если племя, находящееся на такой еще несознательной ступени развития, обхватывается другим, уже начавшим свой политический рост, то первое поглощается последним; ибо не может же племя, более могучее и зрелое, остановить рост свой потому, что ему на пути встречаются эти племенные недоростки. Если между деревом и его корой попадется посторонний предмет – дерево обрастает его, включает в свою массу. Но с народами бывает еще нечто иное: в племенной, этнографический, а не исторический период своего бытия они обладают значительною гибкостью, мягкостью организма. Не подвергнувшись еще влиянию своего особого образовательного начала, они сохраняют способность легко вступать в тесное соединение с другими народностями, точно так же, как многие химические вещества вступают в соединение между собою только в состоянии зарождения (in statu nascenri). Эти этнографические элементы производят смешанный тип, если они между собою равносильны; или только немного изменяют главный тип, если одно из соединяющихся племен значительно преобладает численностью или нравственною уподобляющею силою. Если бы этим поглощаемым племенам предоставлена была возможность долее продолжать свое независимое существование или если бы влияние на них племен, далее подвинувшихся в своем развитии, было отдаленнее, то, может быть, и они достигли бы исторического момента своей жизни и образовали бы самобытные государства. Но, не имев этого счастья или не будучи к тому способны, они входят в состав какого-либо преобладающего (предназначенного к исторической судьбе) племени. Процесс этого поглощения совершается, конечно, не вдруг, а тем медленнее, чем естественнее и менее насильственно он происходит. Такова была судьба финских племен, рассеянных по пространству России. Славяне никогда их не покоряли: с самого начала истории племена их являются в дружном союзе с племенами славянскими и сообща кладут основание государства. Но более сильное племя поглощает их естественным путем ассимиляции. Процесс этот еще не кончен, и мы видим финское племя до сих пор на всех ступенях слияния – начиная от той, при которой остались только следы бывшей розни (в фински звучащих названиях урочищ), до сохранивших еще свою полную племенную физиономию эстов и, несмотря на это, желающих слиться с русским народом, если бы мы сами не поставляли тому преград. Само собою разумеется, что весь, корелы, зыряне, мордва, черемисы, чуваши, так же как остяки, вогуличи или самоеды, не могут составлять государств; но они и притязаний на это никаких не имеют, не имеют сознания исторического или политического характера своей народности, – его, следовательно, и вовсе не существует. Таково же, например, положение басков во Франции и в Испании.
Другие народы умерли для политической жизни, сохранив еще, однако, свои этнографические особенности. Типом таких народов могут служить евреи, которые нигде не выказывают ни малейшего поползновения соединиться в особую политическую группу. Точно так же, как разные стороны личного, так и разные стороны народного характера лишь постепенно обнаруживаются и так же постепенно замирают. Близко к евреям (по замиранию политической, а следовательно, и исторической стороны народного характера) стоят армяне, которые, желая сохранить особенности своего вероисповедания, свой язык, свои нравы, нигде не выказывают стремлений к политической жизни, – между тем как греки, находящиеся в Турции в таком же состоянии угнетения, не перестают выказывать свою политическую жизненность. (…)
Если цель государства состоит, главнейше, в защите и охране жизни, чести и свободы народной и так как эта жизнь, честь и свобода у одной народной личности может быть только одна, то само собою понятно, справедливо и второе положение, то есть что одна народность может составлять только одно государство. Если какая-либо часть народности входит в состав другого государства, то это нарушает уже и ее свободу, и ее честь. Если часть народности составляет другое самобытное государство, то цель, для которой оба эти государства существуют, не может быть хорошо достигнута ни тем, ни другим; собственно говоря, самой цели этой уже не существует, или, по крайней мере, она существует не вполне. Оба эти государства не достигли, значит, истинного сознания своей народной личности; цель их может быть только какая-нибудь временная или случайная. По-видимому, такому понятию совершенно противоречит существование Соединенных Штатов, национальность которых есть английская. Но как существование мелких финских племен в составе русского государства указывает лишь на незавершившийся, неокончившийся еще процесс их ассимиляции, так существование самобытного государства Соединенных Штатов указывает, напротив того, на зародившееся только образование новой национальности, совершенно различной от английской. Мы присутствуем теперь, сами мало это замечая (ибо так мало резок, так мало заметен бывает всякий процесс нового образования), при переселении народов-совершенно подобном тому, которое породило нынешний европейский, или романо-германский, культурно-исторический тип. Причины этого переселения народов совершенно однородны с теми, которые произвели так называемое Великое переселение: в обоих случаях тот же недостаток средств к существованию на местах родины переселенцев. Объем нового переселения нисколько не меньше, если даже не больше происходившего в первые века христианской эры. Сотни тысяч, а иногда и до полумиллиона народа переселяется ежегодно через океан. Результаты переселения одни и те же: смешение народов, приходящих на новую почву не в государственной, туго поддающейся слиянию форме, а в виде более свободных, так сказать, разжиженных этнографических элементов. Весьма было бы странно, если бы это смешение голландцев, англичан, немцев, кельтов, французов, испанцев и даже славян (чехов), при совершенно особых физических и нравственных условиях страны, не произвело бы новой или новых народностей, – как некогда смешение разных германских, галльских, романских и отчасти славянских и арабских элементов произвело новые народности: английскую, немецкую, французскую, итальянскую, испанскую. Эти элементы, в различной пропорции смешения занявшие западные части Римской империи и Германии, не были уже в то время совершенно дикими и потому должны были иметь какое-либо общественное или даже государственное устройство, тем более что находились под влиянием культурного элемента римского. Поселившись на новой почве, они не представляли уже племени без всякой политической связи, каковы, например, американские дикари; но политическая связь их не могла быть государством, основанным на народном национальном характере, ибо такового еще не выработалось. Старый римский, галльский, бретонский мир был разрушен, новый (преимущественно, хотя и не исключительно германский) не успел еще с ним слиться в новое или в новые целые. Поэтому первые государства, последовавшие за падением Римской империи, имели, так сказать, временной, провизуарныйi характер, дабы под кровом их могли выработаться новые народности. Государства Лангобардское, Остготское, Вестготское, Свевское, Бургундское, Франкское (времен Меровингов) не выражали собою определенных народностей. Общегерманский элемент до того даже в них преобладал, что они могли еще составить одно целое под скипетром Карла Великого, и истинным моментом рождения новых народностей: французской, итальянской и специально немецкой по справедливости считается Вердюнский договор, заключенный около 400 лет после занятия варварами своих новых местожительств. Такой же временной, провизуарный характер носят на себе и Соединенные Штаты. Государственный характер их развился очень сильно (как доказывает энергия, выказанная ими в недавней междоусобной борьбе), но особого народного еще не выразилось, или он выразился еще очень слабо. Я этим вовсе не хочу утверждать, чтобы Соединенным Штатам непременно угрожала гибель и что на их месте должны возникнуть новые государства, основанные каждое на самобытной народности. Нет основания проводить аналогию так далеко, да и сама аналогия этого не требует. Если развалины империи готов вошли в состав нескольких государств, то зато монархия франков, в тесном смысле этого слова, продолжает существовать от времен Хлодовикаii или Меровея до наших времен. Продолжает же она существовать потому, что под кровом старой, ненациональной еще франкской монархии развилась особая французская национальность. Я хочу выразить только ту мысль, что теперешние Штаты составляют форму провизуарную, под кровом которой должны образоваться одна или несколько национальностей, и, смотря поэтому, будет одно или несколько государств.
Если существеннейшая цель государства есть охрана народности, то очевидно, что сила и крепость этой народной брони должна сообразоваться с силою опасностей, против которых ей приходилось и приходится еще бороться. Поэтому государство должно принять форму одного централизованного политического целого там, где опасность эта велика; но может принять форму более или менее слабо соединенных федеративною связью отдельных частей, где опасность мала.
Национальность не составляет, однако, понятия столь резкого, чтобы все, не принадлежащее к ней, было ей совершенно чуждо в одинаковой мере. Такого резкого отграничения не представляет даже индивидуальность личная. Та и другая имеют с другими национальностями или индивидуальностями более или менее тесную родственную связь, которая может быть столь тесна, что свобода и честь этих сродных существ столь же близко до них касаются, как и их собственные, и совершенно между собою неразделимы. Такие группы образуют семейства лиц и народов; и народы, если имеют такие семейства, не могут оставаться в совершенной между собою отдельности. Как, однако же, ни тесна эта связь, она не может совершенно стереть границ ни народной, ни индивидуальной личности. Поэтому хотя бы народы были и очень близки между собою, но, если они сознают себя особыми политическими целыми, они в одно государство безнасильственно сложиться не могут; но для взаимной защиты, для возвеличения каждой отдельной народности и для укрепления их естественной связи должны составлять федерацию, которая в свою очередь (смотря по величине опасностей, среди которых предназначено ей жить и действовать) может представлять связь различной силы и крепости: может принять форму союзного государства, союза государств или просто политической системы. Первая будет иметь место, когда вся политическая деятельность союза сосредоточена в руках одной власти, а членам союза предоставлена самая обширная административная автономия. Вторая – когда, при политической самостоятельности частей, они связаны неразрывным договором общего внешнего действия, как оборонительного, так и наступательного. Третья когда эта общность действия обусловлена лишь одним нравственным сознанием, без всякого определенного положительного обязательства. В первых двух случаях связь обеспечена не только общею законодательною властью, объемлющею более или менее обширную сферу деятельности членов союза, но и властью судебною, разрешающею вопросы, которые возникают от приложения этих законов к частным случаям, и властью исполнительною, имеющею приводить в исполнение судебные решения. Напротив того, в случае политической системы – ни судебной, ни исполнительной союзной власти не существует; само же союзное законодательство, выражающееся в международных договорах, относится лишь к частным случаям, имеет силу именно только относительно этих случаев, во всей их частности – без всякой обязательности (даже нравственной) подчиняться проистекающим из них выводам, хотя бы и самым естественным, логически необходимым. Можно, конечно, сказать, что и в союзе государств фактически может не существовать принудительной власти, как мы недавно видели на примере Пруссии, не подчинившейся союзному решению. Но такой случай возможен и в государстве, если только ослушник имеет достаточно силы, дабы противиться государственному закону. Напротив того, в системе государств по самой сущности ее не существует имеющей обязательную силу судебной и исполнительной власти, что, в сущности, равнозначительно совершенному отсутствию таковых, почему и всякое нарушение интересов одного или нескольких членов системы другими может быть не иначе восстановлено как насилием, т. е. войною, или добровольным примирением.
Итак, формы политически централизованного государства, союзного государства, союза государств и политической системы обусловливаются, с одной стороны, отдельностью народных личностей, служащих их основанием, и степенью их сродства между собою, с другой стороны – степенью опасности, угрожающей национальной чести и свободе, которым государства должны служить защитою и обороною. Неверное понимание этих отношений никогда не остается безнаказанным и ведет к самым пагубным последствиям. Так, например, по степени национального сродства все греческие племена могли бы составлять одно государство, ибо имели один язык, одну религию, одни предания и т. д. Но развиваясь в стране, весьма хорошо защищенной природою – морем и горами, удаленной от враждебных народностей, еще даже не образовавшихся, – они долгое время находились вне всякой внешней опасности; поэтому без неудобства могли бы образовать из себя союзное государство или даже союз государств, чему и было положено начало в некоторых общих учреждениях: в амфиктионовом суде, в общем Дельфийском казнохранилище, в общих играх и т. п. Но греческие государства тяготились всякою связью и составили из себя только политическую систему. Внешние опасности наступили, но и они не могли заставить их теснее соединиться между собою; и, когда рознь их зашла уже очень далеко, они отвергли якорь спасения, брошенный им великим македонским государем Филиппом. Только силою подчинялись они спасительному единству и сохраняли его, только пока эта сила действовала. Поэтому греки погибли как нация гораздо ранее, чем живые народные эллинские силы совершенно иссякли. Греческая культура должна была доживать свой век, слоняясь по чужим углам: в Египте, в Пергаме, и наконец везде она должна была подчиниться совершенно уже чуждому ей Риму.
Ежели национальность составляет истинную основу государства, саму причину и главную цель его бытия, то, конечно, и происхождение государства обусловливается сознанием этой национальности как чего-то особого и самобытного, требующего соединения всех личных сил для своего утверждения и обезопасения; и поводом к образованию государства будет служить всякое событие, которое возбуждает это сознание, – всякое противоположение других национальностей, точно так как ощущение противоположности внешнего мира с внутренним приводит к сознанию индивидуальной личности. Никто теперь не думает, чтобы какое-либо условие, договор, контракт служили основанием государства; так же как никто не думает, чтобы подобное условие создало язык. Но таким основанием не может даже считаться прирожденный человеку инстинкт общественности, ведущий только к сожительству в обществе (родом, племенем, общиною), а не к государству. Для сего последнего нужно нечто большее, необходим внешний толчок, приводящий племена к ясному сознанию их народной личности, а следовательно – и к необходимости ее защиты и охранения. По крайней мере, мы не знаем примера, чтобы какое-либо государство образовалось без такого внешнего толчка – одного или нескольких, одновременно или последовательно возбудивших в племени народное сознание. Могло ли бы без него развиться государство – сказать трудно. Во всяком случае, для такого образования государства (из одних внутренних побуждений) было бы потребно неосуществимое на практике стечение обстоятельств. Именно, необходимо бы было отсутствие всяких внешних и внутренних возмущающих влияний в течение чрезвычайно долгого времени, чтобы присущая человеку усовершаемость, приводящая к усложнению его отношений к природе и к себе подобным, могла выказать, будучи совершенно предоставлена самой себе, всю заключающуюся в ней внутреннюю силу под влиянием одних природою противопоставляемых препятствий.
По всем вероятиям, государство, образующееся в таких идеальных условиях, приняло бы форму федерации, но федерации совершенно иного характера, нежели все те, которые мы знаем. Именно государственное верховенство Должно бы в ней заключаться не в целом, а в самом элементарном общественном союзе – в деревенской или в волостной общине, и взаимная связь и зависимость должна бы быть тем слабее, чем выше порядок группы, этими общинами составляемой, т. е. связь окружная была бы сильнее и теснее уездной, уездная – областной, областная – краевой, краевая – государственной.
Это разделение на общины должно непременно предшествовать всякому дальнейшему развитию, потому что она требуется оседлою жизнью; оседлая же жизнь возможна лишь в стране, представляющей физические препятствия к кочеванию большими массами. Номады к усовершенствованию неспособны, и хотя пастушеская жизнь составляет очевидный прогресс сравнительно с звероловною, однако же прогресс этот обманчивый, потому что из него нет дальнейшего исхода. Кочевничество представляет слишком много удобств, слишком большое обеспечение существованию посредством многочисленных стад, слишком большое потворство лени. Но физическими препятствиями к кочевой жизни могут служить только леса или периодические речные разливы, как, например, в Египте. Эти последние, однако же, составляют слишком сильное препятствие, требуют слишком большой наблюдательности от дикого племени, чтобы оно могло извлечь из них для себя пользу. Горы совершенно разъединяют людей, запирают их в долины и котловины и, будучи весьма удобными для сохранения этнографических отличий, совершенно неспособны служить почвою для развития первоначальной самобытной цивилизации. Остаются, следовательно, одни леса, которые, представляя достаточное препятствие для развития кочевой жизни, не составляют, однако, непреодолимой преграды к основанию оседлой жизни, а следовательно – и к развитию первоначальной культуры слабыми средствами племени, выходящего под давлением нужды из состояния первобытной дикости. Лес имеет поэтому огромную культурородную силу. Он имеет и другое влияние: своею таинственною гущей и полумраком он навевает поэтическое настроение духа на живущий в нем народ. Я не думаю, чтобы самобытная культура, вне всякого постороннего влияния, могла возникнуть иначе как в лесной стране. Но каким образом происходит рассеяние в лесу? Не иначе как отдельными островами. Стоит только проехать со вниманием по обширной лесной стране (какова, например, Северная Россия), чтобы проследить, как это делается. Сначала отдельные поселения рассеяны редкими островками в лесном море. Отселки, хутора, починки занимают новые места неподалеку от своей метрополии; разделяющие их небольшие лесные преграды вырубаются, и образуется волость, состоящая из нескольких деревень, между которыми нет разделяющего лесного пространства. Около этого большого острова оседлости сгруппированы мелкие островки. Сами волости отделены между собою значительными лесными пространствами. Число волостей увеличивается, и лес, в котором были сначала вкраплены редкие поселки, из лесного океана принимает форму сети, все нити которой между собою соединены. Но другие препятствия – обширные болота препятствуют тому, чтобы эта лесная сеть была равномерно прорешетена поселками. Остаются обширные лесные пространства – волоки, как их называют у нас на севере, которые разделяют одну группу поселков (волостей, общин) от другой. С увеличением населения сеть во многих местах прорывается, волости соединяются между собою, сливаются и наконец сами образуют уже сплошную сеть, в которой отдельными группами разбросаны куски леса, как прежде были разбросаны поселки в лесной сети. Эти куски леса все уменьшаются, и является сплошное море или, лучше сказать, озеро поселков, в котором разбросаны лесные острова. Эти озера не сливаются, однако, в одно обширное море, оставаясь долго еще разделенными обширными волоками. Этому ходу расселения в лесной стране должен следовать и ход развития общественности. Долго обособленные от своих соседей, волости образуют самобытные верховные общественные единицы. Они должны составить маленькие независимые политические центры. Когда они вступают в связь с другими волостями, эта самобытность уже утвердилась у них временем. Конечно, от увеличения числа людей, вступивших в непосредственную связь, усложняются между ними отношения, являются такие нужды, которым волость удовлетворить уже не может, – и она бывает поэтому принуждена отделить часть своей власти всей той группе волостей, которые вошли в близкие непосредственные сношения и т. д., от более тесной к более обширной группе. Но каждая группа отделит в пользу высшей, в состав которой она войдет, конечно, только возможно меньшую долю власти над собою, касающуюся только тех предметов и интересов, которые не могут входить в круг деятельности группы более тесной. Из этого должна естественно проистечь федеративная связь – но такая, в которой власть разливалась бы не сверху вниз, а восходила бы снизу вверх. Этим, кажется мне, объясняется федеративное устройство всех народов, живших в лесной стране, которых история застала еще во время этнографического периода их жизни (как, например, у германцев и у славян). Этим объясняется федеративное устройство Соединенных Штатов, где внешние возмущающие влияния, по местным особенностям, должны были иметь – и до самого новейшего времени имели сравнительно весьма слабое влияние. Но достигло ли бы этим путем племя, предоставленное одному лишь воздействию на него местных влияний страны (обусловливающих ход его расселения), до сознания своей народности, как бы ни был длинен период, в течение которого это воздействие продолжалось, – а следовательно, возникла ли бы из этого действительно государственная связь, в которой, собственно, не ощущалось бы никакой нужды, – это весьма сомнительно. Еще сомнительнее возможность достаточно продолжительного отсутствия всякого возмущающего влияния как со стороны чуждых племен, так и со стороны внутри племени возникающих страстей, а главное, сильных личностей, возвышающихся над уровнем общих народных понятий и стремящихся подчинить соплеменников своему влиянию. Я хотел только показать, что племя, предоставленное собственному своему развитию и устраненное от всяких возмущающих влияний, но находящееся в условиях, побуждающих его принять оседлую жизнь, вероятно, приняло бы федеративное устройство.
На деле это, конечно, происходит не так. Различные племена между собою сталкиваются, и это столкновение ведет к уяснению их народного сознания и возбуждает чувство необходимости оградить свободу и честь своей народности, восстановить их, если они были нарушены, или сохранить преобладание, раз приобретенное над другими народностями. Если бы под влиянием ничем не возмущаемых воздействий природы и успела образоваться слабая федеративная связь, она должна бы уступить более крепкой связи для успешности борьбы. – Но и необходимость охранения народности, проистекающая из племенной борьбы, бывает недостаточна для того, чтобы племя наложило на себя государственное бремя. Борьба бывает кратковременна; для ее целей достаточно временного усилия и временной централизации власти, как, например, в казацких общинах, признававших власть атаманскую только в военное время, или в еврейских коленах, признававших диктаторскую власть судей только в эпохи величайших опасностей. Уроки прошедшего скоро забываются вообще, а еще скорее – в первобытное время народной или еще только племенной жизни. Племенная необузданная воля имеет столько прелести для первобытного человека, что он расстается с нею только под давлением постоянно действующей причины. Борьба для этого недостаточна – необходима зависимость.