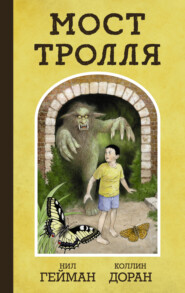По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мифическое путешествие: Мифы и легенды на новый лад
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Той ночью у озера мы запалили огромный костер. Нейтральные земли лежали всего в трех четвертях часа езды от города, и никто, утомившись, не отправился домой, готовый проспать до утра, а утром подняться и трудолюбиво сесть за учебу.
Помнится, мы говорили «у озера», будто это – город, точный почтовый адрес. Пожалуй, так оно и было: на пятачок у берега, точно вороны, слеталось множество машин. Пикапы, джипы, «камаро», встав носом внутрь, ограждали нас от прочего мира железной стеной. Ивы махали луне зелеными плетьми ветвей, а огонь сиял красным с золотом, цветами «Дьяволов». Мы создавали ночь, ни о чем не задумываясь, никому не говоря, что намечается, ничего заранее не планируя. Съезжались все сами по себе, и никто не опаздывал.
Сведи вместе любую группу учеников старшей школы, и, скорее всего, получишь готовые кирпичи для постройки цивилизации. Бойскауты-«орлы»[23 - Высший скаутский ранг, для получения которого необходимо собрать 21 нашивку за различные заслуги.] соорудили безупречный с точки зрения архитектуры костер. Ребята из местного клуба «4-H»[24 - Крупнейшая организация по развитию молодежи, ориентированная на развитие у подростков навыков получения средств к существованию, особенно при помощи сельского хозяйства. Названа по английский акрониму: head, heart, hands and health (голова, сердце, руки, здоровье).] притащили пожрать: чипсы там, бургеры, хот-доги, «Твиксы», тянучки «Старберст». Ребята из драмкружка позаботились о музыке: воткнутые в разъемы колонок, их «айпады» белели, как зубы, обрамляющие бездонные черные пасти. Ребята из богатых семей принесли выпивку из дюжины ореховых домашних баров – Койот научил их, как отличить то, что получше. Мясо, огонь, музыка, хмель – все, как на заре времен… Сара Джейн начала танцевать у костра с бутылкой столетнего коньяка в руке, покачивая из стороны в сторону бедрами, гордо выпятив огромный живот, длинные кукурузно-желтые волосы хлещут по лицам стоящих рядом, аромат духов отдает большими деньгами и жаром. Джессика с Эшли подбежали к ней, и все втроем закачались, запели, затопали, обнимая друг дружку за талию, сдвинули головы, точно три грации. Сара Джейн наклонила бутылку, принялась поливать груди Эшли папкиным коньяком, ловить золотистую струйку блестящими розовыми губами, а Эшли рассмеялась так звонко, так нежно, что заразила весельем всех – все вокруг заплясали, заскакали, завыли, и Койот, конечно же, в самой гуще: выгибает спину, хлопает по мощным бедрам в ритме танца, бросает футбольный мяч то девчонке, то парню, то девчонке, то парню, будто это особое волшебство, наше и только наше, будто само солнце нашего мира летает дугой из рук в руки.
Поймала я мяч, и Койот поцеловал меня, а я перебросила мяч Хейли Коллинз из класса английского, а Ник Дристол (левый тэкл[25 - В американском футболе – игрок, находящийся с левого края линии атаки, основной помощник квотербека-правши, прикрывающий его со спины.], № 19), сгреб меня в объятья. Даже не знаю, что за песня в это время играла: вся ночь оглушительно гремела в ушах. Я понимала, к чему все клонится, и здорово трусила, но изменить ход дел не могла, да и не хотела. Все разваливалось на части и снова собиралось вместе, и в игре этой мы победили, и Кролик ни в чем не уступит Койоту, и парень мой – как всегда – ни на минуту не смог меня одурачить.
Оглянувшись на смех Сары Джейн, я увидела, как Джессика целует и ее, и Грега Найта – по очереди, точно считая поцелуи, чтоб никого ненароком не обделить. Сара Джейн поднесла к губам все ту же карамельного цвета бутылку, а Ник хотел было что-то сказать, но я цыкнула на него: что-что, а Койотов коньяк этому малышу уж точно во вред не пойдет. Все задние дверцы машин были распахнуты настежь, ни одна из бутылок, сколько ни пей, не пустела, вокруг сделалось необычайно тепло, хоть на дворе и январь, над головами кружили хрусткие красно-желтые листья, никто ни о чем не жалел, никто ничего не стеснялся; все – и шахматный клуб, и клуб физиков, и группа чирлидерш, и бейсбольная команда – сгрудились в кучу, смешались друг с другом на пятачке за стеною машин.
Сара, приплясывая, подошла ближе, глотнула из горлышка, не сводя с меня глаз, грубо схватила меня за шею и поцеловала, проталкивая коньяк изо рта в рот. О, этот вкус – словно пас, поданный так, что мяч долетит до самого моря! А Сара прижала меня к себе, будто бы восполняя незавершенное на балу, будто бы говоря: «Теперь-то я сильней, теперь я храбрей! Разве тебе не кажется, что всему наступает конец, и нужно ловить момент, пока он не ускользнул?» Огромный живот ее прижался к моему – крепко, настойчиво, и я почувствовала, как в утробе, внутри, шевелится ее малыш. Рывком распахнув на мне рубашку, она отступила назад, обнаженные груди ее засияли в отсветах пламени (мои, наверное, тоже), а между нами быстро, уверенно, точно опаздывая на свидание с небом, потянулся вверх из земли кукурузный стебель, а за ним и второй, и третий стебель той самой древней кукурузы, полночной кукурузы, первой кукурузы на свете. Земля вокруг костра затрещала, вспучилась, выталкивая наружу тыквы, и ежевику, и кусты помидоров, достойных ярмарки штата, и огромные, пышные цветы кабачков-цуккини, пшеницу, арбузы, яблони, сгибающиеся под тяжестью плодов… Оголившиеся к зиме, ветви деревьев в один миг покрылись зеленью, все выпускники этого года бросились наземь, в гряды овощей и фруктов, сцепились, покатились кубарем, как волки, как медведи, как дьяволы. Светлячки замерцали в воздухе изумрудными ожерельями, а Сара Джейн схватила Койота за руку, которая была лапой, которая была ладонью, и завизжала в голос, но это уж было неважно. Кричали, вопили, орали все, тьму сотрясала музыка, а малыш Сары бил в барабан ее брюха, требуя выпустить его на волю, в россыпи тыкв, в заросли иссиня-черной кукурузы, требуя встречи с папашей.
Следом за Сарой хором взвизгнули все девчонки. Все – даже те, кто от силы месяце на втором – схватились за животы и застонали. Все, кроме меня, Крольчихи Банни, любительницы подглядывать, королевы здравого смысла. Арбузы полопались, явив взгляду алую мякоть в чашах бледно-зеленой корки, тыквы затрещали так громко, что я невольно зажала уши ладонями (которые были лапами, которые были ладонями), а на свет божий один за другим, точно спелые яблоки с яблони, точно сорок пять душ в погоне за ярким мячом в небесах, ринулись, хлынули новорожденные.
На десятилетие выпуска некоторые из нас, сгрудившись за столом, допоздна засидевшись за водкой с тоником под ретро-музыку, ударились в воспоминания. О том, как мистер Боллард стал сам не свой и, наконец, после почти десяти лет сплошных поражений, повесился в номере третьесортного отеля. О том, как все они дотащились до дому и вдруг обнаружили, что у них имеются родители, причем не на шутку разъяренные, и «хвосты» по ряду предметов, и печень, вспухшая, точно боксерская груша. О том, как никто больше не ездил к озеру, а Бобби Жао уехал в колледж за пределами штата, а теперь… кажется, играет в какой-то команде где-то там, на востоке, ведь верно? Ага. Ага. Вот только ресторанчики его отца разорились, и Юг остался без пирожного короля. Вот только потолок спортзала рухнул во время ливней, и какой-то парнишка при этом погиб. Вот только никому не удается понять, отчего же в тот год эссе неизменно писались – лучше некуда, и похмелье ни разу не мучило, и выглядели они превосходно, и с сексом было так просто, а потом все это разом кончилось и больше не повторялось, сколько ты дряни ни втягивай в ноздри, сколько ни мухлюй, сколько ни бейся, сколько ни пей, потому что делаешь все это не от души, сколько народу в доме ни собери в надежде, что хоть на секунду жизнь снова станет такой же, как в те времена, когда мир наш творил Койот. На минуту всем им – и мне самой тоже – почудилось, будто все может быть по-другому, но после все снова стало как прежде, и уже навсегда. С тех пор кукуруза так и остается желтой, а они так и остались кучкой белых ребят со шрамами – следами столкновений в автомобилях, или чьих-нибудь кулаков, или, наконец, тех же родов. А озеро наше давным-давно пересохло, и стадионное табло давным-давно потемнело.
Уходя, Койот всегда оставляет за собой пустоту. Вот и на нашем городишке плясал, пока не стоптал его в прах. В том-то и подвох, и никому его вовремя не раскусить.
Но ведь у всех у них родились дети, не так ли? Не показалось же им! Так что ж с их детьми теперь сталось?
Память – забавная штука: только одна Сара Джейн (недвижимость, Ротари-клуб, Книжный Клуб По Средам) и в силах на самом деле вспомнить своего малыша. Остальные помнят лишь кукурузу да ощущение бега, стремительного бега всей нашей стаи по бескрайнему полю, к красному с золотом (цвета «Дьяволов») заходящему солнцу. По-моему, так оно милосерднее.
– Почему я? – спрашивает Сара Джейн свой бокал с джином.
– Ты же была королевой, – говорю я. – Вот потому и ты. Пусть только на минуту.
«Здорово было, ведь верно?» – хочется сказать каждому, вспомнив, как все мы были заодно. Как все мы были племенем, а Койот учил нас выращивать такие странные штуки.
– Отчего ты осталась? – желают знать все.
Отчего я не отправилась с ним, когда он ушел? Разве мы с ним – не одного поля ягода? Разве не мы с ним вечно плели тайные сговоры?
– Койот побеждает в большой игре, – говорю я.
А мне достается пир после победы, но об этом я не говорю никому.
Наутро после финального матча я проснулась раньше всех остальных. Все отрубились там, где упали, разлеглись на нашем пятачке, будто в него угодила бомба. Ни кукурузы, ни арбузов, ни тыкв – только с озера тянет промозглым туманом. Пробудилась я оттого, что невдалеке, в полумраке, затарахтел движок моего пикапа, а уж этот-то звук мне знаком лучше, чем мамины крики. Подбегаю к машине, а она уже тронулась, медленно катит по тряской грунтовой дороге, а за рулем – никого, а Койот сидит в кузове, окруженный детишками, да знай себе хохочет. Детишкам лет так по восемь, а может, по десять, и все они – вылитый он: кожаные куртки, коварные ухмылки, черные волосы вьются по ветру. Взглянул Койот на меня и помахал рукой: еще, дескать, свидимся. Не в первый, в конце концов, раз.
Так вот, помахал он мне и отдал футбольный мяч одной из своих дочерей. А та – фигурка точеная, безупречная – подняла мяч высоко вверх, пробуя новые силы. Поднять – подняла, но не бросила. Наоборот, прижала к груди, будто собственное сердечко.
Плут[26 - “Trickster” © 2008 Steven Barnes & Tananarive Due. First publication: The Darker Mask, eds. Gary Phillips & Christopher Chambers (Tor).]
Стивен Барнс и Тананарив Дью
Этот американец появился в то время, когда дожди обходили нас стороной, травы пожухли, водопои обмелели, а Земля явила взгляду свои истинный возраст.
Принес его к нам быстрый Паук о пяти лапах, ярко блестящий на солнце. День его появления я нарисовал на стене священной пещеры, куда мы возвращаемся раз в году, чтобы спеть предкам нашим новые песни. Я, как и мой отец, и отец моего отца, навещаю Пещеру Теней куда чаще. Здесь, под высокими сводами, на глазах покойных отцов, я рисую на каменных стенах разноцветной земною глиной, смешанной с жиром антилопы-канна.
Мое имя – Кутб, что означает «Защитник Людей». Теперь я уже стар. В моей голове хранится история моего народа, ее-то я и рисую на стенах пещеры. Рисую естественную, настоящую жизнь: добытых охотниками зверей, и капли дождя, упавшие на мои щеки, и нескончаемый, повторяющийся снова и снова ход жирафа, антилопы и льва туда, к северу, через земли, среди белых людей со времен их Великой Войны называемые Восточно-Африканским разломом, ну, а мы, Люди, называем их Родиной.
Рисовать Пауков нелегко, потому что сотворены они не природой. Их спины круглы, как серебряный черепаший панцирь, но велики, точно хижина, в которой, ничуть не мешая друг другу, могут улечься спать целых шесть человек. На пяти лапах Паук мчит по равнине быстрее гепарда. Пауки служат белым людям вместо ног и тех ящиков на колесах, в которых белые ездили, когда я был еще мал. Редкое это зрелище – белый, идущий пешком…
Но этот чужак был не белым. Черты его лица напоминали мои, однако в ночи его кожи таился неяркий оранжево-красный огонь. Ростом он превосходил меня на целую голову, сложен был, точно бегун, хотя обогнать его могли бы и наши дети. Глаза он скрывал за стеклами, скрепленными проволокой, а тело – под белой рубахой и курткой цвета песка.
Пришелец сказал, что его имя – Каген, а это очень похоже на Кагна – Плута, Богомола из наших преданий, того, кто больше всего на свете любит антилоп-канна. В честь Кагна я и рисую на стенах Пещеры Теней глиной, замешанной на жире его избранниц.
Настоящего языка, речи Людей, пришелец не знал. Зато говорил на суахили – языке тех, кто живет далеко на востоке. Я знаю и эту речь, и язык кикуйю, живущих в огромных стойбищах и в долинах намного ближе к угодьям Людей, так что друг друга мы поняли. Голова Кагена оказалась до краев переполнена землей под названием «Америка», а нас он называл «братьями» – из-за ночи собственной кожи, но для нас-то был просто еще одним белым. Наши дети посмеялись над ним, а он захохотал с ними вместе.
Детям он принес в дар безделушки и сласти, мужчинам – табак и металл на ножи, моей второй жене, Яппе, подарил ткани на платье. Спросил, нет ли у меня сыновей, а я ответил, что когда-то имелись, но все разошлись по огромным стойбищам, и больше я их не видел. А он сказал, что хочет усвоить наши предания и знания о народе растений. Сказал, что голова его пуста, и потому знания ему очень нужны. Пустая голова, это ж надо! Так наши детишки и прозвали его Пустой Головой.
Я засмеялся, и он засмеялся, как будто согласие меж нами достигнуто. Ну что ж, Кагену нужны были знания, а мне хотелось нарисовать его историю, и потому я согласился его поучить. Много дней наблюдал за ним краешком глаза, и, познакомившись с ним получше, повел в Пещеру Теней, взглянуть на рисунки отцов и дедов.
Пещера Теней – в середине большого круга. Этот круг мой народ обходит за несколько лет, переселяясь с места на место, туда, где найдется вода и новая дичь. Однако священная пещера всегда остается от нас в двух-трех днях пути. Зев ее и широк и высок – куда выше человеческого роста, – но, входя, мы в знак почтения опускаемся на четвереньки. В глазах богов все мы – несмышленые дети.
Оказавшись внутри, зажги факел и погляди, как прыгают тени к шипастому потолку. Сердце мое всякий раз улыбается при виде гладких камней, пересохшего русла ручья, а особенно стен, покрытых бессчетными рисунками – кое-какие сделаны в те времена, когда у людей еще имелись хвосты.
– О-о, это ты рисовал Войну, – сказал Каген, указывая на тучи и вспышки над пылающим горизонтом, изображенные моей рукой.
Его слова обнадеживали: быть может, разума он все-таки не лишен.
Я объяснил, что мы не зовем Великую Войну, в которой пятьдесят лет тому назад, когда я был еще мал, так пострадали белые, «войной». Мы называем ее временами безмолвного грома. Грома, который слышишь не ушами, а телом.
– Нет, не безмолвного! – возразил Каген. – Далеко не безмолвного.
И после этого он рассказал, что в наш мир явились существа с другого солнца на странных всесильных машинах, разом сделавших все знания белого человека бесполезными. Эти машины разрушили величайшие стойбища во всем мире – некоторые даже больше, чем Дар-эс-Салам!
– А что же остановило эти создания с их машинами? – спросил я, запечатлевая сказанное Кагеном в голове и рисуя всю эту историю на стене пещеры, как был обучен отцом. – Может быть, белые тоже сумели построить великую машину да пустить ее в драку?
– Никто этого не знает, – пожимая плечами, ответил Каген. – Догадок куча, ответов – ни одного. Кто говорит – болезнь, кто – будто они сами между собой передрались. Выползли мы из-под развалин, а повсюду вокруг – эти огромные железяки. Все до единой мертвые. Мы их взломали, осмотрели машины и многому научились. Эти машины изменили всю жизнь.
– Так значит, это дары богов, – сказал я.
Как часто люди забывают вознести хвалу тем существам, что за нами присматривают!
– Ну что ж, объяснение не хуже любого другого, – откликнулся он.
Еще он рассказал, будто вожди мира, заправляющие народами с помощью так называемых «правительств», пообещали защитить свои народы от небесных людей (если, конечно, они – люди) и от построенных ими машин. Для этого «правительства» добрались до самой луны и выстроили там большое, обнесенное стеной стойбище с множеством пушек. Подобные вещи просто в голову не умещались. Поднимаю я взгляд на луну, но никакого стойбища там не вижу. Может, обман?
– Однако за эту защиту нам пришлось заплатить свободой, – продолжал Каген, окинув взглядом стены пещеры и тяжко, точно старик, вздохнув. – Как же здесь тихо, спокойно… там, у нас, все совсем по-другому.
– В ваших землях не стало вечерних зорь?
На это он рассмеялся, да только совсем невесело.
– Нет, вечерние зори остались прежними. Жизнь теперь… изменилась. Так сказано в исторических книгах… – Он ненадолго умолк. – В тех, которые удается найти. Мой отец был учителем истории.
– О-о, он хранил историю твоего народа?
– Да, – с улыбкой подтвердил Каген. – Только к концу его жизни людям вроде него стало трудно найти работу. Там, откуда я прибыл, многие полагают, что о прошлом лучше забыть.
Помнится, мы говорили «у озера», будто это – город, точный почтовый адрес. Пожалуй, так оно и было: на пятачок у берега, точно вороны, слеталось множество машин. Пикапы, джипы, «камаро», встав носом внутрь, ограждали нас от прочего мира железной стеной. Ивы махали луне зелеными плетьми ветвей, а огонь сиял красным с золотом, цветами «Дьяволов». Мы создавали ночь, ни о чем не задумываясь, никому не говоря, что намечается, ничего заранее не планируя. Съезжались все сами по себе, и никто не опаздывал.
Сведи вместе любую группу учеников старшей школы, и, скорее всего, получишь готовые кирпичи для постройки цивилизации. Бойскауты-«орлы»[23 - Высший скаутский ранг, для получения которого необходимо собрать 21 нашивку за различные заслуги.] соорудили безупречный с точки зрения архитектуры костер. Ребята из местного клуба «4-H»[24 - Крупнейшая организация по развитию молодежи, ориентированная на развитие у подростков навыков получения средств к существованию, особенно при помощи сельского хозяйства. Названа по английский акрониму: head, heart, hands and health (голова, сердце, руки, здоровье).] притащили пожрать: чипсы там, бургеры, хот-доги, «Твиксы», тянучки «Старберст». Ребята из драмкружка позаботились о музыке: воткнутые в разъемы колонок, их «айпады» белели, как зубы, обрамляющие бездонные черные пасти. Ребята из богатых семей принесли выпивку из дюжины ореховых домашних баров – Койот научил их, как отличить то, что получше. Мясо, огонь, музыка, хмель – все, как на заре времен… Сара Джейн начала танцевать у костра с бутылкой столетнего коньяка в руке, покачивая из стороны в сторону бедрами, гордо выпятив огромный живот, длинные кукурузно-желтые волосы хлещут по лицам стоящих рядом, аромат духов отдает большими деньгами и жаром. Джессика с Эшли подбежали к ней, и все втроем закачались, запели, затопали, обнимая друг дружку за талию, сдвинули головы, точно три грации. Сара Джейн наклонила бутылку, принялась поливать груди Эшли папкиным коньяком, ловить золотистую струйку блестящими розовыми губами, а Эшли рассмеялась так звонко, так нежно, что заразила весельем всех – все вокруг заплясали, заскакали, завыли, и Койот, конечно же, в самой гуще: выгибает спину, хлопает по мощным бедрам в ритме танца, бросает футбольный мяч то девчонке, то парню, то девчонке, то парню, будто это особое волшебство, наше и только наше, будто само солнце нашего мира летает дугой из рук в руки.
Поймала я мяч, и Койот поцеловал меня, а я перебросила мяч Хейли Коллинз из класса английского, а Ник Дристол (левый тэкл[25 - В американском футболе – игрок, находящийся с левого края линии атаки, основной помощник квотербека-правши, прикрывающий его со спины.], № 19), сгреб меня в объятья. Даже не знаю, что за песня в это время играла: вся ночь оглушительно гремела в ушах. Я понимала, к чему все клонится, и здорово трусила, но изменить ход дел не могла, да и не хотела. Все разваливалось на части и снова собиралось вместе, и в игре этой мы победили, и Кролик ни в чем не уступит Койоту, и парень мой – как всегда – ни на минуту не смог меня одурачить.
Оглянувшись на смех Сары Джейн, я увидела, как Джессика целует и ее, и Грега Найта – по очереди, точно считая поцелуи, чтоб никого ненароком не обделить. Сара Джейн поднесла к губам все ту же карамельного цвета бутылку, а Ник хотел было что-то сказать, но я цыкнула на него: что-что, а Койотов коньяк этому малышу уж точно во вред не пойдет. Все задние дверцы машин были распахнуты настежь, ни одна из бутылок, сколько ни пей, не пустела, вокруг сделалось необычайно тепло, хоть на дворе и январь, над головами кружили хрусткие красно-желтые листья, никто ни о чем не жалел, никто ничего не стеснялся; все – и шахматный клуб, и клуб физиков, и группа чирлидерш, и бейсбольная команда – сгрудились в кучу, смешались друг с другом на пятачке за стеною машин.
Сара, приплясывая, подошла ближе, глотнула из горлышка, не сводя с меня глаз, грубо схватила меня за шею и поцеловала, проталкивая коньяк изо рта в рот. О, этот вкус – словно пас, поданный так, что мяч долетит до самого моря! А Сара прижала меня к себе, будто бы восполняя незавершенное на балу, будто бы говоря: «Теперь-то я сильней, теперь я храбрей! Разве тебе не кажется, что всему наступает конец, и нужно ловить момент, пока он не ускользнул?» Огромный живот ее прижался к моему – крепко, настойчиво, и я почувствовала, как в утробе, внутри, шевелится ее малыш. Рывком распахнув на мне рубашку, она отступила назад, обнаженные груди ее засияли в отсветах пламени (мои, наверное, тоже), а между нами быстро, уверенно, точно опаздывая на свидание с небом, потянулся вверх из земли кукурузный стебель, а за ним и второй, и третий стебель той самой древней кукурузы, полночной кукурузы, первой кукурузы на свете. Земля вокруг костра затрещала, вспучилась, выталкивая наружу тыквы, и ежевику, и кусты помидоров, достойных ярмарки штата, и огромные, пышные цветы кабачков-цуккини, пшеницу, арбузы, яблони, сгибающиеся под тяжестью плодов… Оголившиеся к зиме, ветви деревьев в один миг покрылись зеленью, все выпускники этого года бросились наземь, в гряды овощей и фруктов, сцепились, покатились кубарем, как волки, как медведи, как дьяволы. Светлячки замерцали в воздухе изумрудными ожерельями, а Сара Джейн схватила Койота за руку, которая была лапой, которая была ладонью, и завизжала в голос, но это уж было неважно. Кричали, вопили, орали все, тьму сотрясала музыка, а малыш Сары бил в барабан ее брюха, требуя выпустить его на волю, в россыпи тыкв, в заросли иссиня-черной кукурузы, требуя встречи с папашей.
Следом за Сарой хором взвизгнули все девчонки. Все – даже те, кто от силы месяце на втором – схватились за животы и застонали. Все, кроме меня, Крольчихи Банни, любительницы подглядывать, королевы здравого смысла. Арбузы полопались, явив взгляду алую мякоть в чашах бледно-зеленой корки, тыквы затрещали так громко, что я невольно зажала уши ладонями (которые были лапами, которые были ладонями), а на свет божий один за другим, точно спелые яблоки с яблони, точно сорок пять душ в погоне за ярким мячом в небесах, ринулись, хлынули новорожденные.
На десятилетие выпуска некоторые из нас, сгрудившись за столом, допоздна засидевшись за водкой с тоником под ретро-музыку, ударились в воспоминания. О том, как мистер Боллард стал сам не свой и, наконец, после почти десяти лет сплошных поражений, повесился в номере третьесортного отеля. О том, как все они дотащились до дому и вдруг обнаружили, что у них имеются родители, причем не на шутку разъяренные, и «хвосты» по ряду предметов, и печень, вспухшая, точно боксерская груша. О том, как никто больше не ездил к озеру, а Бобби Жао уехал в колледж за пределами штата, а теперь… кажется, играет в какой-то команде где-то там, на востоке, ведь верно? Ага. Ага. Вот только ресторанчики его отца разорились, и Юг остался без пирожного короля. Вот только потолок спортзала рухнул во время ливней, и какой-то парнишка при этом погиб. Вот только никому не удается понять, отчего же в тот год эссе неизменно писались – лучше некуда, и похмелье ни разу не мучило, и выглядели они превосходно, и с сексом было так просто, а потом все это разом кончилось и больше не повторялось, сколько ты дряни ни втягивай в ноздри, сколько ни мухлюй, сколько ни бейся, сколько ни пей, потому что делаешь все это не от души, сколько народу в доме ни собери в надежде, что хоть на секунду жизнь снова станет такой же, как в те времена, когда мир наш творил Койот. На минуту всем им – и мне самой тоже – почудилось, будто все может быть по-другому, но после все снова стало как прежде, и уже навсегда. С тех пор кукуруза так и остается желтой, а они так и остались кучкой белых ребят со шрамами – следами столкновений в автомобилях, или чьих-нибудь кулаков, или, наконец, тех же родов. А озеро наше давным-давно пересохло, и стадионное табло давным-давно потемнело.
Уходя, Койот всегда оставляет за собой пустоту. Вот и на нашем городишке плясал, пока не стоптал его в прах. В том-то и подвох, и никому его вовремя не раскусить.
Но ведь у всех у них родились дети, не так ли? Не показалось же им! Так что ж с их детьми теперь сталось?
Память – забавная штука: только одна Сара Джейн (недвижимость, Ротари-клуб, Книжный Клуб По Средам) и в силах на самом деле вспомнить своего малыша. Остальные помнят лишь кукурузу да ощущение бега, стремительного бега всей нашей стаи по бескрайнему полю, к красному с золотом (цвета «Дьяволов») заходящему солнцу. По-моему, так оно милосерднее.
– Почему я? – спрашивает Сара Джейн свой бокал с джином.
– Ты же была королевой, – говорю я. – Вот потому и ты. Пусть только на минуту.
«Здорово было, ведь верно?» – хочется сказать каждому, вспомнив, как все мы были заодно. Как все мы были племенем, а Койот учил нас выращивать такие странные штуки.
– Отчего ты осталась? – желают знать все.
Отчего я не отправилась с ним, когда он ушел? Разве мы с ним – не одного поля ягода? Разве не мы с ним вечно плели тайные сговоры?
– Койот побеждает в большой игре, – говорю я.
А мне достается пир после победы, но об этом я не говорю никому.
Наутро после финального матча я проснулась раньше всех остальных. Все отрубились там, где упали, разлеглись на нашем пятачке, будто в него угодила бомба. Ни кукурузы, ни арбузов, ни тыкв – только с озера тянет промозглым туманом. Пробудилась я оттого, что невдалеке, в полумраке, затарахтел движок моего пикапа, а уж этот-то звук мне знаком лучше, чем мамины крики. Подбегаю к машине, а она уже тронулась, медленно катит по тряской грунтовой дороге, а за рулем – никого, а Койот сидит в кузове, окруженный детишками, да знай себе хохочет. Детишкам лет так по восемь, а может, по десять, и все они – вылитый он: кожаные куртки, коварные ухмылки, черные волосы вьются по ветру. Взглянул Койот на меня и помахал рукой: еще, дескать, свидимся. Не в первый, в конце концов, раз.
Так вот, помахал он мне и отдал футбольный мяч одной из своих дочерей. А та – фигурка точеная, безупречная – подняла мяч высоко вверх, пробуя новые силы. Поднять – подняла, но не бросила. Наоборот, прижала к груди, будто собственное сердечко.
Плут[26 - “Trickster” © 2008 Steven Barnes & Tananarive Due. First publication: The Darker Mask, eds. Gary Phillips & Christopher Chambers (Tor).]
Стивен Барнс и Тананарив Дью
Этот американец появился в то время, когда дожди обходили нас стороной, травы пожухли, водопои обмелели, а Земля явила взгляду свои истинный возраст.
Принес его к нам быстрый Паук о пяти лапах, ярко блестящий на солнце. День его появления я нарисовал на стене священной пещеры, куда мы возвращаемся раз в году, чтобы спеть предкам нашим новые песни. Я, как и мой отец, и отец моего отца, навещаю Пещеру Теней куда чаще. Здесь, под высокими сводами, на глазах покойных отцов, я рисую на каменных стенах разноцветной земною глиной, смешанной с жиром антилопы-канна.
Мое имя – Кутб, что означает «Защитник Людей». Теперь я уже стар. В моей голове хранится история моего народа, ее-то я и рисую на стенах пещеры. Рисую естественную, настоящую жизнь: добытых охотниками зверей, и капли дождя, упавшие на мои щеки, и нескончаемый, повторяющийся снова и снова ход жирафа, антилопы и льва туда, к северу, через земли, среди белых людей со времен их Великой Войны называемые Восточно-Африканским разломом, ну, а мы, Люди, называем их Родиной.
Рисовать Пауков нелегко, потому что сотворены они не природой. Их спины круглы, как серебряный черепаший панцирь, но велики, точно хижина, в которой, ничуть не мешая друг другу, могут улечься спать целых шесть человек. На пяти лапах Паук мчит по равнине быстрее гепарда. Пауки служат белым людям вместо ног и тех ящиков на колесах, в которых белые ездили, когда я был еще мал. Редкое это зрелище – белый, идущий пешком…
Но этот чужак был не белым. Черты его лица напоминали мои, однако в ночи его кожи таился неяркий оранжево-красный огонь. Ростом он превосходил меня на целую голову, сложен был, точно бегун, хотя обогнать его могли бы и наши дети. Глаза он скрывал за стеклами, скрепленными проволокой, а тело – под белой рубахой и курткой цвета песка.
Пришелец сказал, что его имя – Каген, а это очень похоже на Кагна – Плута, Богомола из наших преданий, того, кто больше всего на свете любит антилоп-канна. В честь Кагна я и рисую на стенах Пещеры Теней глиной, замешанной на жире его избранниц.
Настоящего языка, речи Людей, пришелец не знал. Зато говорил на суахили – языке тех, кто живет далеко на востоке. Я знаю и эту речь, и язык кикуйю, живущих в огромных стойбищах и в долинах намного ближе к угодьям Людей, так что друг друга мы поняли. Голова Кагена оказалась до краев переполнена землей под названием «Америка», а нас он называл «братьями» – из-за ночи собственной кожи, но для нас-то был просто еще одним белым. Наши дети посмеялись над ним, а он захохотал с ними вместе.
Детям он принес в дар безделушки и сласти, мужчинам – табак и металл на ножи, моей второй жене, Яппе, подарил ткани на платье. Спросил, нет ли у меня сыновей, а я ответил, что когда-то имелись, но все разошлись по огромным стойбищам, и больше я их не видел. А он сказал, что хочет усвоить наши предания и знания о народе растений. Сказал, что голова его пуста, и потому знания ему очень нужны. Пустая голова, это ж надо! Так наши детишки и прозвали его Пустой Головой.
Я засмеялся, и он засмеялся, как будто согласие меж нами достигнуто. Ну что ж, Кагену нужны были знания, а мне хотелось нарисовать его историю, и потому я согласился его поучить. Много дней наблюдал за ним краешком глаза, и, познакомившись с ним получше, повел в Пещеру Теней, взглянуть на рисунки отцов и дедов.
Пещера Теней – в середине большого круга. Этот круг мой народ обходит за несколько лет, переселяясь с места на место, туда, где найдется вода и новая дичь. Однако священная пещера всегда остается от нас в двух-трех днях пути. Зев ее и широк и высок – куда выше человеческого роста, – но, входя, мы в знак почтения опускаемся на четвереньки. В глазах богов все мы – несмышленые дети.
Оказавшись внутри, зажги факел и погляди, как прыгают тени к шипастому потолку. Сердце мое всякий раз улыбается при виде гладких камней, пересохшего русла ручья, а особенно стен, покрытых бессчетными рисунками – кое-какие сделаны в те времена, когда у людей еще имелись хвосты.
– О-о, это ты рисовал Войну, – сказал Каген, указывая на тучи и вспышки над пылающим горизонтом, изображенные моей рукой.
Его слова обнадеживали: быть может, разума он все-таки не лишен.
Я объяснил, что мы не зовем Великую Войну, в которой пятьдесят лет тому назад, когда я был еще мал, так пострадали белые, «войной». Мы называем ее временами безмолвного грома. Грома, который слышишь не ушами, а телом.
– Нет, не безмолвного! – возразил Каген. – Далеко не безмолвного.
И после этого он рассказал, что в наш мир явились существа с другого солнца на странных всесильных машинах, разом сделавших все знания белого человека бесполезными. Эти машины разрушили величайшие стойбища во всем мире – некоторые даже больше, чем Дар-эс-Салам!
– А что же остановило эти создания с их машинами? – спросил я, запечатлевая сказанное Кагеном в голове и рисуя всю эту историю на стене пещеры, как был обучен отцом. – Может быть, белые тоже сумели построить великую машину да пустить ее в драку?
– Никто этого не знает, – пожимая плечами, ответил Каген. – Догадок куча, ответов – ни одного. Кто говорит – болезнь, кто – будто они сами между собой передрались. Выползли мы из-под развалин, а повсюду вокруг – эти огромные железяки. Все до единой мертвые. Мы их взломали, осмотрели машины и многому научились. Эти машины изменили всю жизнь.
– Так значит, это дары богов, – сказал я.
Как часто люди забывают вознести хвалу тем существам, что за нами присматривают!
– Ну что ж, объяснение не хуже любого другого, – откликнулся он.
Еще он рассказал, будто вожди мира, заправляющие народами с помощью так называемых «правительств», пообещали защитить свои народы от небесных людей (если, конечно, они – люди) и от построенных ими машин. Для этого «правительства» добрались до самой луны и выстроили там большое, обнесенное стеной стойбище с множеством пушек. Подобные вещи просто в голову не умещались. Поднимаю я взгляд на луну, но никакого стойбища там не вижу. Может, обман?
– Однако за эту защиту нам пришлось заплатить свободой, – продолжал Каген, окинув взглядом стены пещеры и тяжко, точно старик, вздохнув. – Как же здесь тихо, спокойно… там, у нас, все совсем по-другому.
– В ваших землях не стало вечерних зорь?
На это он рассмеялся, да только совсем невесело.
– Нет, вечерние зори остались прежними. Жизнь теперь… изменилась. Так сказано в исторических книгах… – Он ненадолго умолк. – В тех, которые удается найти. Мой отец был учителем истории.
– О-о, он хранил историю твоего народа?
– Да, – с улыбкой подтвердил Каген. – Только к концу его жизни людям вроде него стало трудно найти работу. Там, откуда я прибыл, многие полагают, что о прошлом лучше забыть.