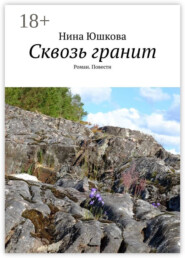По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Женщина наизнанку. Или налево пойдёшь, коня потеряешь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ужас пересилил гордость, и я нажаловалась взрослым. «Мама, ну почему он так со мной, что я ему сделала? Зачем он так? Ты не знаешь, как это противно, я не могу так больше!» – я плакала и рефлекторно стряхивала уже несуществующих муравьёв. Мама утешала меня, сказала, что пойдёт, поговорит с его родителями, чтобы я не боялась, что она разберётся. «Сначала подглядывал, а потом вообще, как фашист!» – «Да не фашист он, глупый мальчишка, ты просто нравишься ему, а как это выразить, он не знает, вот и придумывает всякие глупости. Сам не знает, что творит». Вот это откровение! Да разве, когда кто-то нравится, так себя ведут? Засели слова мамины, как заноза. Я ему нравлюсь? И что с этим делать? Это ведь хорошо, что я нравлюсь? Какое-то волнение породили эти слова, и оно не успокаивается.
Дедушка Ваня с бабой Нюрой не были так благодушны. Баба Нюра развоевалась: «Ах, паразит, ну я ему вицей-то покажу муравьёв! А ты что молчала, что сразу-то не сказала? А Найда на что? Она, если науськать, то спуску не даст! Живо бы ему штаны на заднице поправила, да ещё кое-что! Ты одна не ходи, пойдёшь куда, вместе пойдём. Я ему покажу муравьёв, да подолы задирать, космы-то повыдеру!» Дедушка Ваня спросил тихо: «Белобрысый, глаза такие синющие? Ну, знаю, евонные глаза не спутаешь, они у него как особая примета, как шрам, али родимое пятно у кого, этого не спутаешь, это Игорёха, Гуляевых внук». Он вышел за ворота. Через час он вернулся и объявил: «Ну, поговорил я с имя. Сами с ним сладить не могут. Обещались выпороть, коли прокудить не перестанет. Они вскорости его в лагерь отправляют, на две смены, так что не будет его здеся, не бойся. Будут с ним воспитатели маяться».
До отправки в лагерь Игорёха попробовал произвести ещё одну атаку. Но просчитался. На этот раз я была не одна, мы с Иринкой шли купаться. Сначала он стал бросаться шишками, сильно, метко, больно попал мне несколько раз в спину, а Иринке по ногам. Иринка продолжения не ждала и дёрнула меня за руку: «Бежим!» Мы понеслись, но волку радость – бегущие жертвы, он в три прыжка нас нагнал и схватил меня за подол. Я вынуждена была остановиться, потому что платье затрещало. И тут Иринка начала визжать. Она визжала истово, с упоением (уши заложило), громче, чем пожарная сирена, я не подозревала, что у неё такая лужёная глотка, и она так умеет ей пользоваться! Она так визжала, что зашлись лаем все окрестные собаки, и из близлежащих домов повыскакивали люди и бросились нам на помощь. Игорёха под крик и ругань улепётывал от разъярённых взрослых. Но прежде, чем броситься наутёк, он смотрел мне прямо в глаза, гипнотизируя, пробудив во мне какой-то трепет – провозвестник чего-то грядущего, важного, непонятного, манящего (колоколом в голове мамины слова…)
Ночью умерла бабушка. Вот так – пошла вечером спать, а утром не вышла. Но я не знала сначала, что утром она не встала, что мама, выпроводив меня, заглянула к ней и нашла бабушку мёртвой. Взлетая по лестнице, я перехватила скорбный, сочувствующий взгляд соседки, дверь наша была открыта, в прихожей незнакомые старушки и Света. Света вернулась?! Света мне и сказала, что бабушка умерла, что они решили не бежать за мной в школу, потому что были важные дела, и чтобы я ещё хоть немножко пожила без этого страшного известия. Осознать смерть сразу очень трудно. Бабушка лежит, закрыв глаза, у неё холодные руки, но она совсем как живая, ничуть не изменившаяся. Потом появляется гроб и венки, и уже становится страшно, гроб отвратителен, на нём какие-то рюшечки, мне это кажется кощунственным, бабушка умерла, а на гробу рюшечки, что-то в моём сознании связанное с нарядным платьем, с весельем, а бабушка умерла, все должны плакать и переживать, и не украшать гроб рюшами. А старушки, знакомые и незнакомые, всё появлялись и исчезали, переговаривались вполголоса: «Легко отошла, не мучилась. Праведница, значит». – «Без причастия. Нехорошо…». На кладбище Света была с Андреем, но домой к нам поехала одна. Папа и Света как чужие. В доме много чужих людей, и им нетрудно смотреть мимо друг друга. Мама всё казнилась, недосмотрела, упустила: «Ведь видела же, что едва ходит, задыхается, таблетки уже не помогают, надо было врача, в больницу что ли… Надо было… Надо было…» Любовь Ивановна, закадычная бабушкина подруга, которую привела дочь, потому что одна она уже на улицу не выходит, тяжело дыша, наклоняется к маме, берёт её за руку, гладит, как гладила бабушка, глаза у неё сухие, остановившееся, а голос, как тёплое одеяло, окутывает и согревает: «Не казнись. У каждого свой срок. Я бы так же хотела. Заснуть и не проснуться. Лёгкая смерть. Не дай Бог долго лежать да гнить. Теперь я одна, Катенька – моя любимая, последняя подруга была, а сейчас не с кем молодость вспомнить».
Когда все уходят, мама плачет. Мы начинаем убирать со стола, и вдруг она обмякает, последним усилием сваливает блюда обратно на стол, и опускается на пол. Я единственный раз в жизни видела, как моя мама плачет. Она рыдает отчаянно, горестно, бесконечно, теперь мне уже страшно за маму, мне кажется, что рыдания разрывают ей грудь, как кашель при затяжном бронхите, я вжимаюсь в уголок рядом и тоже подвываю, но моя роль вторая, я не смею плакать громче мамы, я не смею её обнять и утешать, мы должны это пережить и выжить, об этом мои мольбы. Папа выскочил из кухни и ринулся было к маме, но замер, тоже не решился подойти, на цыпочках скрылся в кухню обратно. Пережидать.
Смерть осознаётся, когда поселяется в доме. Когда взлетая по ступенькам, уже готова крикнуть, расплющив звонок: «Бабушка!» но звуки непроизнесённого слова затухают в мозгу за ненадобностью, надо открыть дверь ключом и войти в пустую квартиру, в которой некого позвать до вечера. Войти в бабушкину комнату, постоять, озираясь, дать чувствам обмануть, нет, не обмануть, а воспроизвести запечатлённое движение, звуки, слова, интонацию: шаркают тапочки, «оладушек напекла», рука с гребнем к волосам…
Страшно засыпать, а вдруг не проснёшься утром? Кто знает, близко твой срок или нет? В параллельном классе летом утонул мальчик. Его срок уже пришёл.
Период после ухода из балетной студии (и начался нудный английский) до прихода в школу Александры Ивановны был очень тяжёл. Никто меня больше не баловал, не утешал, не развлекал. Все привыкли, что я учусь хорошо. Светка сбежала, домой носу не казала, звонила, когда папы не было дома. Встречалась с мамой тайком. Изредка мама брала меня. Но папе об этом говорить – ни-ни! Я это прекрасно уже понимала, держала рот на замке. А ему и в голову не приходило, что его приказы могут нарушаться. Особенно ответственно нужно было молчать, когда Светка родила. У меня есть племянница! Я уже тётя! И все вместе мы выбирали имя: Анечка. Мне дали её подержать на руках! Мама сказала: «Не хочет он знать, что дедом стал, и не надо». Ну, не надо, так не надо. Эта тайна меня поддерживала слегка, но всё же я стала скатываться в серую тоску школы, которая обволакивала какой-то ненужностью, бесцветностью, сплошное «мытьё посуды». Уроки, пианино, английский и спать.
Александра Ивановна пришла в школу, и ей сразу дали наш класс. И для меня взошла новая заря. Высокая, статная, подвижная, с огромными карими глазами, чёрными волосами, убранными в пучок, губы полные, улыбка просто солнечная! «Да, хороша, – сказал папа после первого родительского собрания, – хохлушка, наверно». А я иногда забывалась на уроке, разглядывая её. В голову лезли Кустодиевские и Рубенсовские красавицы, была в ней какая-то магия. Её пышные бёдра невесомо покачивались в воздухе, как поплавок на воде. Она поднимала свою сильную, полную руку к доске с такой грацией, как будто собиралась танцевать. Да все её движения и были танцем. Вот наклонилась, показывает, как сажать, вот вся вверх потянулась – в-о-о-от такой вышины вырастет этот куст. Я переставала слышать. Очухивалась, когда весь класс уже смеялся надо мной. «Макарова! Макарова! Что ты с открытым ртом сидишь? Иди лучше расскажи нам о семействе крестоцветных». И я летела рассказывать про самое лучшее на тот момент семейство, я ещё про розоцветные могу! Иди, иди уже, садись, дай другим выступить. С очередной пятёркой в дневнике вприпрыжку на своё место. Как лучились её огромные глаза, как она смеялась своим мелодичным, грудным голосом! Она всё делала легко, весело, споро, как-то прямо-таки мгновенно разбила школьный сад, организовала все классы, все у неё копали, сажали, бегали, как муравьи. Мои одноклассники ныли, что их припахали работать в саду, меня же из него было не выгнать. Я была готова там поселиться, хвостиком бегала за Александрой Ивановной, ей приходилось прямо гнать меня домой. Я никогда не видела, как сажают картошку, капусту, оказалось, преинтереснейший процесс! Музыку и английский делала тяп-ляп, за что получала нагоняи, Людмила Николаевна звонила тут же отцу, она считала, что педагог должен поддерживать тесный контакт с родителями.
А цветы! Моя новая страсть. Мама! Мама! Давай посадим цветы на балконе! Вот же был праздник – рассаду выбирать, мама, давай эти вот купим, смотри, какие красивые! Ах! А эти – смотри, мама! Надо обязательно купить! Эти прямо под окошком посадим! Шустрая ты какая, а денег где я тебе на всё возьму? Давай уж выбирай, либо эти, либо те. Ну, мамочка, ну давай хотя бы по одному кустику купим, ну, пожалуйста! А потом мама стала семена покупать и дома рассаду проращивать. Весь балкон к концу мая был райским садом, невозможно лиловые, белоснежные, полосато-фиолетовые с белым, розовые махровые юбки петуний и анютины глазки, радугой, от почти чёрного через коричневый, фиолетовый, жёлтый к белому. А если отойти подальше, и прищурить глаза, то это уже было точками тканое полотно, из солнечного света, преломляющегося в бесконечную палитру. Удивительное совпадение – как раз в это время я добралась до импрессионистов в папином кабинете. И руки зачесались! Всё, что было до этого, порождало во мне ощущение другой реальности, чего-то настолько сложного, непостижимого, что повторить и думать нельзя было. А импрессионисты породили вдохновенное ощущение того, что я смогу, я причастна, моему глазу и руке открыты их секреты. И я начала малевать свой балкон по очереди подражая Моне, Ван Гогу, Сезанну, Ренуару. Мама прониклась моим «периодом импрессионизма», она сама искала мне какие-то дефицитные краски и кисти. (Папа ворчал, что тратятся неразумные деньги; он только ухмылялся, разглядывая мои картины. А я не расспрашивала его, боясь, что он своим мнением обессмыслит моё желание держать в руке кисть). Мама каждый рисунок (кроме тех, которые я подарила Александре Ивановне), даже неудавшийся, складывала в большие папки. (У неё на работе в них хранили чертежи). Эти папки до сих пор лежат у неё на шкафу. На Ренуаре моё восхождение на Олимп живописи закончилось. Глядя на свой последний «ренуаровский» балкон, я поняла, что этот шедевр мне уже не переплюнуть. К тому же, переезжали на дачу, а там захватили другие дела. Мы с мамой засадили весь палисадник, и во дворе все свободные места. Я было рванулась запечатлеть новый пейзаж, но бросила едва начатый; слишком живо и властно звала река, песок под ногами, лес, вольные, неприрученные травы, подружки, собаки; слишком уж свистел ветер в ушах на верёвочных качелях, слишком страшно вода норовила ворваться в нос и рот, когда ныряешь с вышки, слишком таяла во рту сладкая малина, приправленная колючками и жгучими крапивными ожогами. А дачный набросок лежит с самого верху, если открыть верхнюю папку.
А потом биология началась. Тут уж надо было быть осторожнее. Если на нашу с мамой возню с цветами папа смотрел благосклонно, то собирание жуков, червяков, и прочих козявок мог бы не оценить (я помнила историю с блохами). Эти коллекции я старательно прятала, но когда приносила их в класс, от меня шарахались уже все ребята. «Фу! Как ты эту гадость можешь в руки брать?!»
Но в десятом классе я уже точно знала, что поступаю на филологический. Папа: «Садоводство хорошо для дома, а я хочу гордиться своей дочерью. Ты продолжишь династию». Поднажала Евгения Петровна – теперь английским надо было заниматься четыре раза в неделю.
В какой момент я начала воспринимать филфак как неизбежность? Как соткалась эта домашняя паутина из невесомых, неосязаемых ниточек – филфак, только филфак. И как в эту вроде бы не давящую, не мешающую мне жить паутину влез каракурт одной тихой, неприметной ночью и ужалил меня в мозг, впустил яд, и начался процесс переваривания меня изнутри, паралич воли, растворение желаний, скукоживание сознания – филфак, только филфак.
– Но я не хочу быть учительницей!
– И не будешь. Будешь заниматься наукой. (Какое коварство!)
Однажды я мимоходом слышала, как мама произнесла: «Ей биология нравится». (Они обсуждали меня). На что папа прямо взъярился: «Какая биология?! Вот тут уж она, действительно, дальше школьной учительницы не пойдёт. Или ты хочешь, чтобы она распределилась в какую-нибудь глушь без всяких удобств и всю жизнь там мышек резала, выясняла, какие у них паразиты?» Мама промолчала, а я прямо физически почувствовала, что у неё нет сил говорить.
4.
После ухода Славы отец был обескуражен. Любимый ученик! Как сын! Столько надежд… Гордость! И вот. Он воспринял это как личное предательство. Проект, казавшийся таким удачным, обернулся провалом. Наверняка, он примеривал ситуацию на себя. Если бы у Славки была любовница или даже череда любовниц, это было бы в рамках нормы. Я так полагаю. Не мог же он отказать любимому ученику в том, что позволял себе. Хотя, кто его знает. Всё-таки дочь. Семейные связи – это такая неразбериха. Но тут весь проект «брак дочери с любимым, перспективным, многообещающим учеником», всецело задуманный и разработанный до мельчайших деталей им самим, вдруг, да и оказался мыльным пузырём. Для него даже большей катастрофой, чем для меня. Потому что, когда я отошла от первого стресса, отыстерила и очухалась, в сухом остатке у меня были дети и опыт супружеской жизни. Я была этому рада. А для отца благополучная семья дочери – это было самоценно. К тому же Славка пошёл в гору. То есть, любимый ученик оправдал карьерные ожидания, но бросил меня, как нечто никчёмное при восхождении. Для папочки это было особенно обидно. Не в состоянии он был держать свою досаду при себе, и да-да, было здесь ещё и некоторое чувство вины, и всё это он не преминул превратить в зудящую пилу, вгрызающуюся в мой мозг. «Ну, что ты за женщина! Такого мужа не удержала! Какой пример детям! Ну, кого ты после этого можешь воспитать? Тебя дети спросят: „Где наш папа?“, что ты им ответишь? Эх… ведь всё для тебя, и, между прочим, за тебя сделал. Лучше кандидата в мужья было не найти. Такую квартиру разменяли, чтобы у вас своё жильё было! Не пожалели! Сколько твоих подружек свои квартиры имели сразу? Все, небось, с родителями жили, а ты? Ну, что ты за клуша!» Столько горечи и разочарования было голосе, столько раздражения. (Жаль было нашей старой квартиры с большой проходной комнатой и круглым столом чуть ли не больше, чем развалившейся семьи). Кстати, все эти тирады без конца повторялись при детях, которые, конечно же, после этого не могли не спросить: «Где наш папа».
Славка мне просто позвонил и сказал, что ушёл. Сказал, что подал заявление на развод. Сказал, что забрал уже вещи, а что не забрал, заберёт потом. Еще что-то про суд, алименты, но я уже плохо воспринимала из-за шума в ушах. Я сначала вообще воспринимала его слова как розыгрыш, что ли, а потом гудки в трубке и всё. Я оказалась обыкновенной женой в том смысле, что жёны обычно узнают о любовницах последними. Все вокруг уже знают, а жена нет. Точнее, не о любовнице, а о новой претендентке в жёны. Потому, что Слава был порядочным, он сначала развёлся, а потом уже потащил её в постель, а потом женился. Но чёртова туча народу знала, что он за ней ухаживает. И когда она сказала «да», он тут же развёлся. А я автоматически подошла к шкафу, открыла дверцы, и увидела, что половина полок пусты. И в другом шкафу тоже. Лежат отдельные вещи. Вот – джинсы старые. Ботинки зимние не взял. До зимы успеет. Или новые купит, эти неновые. Дети у мамы. Было время собраться. Беспорядка нет. Он аккуратный. Всё, что не взял, аккуратно лежит на своих местах. Оставшиеся свидетели ухода.
А чего же ты воешь, чего убиваешься, честно сказать, ты ведь знала, что он тебя не любит. Да, шикарный муж, но ведь это не откровение для тебя, знала, что не любит, и принимала как есть. Для вас обоих это был брак по расчёту, ни для кого не тайна. И ты не влюблена была. А что же случилось? Дети? Как детей поднимать? Да нет, и близко нет. Деньги умею зарабатывать (спасибо, папа), да и родители всегда помогут. Что ж, полюбила ты его, что ли, со временем? Вот, прямо, любишь? И жить без него не можешь? Ведь нет же? Что ж тогда? Неужели, боязнь одиночества, самого факта безмужия? Самолюбие оскорблённое? Настолько никудышная женщина? Виновата? Ведь в юности мечтала о любви. И он, наверное, тоже. А я, мы с папой, всего лишь трамплин. Он встретил свою любовь. И правильно сделал, что ушёл. А я? Я? С двумя детьми, и под тридцать уже… Если Славка не смог меня полюбить, живя со мной, значит, и никто не сможет… Он и детей, наверно, моих не любит, хоть и его это дети, потому что не любит меня… Не будет уже у меня в жизни ничего… И снова вылезла из тёмного уголка мыслишка – не надо было замуж выходить, надо было подождать, пока встретишь любимого. А теперь ты с ним разминулась навсегда. Но тут же дикий материнский страх, как обухом по голове, – а дети! Тогда бы не было моих детей. Пусть так. Зато дети есть. А вдруг бы не вышла замуж и старой девой осталась? Нет, уж пусть лучше так. И фоном, ноющей болью, холодной засасывающей трясиной, вдруг выплёскивающейся на поверхность, хлёсткая Славина фраза: «А кончать ты так и не научилась. Зачем только второго рожала».
Я не женщина.
Не хотел второго. А я радовалась. Под одобрение папы. Мальчик! А ему было уже всё равно. Наверно, уже тогда знал, что уйдёт. Нет, правильно, что ушёл. Если я недоженщина, зачем такому мужчине со мной пропадать.
И в постели никакая и в доме. В последнее время Слава был всем недоволен. Он и раньше ворчал частенько, но в последнее время это было уже не ворчание. Это была какая-то клиника. Было плохо всё. Тут пересолено. Тут перцу не положила. На столе крошки. Бельё постельное когда научишься вовремя менять. Следи за детьми, почему они у тебя такие чумазые. Тебе это платье совсем не идёт. Зачем так накрасилась, у тебя вкуса нет, неужели ты не видишь, что это вульгарно? Не надо деньги на ерунду тратить. Почему так поздно приехала? Что за дурацкую программу ты смотришь? Почему у тебя физиономия кислая? Чашки давно с содой мыла, вон чайные разводы? Почему дети кричат, ты их занять не можешь? Похоже, ты безнадёжна, никогда ничему не научишься. Он как будто коллекционировал свои замечания, записывая их во внутренний блокнот. А я ведь даже почти не раздражалась. Привыкла. Я тогда не знала, что придирчивость и недовольство женой – верный знак увлечённости другой женщиной.
Мама.
Спасала меня. После работы ко мне. Вместе готовили, гуляли с детьми. Не причитала, не сочувствовала, отвлекала по мере сил. Я даже обижалась – ни словечка утешения. А она весёлая, жизнь продолжается! Тогда мы столько с ней по детским спектаклям и представлениям пробежались, весь репертуар городской охватили. Чудные дети! Ты молодая. Я помогу. Светка звонила, звала к себе на каникулы, говорит, я даже рада, наконец-то могу не сдерживаться, всё про этого паскуду сказать! Ты же знаешь, я его терпеть не могла. Неожиданно (для меня) оказалось, что у отца опять любовница. Как?! Мама, да как же ты выдерживаешь?
Если бы не мама, я бы покалечила своих детей. Лизу бы точно. Она просыпалась раньше меня, и когда я открывала глаза, уже сидела на стуле напротив. И каждое утро начиналось вопросом: «Мама, а где папа?» Поначалу меня хватало на что-то утешительное, невнятное: папа будет жить в другом месте, это не страшно, он будет в гости приходить (ни разу не пришёл), он всё равно вас любит. Думаю, что звучало фальшиво. А Лизка не шла на разговор, а долбила, как дятел, мне в темя единственную фразу: «Мама, а где папа?» И закончить эту пытку можно было только рыком: «Всё! Хватит!» А потом открываешь глаза – Лизка со своим вопросом. А потом уже не хочется глаза открывать. Напротив сидит Лизка, упрямая, со злыми огоньками в глазах, и обязательно произнесёт: «Мама, а где папа?» Вылезла, пошла от неё, молча, только бы уйти, а она в ночнушку вцепилась, а голос настойчивый, впивающийся: «Мама, а где папа?» И полетела она у меня башкой о батарею, а я ещё сверху припечатала по чему попало. Стою над ней, просто трясусь от злобы, задушить хочется, зубами как будто рву её уже, и кулаки до хруста сжимаются. На самом деле было ещё хуже, чем я тут описываю. Опомнилась. Боже, что я делаю, это моя дочь, маленькая дочка. В ванной закрылась. Трясёт. Это дочь. Дочь моя. Что я творю. Где-то слабо шевельнулась жалость. Просто не трогай её. Не прикасайся к ребёнку. Надо маме её на пару дней отдать. Успокоиться. Таблетки? К психологу сходить?
Севку держала на руках и думала, а может, из-за него Славка ушёл. Он ведь не хотел второго. Ничего не сказал, но это было очевидно. А если бы я не родила Севку, не кричал бы он по ночам, не кормила бы, не была бы замотанная, бардака бы меньше, забот, секс опять же… Может, не ушёл бы Слава? И тень неприязни к сыну вдруг окутывала меня. И тут же дикий страх. Не сглазить бы! И откровенная злоба на Славку, и чёрт с тобой, свалил и свалил. Хорошо, что родила. Теперь у меня сын есть. А без тебя, урода, проживу. Хорошо, что Севка не говорит пока. (Он поздно начал, уже собиралась по врачам пойти). Он вообще, кажется, не заметил исчезновения отца.
Жалость дикая к дочери и вина перед ней начали меня мучить годы спустя. Помнит ли Лизка, как я её избила?
Ноосфера – вещь гипотетическая, каждый волен предполагать её законы, но одно из её проявлений я испытала на собственной шкуре. Информацию она разносит мгновенно. По крайней мере, в пределах одного вуза. На работу, как на позорище. Что толку, что молчала, как рыба, меня преследовали любопытствующие лица, намёки, попытки вытянуть пикантные детали, комментарии за спиной. Молчание тоже ответ. Ответ, порождающий волны слухов и сплетен, интерпретаций, одна пакостнее другой. Боже, хорошо хоть на разных кафедрах. Кафедры на разных этажах. Это маленькое, но хоть чуть спасительное благо. Тонущее, впрочем, в ужасе существования в одном вузе. Славка ходит по этим же коридорам с ней, обнимая её за плечи. А я шмыгаю, как мышь, как изгой, из двери в дверь, стараясь не наткнуться на них. Знаю, что вид у меня пришибленный, глаза красные. И назойливые, испытывающие на прочность, взгляды коллег, подстерегающие на каждом углу. У некоторых даже не умасленные фальшивой тактичностью («Я в чужую жизнь не вмешиваюсь»). Кажется, и студенты уже сплетничают. Где мне взять прочности, чтобы всё это выдержать. Выдержать.
Папе тоже досталось. Ирония в том, что он упрекал в этом меня: «Хожу по вузу, как оплёванный. Каждая лаборантка считает своим долгом сплетничать: „А Лапин-то дочку Макарова бросил!“ Тьфу! Почему моя репутация должна страдать из-за твоей личной жизни?! И этот гусь, хорош! Подлец! Я столько для него сделал! Кто бы он был без меня?! И какая неблагодарность!» (Ну, хорошо хоть не мне одной досталось).
– Что это, у вас, девушка, личико печальное. Наверно, давно шоколада не ели. – И раз – мне шоколадку в карман. Я была так погружена в себя, что наткнулась, как на стену с разбегу, на реальный объект внешнего мира, выдернувший меня из моих страхов, обиды, ущемлённого самолюбия, безнадёжности, замкнутости, готовности к агрессивной защите.
Мужчина, большой, стоит передо мной, добродушно улыбается, где-то я его видела раньше. Голову опустила, обошла его и бежать. Не нужны мне никакие шоколадки, что ему надо, пришёл просить за кого-то из двоечников (?), молча убежать было проще, чем пытаться всучить ему эту чёртову шоколадку обратно.
В следующий раз мой взгляд сам сфокусировался на нём, когда я, пытаясь обратиться в тень на стене, кралась в аудиторию. Широкая, дружеская улыбка как будто меня даже распрямила и придала сил. Выхожу после пары из аудитории, а он поджидает. Пока пялилась на него, он ловко просунул мне между тетрадками и локтем пучок осенних бархатцев и георгинов, подмигнул: «Не вешать нос!» Его богатырская спина удалялась по коридору. Он несколько раз обернулся, плутовато ухмыляясь, как подросток. Стою, смотрю на этот букетик, куда я с ним? На кафедру? Ближайшую клумбу оборвал, наверно. А пусть. И букетик этот меня выпрямил, и иду, не боясь цокота собственных туфель. Смотрю на красно—жёлто-оранжевое, и разжимается когтистая лапа, стиснувшая мне всё нутро, (играют на солнце наши с мамой клумбы), есть куда взгляд спрятать. Спокойно зашла, взяла стаканчик, сходила за водой и на стол себе букетик поставила. «Ой, что за цветочки? У вас праздник? Кто это, студенты?» «Да так, – говорю, – просто подарили!» Пусть попереглядываются. Я смотрю на цветы.
Быстро же меня можно приручить, улыбка, дружеское слово, мимолётный знак внимания, а мне уже легче дышать. И каменные глыбы на плечах легчают, легчают.
Мудрость от мамы: «Сейчас мужики, как стервятники, слетятся на падаль. Как только женщина без мужа, тут же чуют, что могут поживиться. Будь осторожна». У мамы богатый опыт. Хотя и при муже, но все (прежде всего, его коллеги), знали, что он дома почти не живёт. Слетались. Насколько я понимаю, им не перепало. А мне повезло. Валера стервятником не был. Если уж продолжать животные аналогии, он был овчаркой, не дал бедной овечке сослепу и от глупости в пропасть свалиться, и ни одного падальщика близко не подпустил.
Он просто меня ошеломил. И не только меня. Никогда бы я в самых буйных фантазиях не представила, что моя личная жизнь будет такой жирной пищей, таким лакомым кусищем для пересудов. Как не подавились только. Для затравки был им любовный треугольник (это ещё когда ни я, ни папа не догадывались), потом развод (все персонажи здесь, можно разделывать, посолить, поперчить, уксусом сбрызнуть и смаковать), а потом – на сцене появляется четвёртый персонаж! И какой! Герой в духе мыльных опер! Решительный и неповторимый, и на тот момент не менее блестящий, чем Славка. Тоже доцент, кандидат наук. С географического, правда. Хэппи энд! Свадьба! Особое спасибо мексиканским сериалам, подарившим нашим людям столько возможностей для сравнения! Как Лауренсия! Как Игнасио! То разбитое корыто, которым я была после развода, взывало к милосердию, такту, приличествующей умеренности в проявлении сочувствия и любопытства, к сдержанности злорадства. Моё же теперешнее положение позволяло утопить меня в изумлении, выражении радости, пожеланиях счастья и всевозможных благ, и приличествующей умеренности в проявлении зависти. Ибо как это так? Уныло оплакивающая свою судьбу брошенка с красным носом и двумя детьми перешла дорогу целому полку незамужних, отретушированных красавиц в полной боевой готовности, и увела такого выгодного жениха! Немного омрачало общественный настрой то, что настоящего торжества не было; фата, лимузины, сотня гостей, ресторан – всё это осталось в разбитых фантазиях тех, кто (почему-то?) возмечтал быть приглашённым на сие действо. Организовалась стихийная, (в роли стихии в данном случае выступал Валера), простава на моей кафедре, для тех, кому случилось оказаться там в этот момент, потом на его, а потом скромные посиделки с моими. (Мёд и масло на моё мелкое тщеславие – вытянувшаяся Славкина физиономия; он так вывернул шею, провожая нашу развесёлую, слегка нетрезвую компанию, что врезался в толпу вечерников).
Папа очень радовался. И гордился. Прямо вижу, как он самодовольным тоном на кафедральном сборище (в присутствии Славки, конечно) якобы небрежно бросает, что уж его-то дочь «в девках» не засидится, и принимает поздравления. Дома на его лице читалось облегчение: нашёлся герой, взял с двумя детьми. Как-то подспудно, окольными фразами, случайно вырвавшимися словечками, подобострастным (немыслимо для папы!) отношением к Валере, внушалась мысль, что меня «так уж и быть» подобрали с детьми, и я должна быть навек благодарна. А я и была благодарна. За искреннюю доброту, наивное восхищение (оказывается, мной можно восхищаться?), за ту самую «каменную стену» и «крепкое плечо», которые просто рвались защищать меня от зол этого мира, за то, что меня, наконец, любили. И, наверное, самое главное, – дети. Препятствие, в моих глазах разросшееся до неба – не перепрыгнешь, не обойдёшь, с места не сдвинешь. Если они будут несчастны, если они его не примут, если он хоть намёком, хоть взглядом, хоть жестом выкажет, что они мешают, лишние, я не смогу. Всё кончится, не начавшись. Мои дети никогда не будут чувствовать себя второстепенными. Благодарность, набухшая чуть не удушившим меня комом в горле, прорвавшаяся истерическими рыданиями, глушимыми стиснутыми зубами, закушенными губами, полотенцем и включённой на полную мощность водой в ванной, в первый раз, когда Валера появился у нас в доме. Я начала уже привыкать к его сюрпризам, но Лизка была потрясена фокусом с вытягиванием из-за пазухи, из всех карманов, из брючины (!) бесконечных, разноцветных лент, которые были ей потом подарены. А Севку он так по-свойски подбросил на руках, как будто делал это каждый день, приходя с работы. Огромный арбуз довершил знакомство.
– Мама, а чего ты в ванне делала? Ты плакала?
– Да, забыла, что глазки накрасила и умылась. Тушь в глаза попала, знаешь, как она щиплется?
– Ну-ка, дайте маме арбуза большой кусок, чтобы быстренько забыла, как тушь щиплется!
Валера всё делал как-то походя, легко, спокойно. Поначалу я старалась максимально оградить его от своих детей, но это, наверно, было не нужно. Он веселился, играя с Севкой в футбол, кричал и вопил, как пацан. Они, минуя меня, бежали к нему с задачками по математике, и он совершенно философски относился к тому, что они не понимают и в третий и в четвертый раз. Не поняли в четвёртый, поймут в пятый. Обычно так и происходило.
– Дядя Валера, велосипед! Дядя Валера, машинка сломалась!
– Так, опять авария? Тащи инструмент.
А как легко и естественно Валера отклонял папины приглашения! Я просто внутренне повизгивала от восторга.
– Ну, вы, конечно, у нас на двенадцатое?
– Нет, спасибо, мы едем в Бараново, шашлычки пожарим, покупаемся, у нас уже и компания подобралась, чего дома сидеть в такую погоду?
Папина холодно-недовольная мина оставалась без внимания, Валера широко, искренне улыбался на тридцать два зуба, не замечая недовольства тестя, крепко обнимал меня за плечи и уводил: «Пойдём, мать, домой». Я хихикала про себя, зная, как папа кипит в душе, как это ему посмели возразить, да не принять его приглашения (что равнялась приказу и одновременно великой чести)! Но Валера был так непробиваем, так уверен, так по-хозяйски прав («Да прилепится жена к мужу своему»), что обезоруживал, к тому же папа не хотел портить отношение с новым зятем прямым конфликтом, Валерина бульдожья челюсть ясно говорила, что не будет он плясать под чужую дудку.
И всё-таки будни привыкания скоро показали свои достаточно неприятные коготки. Как же неожиданен оказывается для нас другой человек в повседневной жизни. Валера просто выбивал меня из нормального ритма своими постоянными комментариями процесса покупки, приготовления и поглощения пищи. Только поднесёшь ложку ко рту: «Кушай, кушай, правильно, покушай супчика, супчик-это полезно. Без супа нельзя, желудок без супа не может», – у меня этот суп чуть с ложки в обратную сторону не летит, как из брандспойта.
«О! Я смотрю, ты уже и пирожком не побрезговала, молодец!» Ну, вот как тут куску в горле не застрять? Каждое свободное утро начиналось словами: «А что мы будем кушать?»
«Надо холодильник новый купить, двухкамерный, побольше. Как ты живёшь с таким холодильником?» (Если б у меня был большой, двухкамерный, снедью заполненный, не ушёл бы от меня Славка?)