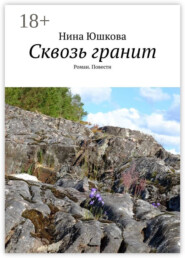По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Женщина наизнанку. Или налево пойдёшь, коня потеряешь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Внезапно я оказалась жрицей, оправляющий культ всесильного божества, не менее двух раз в неделю осуществляющей тягучее, неспешное священнодействие, канонизированный обряд, требовавший полного самоотречения, обожания, преклонения, постижения неисчерпаемого кладезя знаний, причащения тайн, ритуальных жестов, отточенных до совершенства; отныне и до скончания веков предназначено мне было исповедовать религию приготовления пищи насущной. Многочасовые кухонные мессы, во время которых горы жертвенных овощей и животных превращались в многочисленные яства, набивающие алтарь, ой, простите, холодильник. Под проповеди гуру, возносящему велеречивые хвалы холодцу и пирогам, борщу и солянке, и прочим приношениям, угодным богу пищеварения. И скипетр и кадило, ой, простите, черпак и тёрка превращались из предметов культа в орудия пытки.
(Может быть, единственное, что роднило нас со Славкой – это почти равнодушное отношение к еде).
Боже! Эти его поездки к родителям, удавиться можно. Поначалу ездила безропотно, внутренне скрипя зубами, как же – родня мужа! Задыхалась. Психовала. Но вежливость – наше всё. Спасибо-пожалуйста-конечно. (Дома дети-неслухи на матери, которая с ними уже не справляется. Обещали ведь на сутки, а пришлось пробыть три дня, пока Валерка с родичами не протрезвеет). Они были разочарованы мной. Взял бабу с детьми! Алименты-то получает? Сколько? Тебе-то родит хоть? Батя, какие дети? На хрен мне эти вопли-сопли-пелёнки? Хоть выспаться можно. Слава богу, что не просит. Тоже, видимо, наигралась. Нарочно с детьми искал, считай, повезло. Эти уже большие, понимают всё. Договориться можно.
– Нееет, ты послушай! С клюковкой, с брусничкой, это самый смак! Сахарку я кладу – полкило на бочку. Так у тебя кисло и выходит! Сам ты «кисло». Конфеты трескай, если сладко хочешь. Неет, на бочку надо почти кило. Да ты когда квасил-то последний раз, городской? Ишшо учить будет! Посмотрите на него, он меня учить будет! Я писят лет уже квашу, а ты как уехал, поди, и ни грамма не заквасил! Учить он меня будет, гляньте на него! Яйца курицу не учат!. И рублю я …Да ты рубишь в пыль, как сопли потом, вот у дяди Игната! Да Игнат не квасит нынче, обленился. Да не обленился, а некогда ему, пьёт твой Игнат! А я писят лет уже квашу. Рубить мелко надо. Да и не мелко я рублю, а в самый раз. Ты, небось в город поедешь, так банку возьмёшь, да стрескаешь там за милу душу. Твоя-то не квасит, как я понимаю. Приготовь ему, мать. А как под водку идет, эээ! Хрустко с холодка. А если еще и сальца. Сало посолить. А я солю с перчиком да с чесночком. В мокрой тряпочке. Да ну, батя, в солёной воде лучше. Сочное. Да сочное! Сопливое! Да потом подморозить, да… Да я сало каждый год… Посмотрите на него, солит он! А кто кажный год кило по десять везёт, не ты? Солит он. А нынче клюквы, брусники, грибов много взяли. Твоя-то ходит по грибы, али покупаете? Да у города, какие грибы! Вот у нас в борах! Есть грибы, мы и сушим и солим. Да сколько ты насолишь? Банку? А у меня этим годом, пятнадцать банок одних маринованных, да столько же солёных, да ить, мать? По пятнадцать мы делали? Закусить у нас всегда своё. А мне не нравится, как Игнат делает. Он взял моду – тмин туды сувать. А мне ваш тмин – тьфу! Всё равно лучче смородина листа ничего вкусу не дает. Да перец ишшо, чесночку, конечно, укроп, там, лаврушка, завсегда, а тмин ваш – говно. Вот Ленка наша – да, у её и огурчики и грибки, ну просто самый смак! Хрусткие! Банку откроет, глядь, уж пусто, сами в рот прыгают. Так, материна выучка. Да, Ленка у нас хозяйка! А с похмелья я всегда к Ленке хожу рассол пить. Лучче моего получатся. Ну, давайте, ишшо, что ли, по одной, ваше здоровье! Закуси студнем-то, с хренком. Хрен я сам тёр, ядрёный, до печёнок пробирает! Не то, что ваш, магазинный. Я однажды чисто для интереса взял в магазине. Малюсеньку баночку. Ну, попробовал, ни вкусу, ни запаху, один уксус. Выбросить только годится. О! Чуешь! От-так! Пробрало! Во! Вот это хрен! Батя твой делал! Сразу ни с кем не спутаешь. Я у нас лучче всех хрен делаю. Секрет знаю. Тебе бы рассказал, да тебе не надо. Даже Ленке не говорю. Не женское это дело, хрен тереть. Мать-то ругается, хрен, говорит, твой, скоро весь огород затянет. Ко мне все ходят за хреном. Стучат, иной раз. Говорю: «За коим хреном пришёл?» – А они: «Так за твоим». За хреном, то есть, с хером не путай.
Шутки Валеркиного бати имеют шумный успех. Многочисленное и многочасовое застолье вертится вокруг еды, как земля вокруг своей оси. Изредка сползает на радикулит деда Васи и ревматизм Ольги Семёновны, на то, как Серёга-призывник всю сирень для Наташки оборвал, а Женька «Ниву» с рук взял без пробега почти, а потом неуклонно – на хорошо наезженную колею: капуста-сало-огурцы, да щука в этом годе хорошо брала, пожарить, так пальчики оближешь.
Люди как люди. Хорошие. Но почему так выть-то хочется. Уже к концу второго часа. И ведь никто не напивается так, чтобы мордой в салат или там, драку затеять, а в ровной пьяной мути методично сутки за сутками, кто-то поспит, кто-то проснётся, а градус поддерживается постоянный.
А творожок я последний взял, по скидке. Хорошо, что в магазин с утра пошёл. В магазин с утра надо ходить, а не к обеду, к обеду там всё повынесут. И сыру взял, тоже по скидке. Смотри, мы с тобой такой уже брали. Вкусный.
Люди, как озверели, метут с прилавков всё, что не прибито. Но у меня нюх! Смотрю, колбаса наша любимая, и со скидочкой, пока там тётка жирная со своей тележкой к прилавку притырилась, я уже последних два батона и взял. А не щёлкай клювом!
Всё-таки твой метод приготовления супа в корне отличается от моего. У моего, ну, там, много компонентов. А у тебя, ну, там, чистая нота. Наверно, дело в бульоне. Бульон должен быть главным.
Горох надо промыть сначала, потом замочить. У меня мать на ночь замачивает. Потом ещё раз промыть и варить. Рёбрышек копчёных надо купить. У нас-то дома отец сам коптит. Раньше свинью каждый год резали. Сейчас тяжело кормить стало, одну на два дома держат, у матери с отцом в закутке живёт, а Ленка с Пашкой кормить помогают. Тушу, значит, пополам. Ну, и мне перепадает. Ну, я тоже не с пустыми руками еду. Пашка коптильню сварил, отец коптит – пальчики оближешь. Вот. Рёбрышки разварятся, кость такой вкус даёт, такой аромат! Ну, покупные не так, конечно, но всё-таки. Лучок с морковью на сковородочке попассировать. Так, до золотистого цвету. Я побольше люблю, побольше – оно вкуснее. А ещё хорошо томатной пасты добавить и пережарить. Ох, прямо слюнки потекли. Сколько варить – это от гороха зависит. Я разваренный люблю, так часа полтора. А если горох старый, так и дольше. Картоху потом, её минут двадцать варить. Перцу потом, укропу. Ну, я траву не очень. Вот Ленка, сестра моя, вот она вечно травы насыплет, насыплет, весь вкус перебьёт. Я так не люблю. Одно сено ешь, как будто. Суп выхлебаешь, косточку достанешь, а на ней мясцо, мягкое, разваренное, да жирок… Прямо тает на языке! Ух, до чего я гороховый суп уважаю.
Чавк-чмок-чавк-чмок-чавк-чавк. Ведь может же есть нормально. Но только в гостях.
Скидки в «Ленте». Колбасу взял по сто тридцать. Вот по сто тридцать она меня устраивает, а по двести пятьдесят сами ешьте.
Обнаружила записку: «Это чай. Он выдыхается». Пачка аккуратно прищеплена на две прищепки, и под прищепками эта записка. Это он меня аккуратности учит. Намёк на то, что я всё не плотно закрываю, не на место кладу, порядок не соблюдаю. Пришпилила ему со злости записку на ботинки: «Это ботинки. Их надевают на улицу». На туалетную бумагу тоже: «Это туалетная бумага. Ей подтирают зад, когда погадят». Ржал.
Яблок взял десять кило. По уму, надо бы от бати везти, не покупать, но, ёпа мать, так не хочется горбатиться, переть на себе. Сколько ты на себе увезёшь? Пятнадцать кило? Да ещё деньги на автобус. То на то и выйдет почти.
Ну, с удовлетворением я супчика откушал, с удовлетворением.
Поняла я, наконец, что такое «кончать». Может, мы физиологически друг другу больше подходим? А может, просто передалась мне его страсть, завёл он меня, зажёг. Но боже, какой грубый! Слон в посудной лавке. Танк, асфальтовый каток, раскатывающий меня в тряпочку каждый раз. Одним рывком, с треском, располовинил мою лучшую ночнушку (вырядилась в кружева), и клочья в угол полетели: «Чтобы я этого больше никогда не видел. Я хочу видеть твоё тело, а не тряпки». Руки жадные, не соразмеряющие силу. И ласкает вроде, и нежности всякие на ухо, люблю, люблю, люблю, но как же неловок. Щипки, засосы до синяков, объятия чуть не до переломов. Кричу ведь от боли! Ой, прости-прости, я нечаянно! А потом опять, забудется, давит, душит чуть не насмерть. Пока друг к другу приспособились, чуть не искалечил, чуть не задушил. Ненасытный. А я-то. Прямо воспряла. Меня любят! Крылышки за спиной – бяк-бяк. Ах, какая я, любимая! Желанная! Я – настоящая женщина. Подумаешь, со Славкой не получилось, значит, просто не подходим друг другу, да и он ведь не любил меня, ещё бы что-то вышло. Со Славкой хорошо мне не было. Первый раз – нервно, немножечко страшно. Сильно больно тоже. Терпимо. Зубы лечить при социализме – вот где кошмар. А потеря девственности – это вполне терпимо. Но и плохо, противно, мне тоже не было. Было никак, точнее слегка больновато и очень любопытно. Но была радость от того, что я всё делаю правильно. Я, как нормальная женщина, вышла замуж, у меня есть муж, есть половая жизнь, будут дети. Всё, как надо. А потом очень быстро всё стало как-то буднично. Я не знала, что надо делать, целиком полагалась на Славу, вот он и рулил процессом, как понимаю, для него это был вопрос чисто физиологический, никакой нежности он ко мне не испытывал, и уж, конечно, головы не терял. Но и Валера чуть не в каждую бочку мёда огромный черпак дёгтя вываливает. Я ещё не отошла, в полузабытьи, настроенная на нежность и ласку, а он уже: «А яблоки вчера взял по пятьдесят два. Слышь? Нигде таких цен нет. Какой супчик-то будем готовить?»
А что мы будем «кюшать»?
И вот это «кюшать» звучит рефреном каждый день. Как из этого вырваться? Неужели это на всю жизнь? Надо быть благодарной. Так я и благодарна. И люблю его. И дети счастливые. Надо терпеть. У каждого свои недостатки. Я, что ли, идеальная?
– Ну-ка, ну-ка, расскажи! И вот он закончил наш геофак, а потом, как он в этой передаче оказался?
– Да он хлюст такой, без мыла в любую щель пролезет. Он ещё со студенческих наших практик кучу фоток привозил. Тогда ещё плёночные фотоаппараты были. Ну, он руку набил, хорошие фотки были, да, помню. Распределили его куда-то в тмутаракань, так он с детьми, со школьниками своими, тоже начал всюду ездить, везде их таскал. Отработал три года и в Москву, сначала в журнал какой-то взяли фотографом, ну, и статейки писать, тогда много всяких новых журналов появилось, потом уже и на телевидение. Вот так. У нас вообще на курсе куча чудиков была. Одна барышня на рекламе очень даже поднялась. Курорты всякие рекламирует, мотается по всему миру. Один даже не отработал, как только Перестройка началась, границы открыли, бардак опять же, сбежал за границу, простым рабочим в какую-то экспедицию, то ли к немцам, то ли к американцам, куда-то в Африку, берберов они изучали, по пустыне с ними мотался. Вот где жуть! Ну, теперь оттуда не вылазит, гранты какие-то получает, так и бродит по пустыням, Израиль, Сирия, Палестина, только уже теперь вроде как руководитель.
– А ты, а тебе не хотелось вот так, путешествовать везде, тоже в экспедиции куда-нибудь, интересные места…
– Упаси господь! Нас и здесь неплохо кормят. Я едва дождался окончания школы, чтобы в город рвануть. Последние два года зубрил, как ненормальный. Знал, что у меня один шанс. Мне поступить надо было, ну просто, хоть сдохни, а поступи. На географию всегда низкий конкурс, так что я географию зубрил, слава богу, в яблочко. Поступил. На геологию тоже низкий конкурс, там без вариантов – броди по тайге, даже в школу не пристроишься. Ну, я поступил, огляделся, быстро выводы сделал: надо на кафедру какую-нибудь, любой ценой, чтобы по распределению не угнали. И тут подфартило. Подфартило, да… Так что я доволен. Из города меня теперь не выманишь. К отцу с матерью езжу картошку копать, и на этом всё. Я лучше природу эту вашу по телевизору посмотрю.
Студенческая практика – вот от чего у Валеры лицо кривилось, как будто лимон съел и ещё кило предстоит съесть. И он, с присущей себе ловкостью, отвертелся от житья в палатках где-то в лесном лагере, и нашёл неподалёку турбазу. Не отель, конечно, но, по сравнению с палаткой, комфорт. Душ, телевизор, кухня с газом, электричество, диван и окна с москитной сеткой.
– А кто у нас сейчас будет прыгать до потолка? Кто там пищал о романтике, природе и прочей лабуде? Собирайся, поедешь со мной.
– С тобой?! На практику? (Я уже выдала всю нагрузку за семестр. Дети с мамой на даче. Мама поймёт!)
– Иди-ка, загляни вон в ту коробочку.
Глазам не верю. Видеокамера. Я только заикнулась: «Хорошо бы…». Это не было просьбой, даже намёком, так, фантазии вслух. И вот она – держу в руках. Валера щедрый. Только подумаешь вслух (нет-нет, не просишь!), только помечтаешь, а он уже тащит на следующий день, вот, ты хотела. А я только и могла, что удивлённо хлопать глазами. Меня так баловали только маленькую. «Ну, целуй!» – и тыкает пальцем себе в щёку.
Каждое утро кафедральная машина возила его в лагерь к студентам; он там шастал с ними по лесам и полям, а вечером возвращался.
Студенты меня раздражали. Университетские стены их хоть как-то цивилизовали, а в лесу они существовали как молодые животные, не контролирующие свою бьющую через край силу, пробующие друг друга на зуб, исподволь выясняя возможности и пределы доминирования. Валера не обращал никакого внимания на их шуточки, сленг, шумные, грубые игры с пиханиями, подначками, беготнёй, ором, он шёл впереди, что-то показывал, что-то рассказывал тем, кто кучковался вокруг него. А меня они утомляли. К тому же продвигались они довольно быстро, нельзя было зависнуть с видеокамерой над каким-нибудь насекомым или преследовать птичку, которая не хотела перелетать с ветки на ветку строго по маршруту.
К вечеру второго дня физиономия у меня, видимо, была кислая. «Устала? Эх, ты романтик, любитель природы! Ну ладно, оставайся на турбазе, гуляй вокруг, только далеко не уходи».
В какие только дебри ни залезешь, как только ни скрючишься, чтобы птичку выследить. Энцефалитка вся репеллентами обрызгана, а всё равно комары подлые так и зудят, так и действуют на нервы. Среди комаров есть токсикоманы, сколько ни брызгай на себя, вылезешь из чащи – всё равно руки покусаны и на лице то тут, то там красные зудящие пятнышки. Постепенно я осмелела и стала забираться всё дальше и дальше, стараясь запомнить ориентиры: вот вывороченное дерево, высокий пень, муравейник, дикая яблоня. Откуда она здесь одна-одинёшенька, без товарок? Птичка, небось, семечко уронила. Страшновато, ой, страшновато, а выйду ли? Не подведут ли меня мои ориентиры? Но я на самом деле иду медленно, озираюсь, это мне кажется, что далеко ушла, а на самом деле, наверно, недалеко. А если покричать, услышат? Ну, вот сегодня ещё до той ёлки огромной дойду. Она такая огромная, что её не перепутаешь, а там оглянусь, видно ли от ёлки яблоню? Видно. Значит, не заблужусь. От яблони я точно увижу муравейник. Он такой большой, и солнцем хорошо освещается. На полянке стоит. Так, с этой стороны у нас яблоня, я её хорошо вижу, а с другой – что это там за прогалинка, и земля под ногами явно вниз уходит. Эх, была не была, дойду до той прогалинки, снизу-то явно будет видно эту ель на холме. Вышла к речушке, даже не речушка, а ручей, но ура! – маленькая полоска песчаного берега. К полудню поднялся такой зной, что вся взмокла, одежда прилипает, кажется, сейчас удушит, чёртовы клещи с комарами, налегке не погуляешь! Кроссовки и куртку долой! Штаны закатать и побродить хотя бы по колено. А чего это я? Нет ведь никого. Скинула штаны и рубашку, и… был секундный порыв трусы и лифчик – тоже, но что-то тут же задавило его, какое-то «а вдруг», а, скорее всего, привычка к стеснению, ведь голым можно быть только в ванной или в бане. Плюх на живот! Красота! Барахтаюсь в ручье, как лягушка, солнечные блики в глаза, птички затаились, наблюдают, кто это столько шуму производит? А комары предвкушают – сейчас она с себя всю дрянь смоет, вот пожрём! А мне визжать хочется, щенячий восторг распирает, какое счастье – эта речушка! Как бы мне до неё дорогу запомнить. А чего не запомнить, если по ориентирам идти. Если каждый день сюда добираться, это же сколько дней счастья впереди! До того досидела, что замёрзла. Вылезла и чтобы согреться, батман, плие, батман. Надо же, тело помнит. Антраша. А сил-то не хватает. И амплитуда уже не та. Сколько я не занималась? Надо снова начать. Попрошу Валеру станок сделать, может, дети тоже увлекутся. Осанку хотя бы поправить. Осмотрела одежду – клещей не нашла. Слава богу, что искупалась, теперь хватит сил во всей этой амуниции до базы дотопать. Натянула прямо на мокрые трусы и лифчик. Идти не жарко будет, потом высушу.
Вдруг голос: «Я смотрю, вы в неплохой форме. Балет? Давно бросили? Растяжка хорошая, а мышцы оставляют желать. Приходите в спортзал, подкачаю». Обмерла.
Кто? Обернулась, таращусь в лес, сердце колотится, сейчас из горла выпрыгнет. Я одна. Никто не поможет. Я тут почти голая в ручье полоскалась, а он наблюдал?! Маньяк? Лес стоит такой же солнечный, приветливый, как и секунду назад, но сейчас его дружелюбие обманчиво, он скрывает опасность, может, смертельную. Глаза мои бегают от дерева к дереву, где, где он, с какой стороны подкрался?
Он материализовался из зелени, как дух, отделившийся от плоти. Тонкий. Голова почти наголо. Уголовник? Лицо в тени листвы. Он что-то про спортзал говорил? Неуловимое движение, и – свет на лицо упал. Смуглый, черты резкие, как высеченные из камня, или нет, из темного дерева. Неподвижные, выражение не поймёшь. «Не надо меня бояться. Приходите в спортзал. Вы ведь на турбазе живёте? Я вас заметил». – «Я не приду». – «Почему?» – «Мне и в лесу хорошо». Чёртик в глазах проскочил. Смеётся что ли? «До встречи на базе». И быстро исчез.
Двинуться не могу. Мышцы как окаменели. Как же меня сюда занесло! Как могла забыть, что опасно одной по лесам бродить! Идиотка. Совсем чувство реальности потеряла. А ведь он наблюдает, никуда он не ушёл, просто я его не вижу. Интересно, а давно он за мной подсматривает? Я тут в лифчике прыгаю. Да и не только. А видел ли он, как я… Мерзко как! Извращенец. Маньяк чёртов. Страх клешнёй впился в позвоночник. Что он там про спортзал говорил? Про турбазу? Если бы хотел бы напасть, так и здесь напал бы. Что мешает? Не напал ведь. «Приходите в спортзал». Он на турбазе живёт. Не будет он нападать, может нормальный человек, просто случайно встретились. Может, он тоже к этой речке купаться ходит, может, тут где-нибудь поглубже место есть, запруда какая-нибудь. Страх потихоньку отпускал, и не стоять же здесь, всё равно идти надо.
Где я сбилась? Утром со стороны муравейника неяркая пестрота – серые, зелёные, коричневые, рыжие, белые полосы и пятна – рассекалась угольно-чёрным пнём, как чёрной дырой, поглощающей свет. На муравейник я вышла, но зенитное солнце играло в листве и траве со всех сторон одинаково, контрасты белого и чёрного окружали, манили и обманывали. Ведь у самой турбазы уже! Плутала, плутала, но всё-таки выплутала.
Всё, чёрт с ней, с речкой, гулять только по округе.
– Хочу извиниться за то, что напугал вас. Не хотел, вот честное слово не знал, что вы так испугаетесь. Вы на самом деле рискуете так далеко заходить. А если бы это был не я, а злодей какой-нибудь, что бы вы делали? Да и по моим наблюдениям в лесу вы ориентируетесь на троечку. Легко могли заблудиться.
– Да, вы правы, не буду больше так далеко заходить. – Здесь, на турбазе, я его уже не боялась. – Сама знаю, что глупость сделала.
– Приходите в спортзал, одних растяжек мало, чтобы фигуру сделать. Надо силовые подключить.
– Спасибо, приду как-нибудь. – Не страшный он совсем. Лицо интересное, точно как вырезанное. Такие резкие черты лица. Красивый? Наверно, нет. Губы слишком тонкие. Глаза глубоко посажены. Но что-то есть такое… смотреть всё время хочется, изучать. Меня смущает, что я перед ним в лифчике и трусах скакала. Хотя, что такого, купальник – это те же трусы с лифчиком. А никто не стесняется. Бельё у меня красивое. Не стыдно показать. Приятно мне, что ли, что чужой мужик моё бельё видел? Или меня в белье… Я, наверно, покраснела сейчас немного. И придёт же в голову! Спасибо Валере. Сколько он на мне одежды изорвал! Подойдёт и ручищами своими – хрясь! И клочки в угол летят. Когда же я уже всю твою помойку изведу? Иди, давай, в магазин. Я хочу, чтобы у моей жены всё красивое было. Интересно, а Славке тоже не нравилось, или он внимания не обращал? Да нет, обращал, наверно, у меня вкуса нет, чутья, не умею одеваться. Да, не повезло ему со мной. Ничего, Валера быстро обучит.
– А если надумаете дальние прогулки совершать, могу быть проводником. Я тут километров на двадцать хорошо лес знаю.
– Спасибо, я подумаю.
Он как будто ждал ещё чего-то или сам хотел что-то сказать, но я осознала это уже когда отвернулась и уходила. Этот разговор, вежливый, в общем-то, ни о чём, не шёл у мня из головы… Я как бы со стороны видела нас, как мы стоим, глаза, руки, жесты, наши тёмные силуэты на ярком солнце, и что-то недосказанное, что-то оставленное без ответа…
– Жила бы ты рядом, я бы тебе такую фигуру вылепил… Пока молодая, ты хороша, но я уже вижу, если за тебя не взяться, поплывешь с годами.
Ну, не такая уж и молодая. Видимо, неплохо сохранилась. Боже, какие мужики смешные, каждый кулик своё болото хвалит. И каждый мнит себя Пигмалионом. На свой лад. Этот спортсмен и ему надо фигуру мне атлетическую сделать. А Валерке надо, чтобы я была хозяйка, но он не впрямую действует, он меня, как жук-древоточец, объедает потихоньку под свой стандарт. А Славке что надо было? А ему ничего, похоже. Он сразу был равнодушен. Наверно, он сразу всё просчитал, и относился ко мне, как к переходному этапу. А мужики, которые неравнодушны, те да. Лепят. Под себя.
– Стучится ко мне в комнату: «Ой, вы не знаете, где мне одеяло ещё одно взять, я мёрзну». Я ей отвечаю: «Я почём знаю, я не администратор». Ага, за одеялом она пришла. То им одеяло надо, то об индивидуальных тренировках договориться, именно в одиннадцать вечера. Я такое бабьё неудовлетворённое насквозь вижу, так и рыщут, кому бы в койку забраться.
Это он мне так даёт понять, что ему бабы на шею вешаются, только пальцем помани и все твои, а он такой недоступный, такой весь с чувством собственного достоинства, а я, значит, к этому бабью не отношусь, я, значит, вся не такая, и поэтому он готов меня до себя допустить. Или ко мне снизойти.
Он был страшный, когда смеялся (чего он почти никогда не делал). То есть, поначалу страшный. Потом я привыкла. Но все равно… холодок по спине. У него были необычайно длинные клыки. Этакий волк. Губы его были плотно сжаты, ну, иногда лишь дрогнут в полуулыбке. Первый раз, когда привёл в свой дом, смеялся открыто, раскатисто, и его клыки сверкали на солнце. Он запрокинул голову, и рот открыл так, как будто собирался завыть, а вместо этого захохотал. Ужасные клыки, жёлтые. Оборотень. Чем же я тогда его рассмешила? Мёртвая деревня, некоторые дома почти сгнили, тронь рукой и развалятся. Или остовы уже развалившихся. Но некоторые ещё крепкие. Покинутая деревня у старой, почти заросшей дороги, но его дом стоял далеко, у леса. Да и не ездил там почти никто. Ведёт ли куда эта дорога? Разве что осенью за грибами кто в глушь подастся. Так это не твой дом? Мой. Ты его купил что ли? Зачем? Тут никто давно нет. Приходи и живи. Вот я пришёл и живу. До морозов, конечно. Уже несколько лет. Ни разу никто не побеспокоил. Кроме лис. Ну, один раз по осени мишка приходил. – Ой!!! – И здесь он расхохотался.
По вечерам он исчезал. Но у меня всё равно было ощущение, что он наблюдает. Я вертела головой, надеясь его засечь, но напрасно. Валера заметил: «Ты ищешь кого-то?» – «Нет». Но я знаю, он наблюдал за мной и Валерой, за нашими взглядами, выражениями лиц, прикосновениями, мне кажется, что он даже слышал слова. Утром, сворачивая на тропинку, петляющую через заросли диких черёмух, я уже знала, что недолго пробуду одна. Ритуально срывала пару-другую вяжущих, недозрелых ягод, выныривала вместе с тропинкой на светлые поляны под соснами, где уже были рассыпаны жёлтые солнечные осколки, играющие на старой хвое, не думая, куда ноги несут, к березнячку, к брошенному полю, заросшему травой мне почти по шею, дальше по сосняку, где начинался лиственный подлесок из неизвестных мне кустов, я знала, что не заблужусь, сейчас возникнет из ниоткуда бесшумный дух леса, Пан, и окликнет меня, и поведёт ему ведомыми тропами. Он ни разу не заговорил о Валере. Ничего не спрашивал. Хотя я пару раз обмолвилась, произнесла «муж», «мы с Валерой», это осталось без внимания.