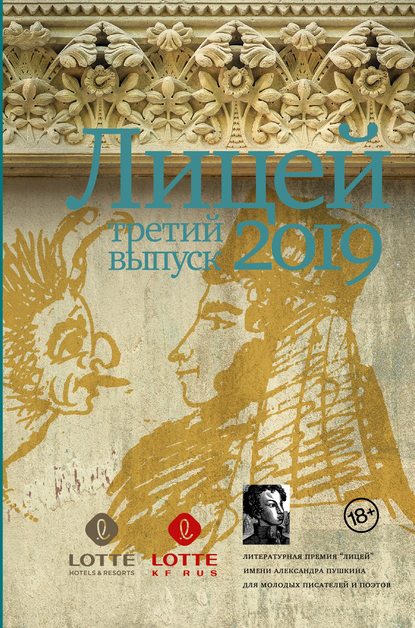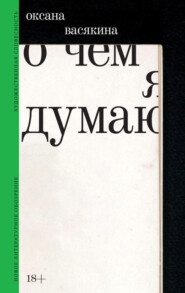По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лицей 2019. Третий выпуск
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это ты зря, – огорчился юрист. – Вменяю тебе психическую травму детства, нанесённую в зрелом возрасте.
Посмеиваясь, они выпили ещё по одной.
– Знаешь, а я чуть было следаком не стал, – начал Виктор, жуя. – То есть стал на какое-то время. Мне даже корочки выдали. Полазил с месяц по городским трущобам, насмотрелся достоевщины всякой: дети убивают родителей, родители – детей. То квартиру не поделили, то кредиты не погасили, а чаще всего – по пьяни. И уволился. Так спокойнее. Работаю тихо-мирно в адвокатской конторе, на жизнь хватает…
– Не коллектором?
– В смысле? А-а… Нет, это другое ведомство. Долги, что ли, какие есть?
– Алименты.
Виктор не сразу нашёлся, что на это ответить. Он считал, что Артём, как и многие из его прежних друзей, живёт с родителями, работает где придётся, без прицела на карьерный рост. Теперь вот выяснилось, что Хайр – кукольник. Нет, творчество, конечно, дело хорошее. Он и сам когда-то пописывал стишки и рисовал чёрной краской на стенах. Но разве этим проживёшь? Тем более если семья. Приходилось по-новому смотреть на человека, как бы друга, успевшего жениться и развестись, который в его памяти всё ещё тряс огненным хайром со сцены и посылал недовольных “доро?гой на”.
– Когда успел? – растерянно спросил Виктор.
– Долгая история…
– Удивляешь, дружище. Давно в разводе?
– Второй год… Да обычные дела, ничего удивительного. Давай хряпнем, – странно оживился Артём.
Закусив ломтиком колбасы, Виктор снова посмотрел в сторону бара, но блондинки за стойкой уже не было. Бармен услужливо разливал коньяк; два солидных мужика в патриотичных футболках, вертясь в креслах, громко обсуждали футбольный матч. “Значит, не дождалась, – подумал Виктор. – Возьмёт дешёвого вина, придёт в пустую квартиру, снимет с себя одежду и станет мечтать…”
– Ты когда уехал, я ведь тоже решил из города свалить, – торопливо, изредка взглядывая на приятеля, заговорил Артём. – Тусовка к тому времени разбрелась. Кто женился, кто спился, большинство разъехалось по стране. В принципе, понятно: ловить в этом городе нечего, кроме мух.
Виктор понимающе улыбнулся.
– Знакомые позвали меня в Питер. Ну, я и поехал. Романтика, чё. Силы ещё были, амбиции. Думал, художником крутым стану, выставляться буду. Короче, послонялся я год по впискам – без работы, без денег. Набродился по ночным клубам, по музеям, по старинным питерским улочкам – надоело. Чувствую: чужой я здесь. Вернулся обратно. Появился некий ритм жизни. Смысла не было, но ритм появился: поспал, поел, вышел на балкон покурить, с балкона – в комнату. Так и жил. Родители стали намекать: поступай учиться, сынок, хватит маяться, без образования ты никто. А куда поступать? В шарагу идти не хотелось, а для вуза – время ушло, да и желания особого не было учиться. Пошёл рабочим на стройку. На Черёмушках, на месте старого котлована, церковь строили – туда и пошёл. А там прораб – бывший сиделец, рабочие – те тоже ребята на понтах. Короче, общего языка с ними я не нашёл. Они ведь ранимые очень. Если молчишь, не поддакиваешь им, не бухаешь, значит, не уважаешь. Пришлось уйти. Мать, конечно, в слёзы. Отец ходит строгий, пузо почёсывает, не разговаривает. Я из комнаты почти и не выходил. На полке книги стояли, ещё со школы, стал читать. Прочитал “Превращение” Кафки, подумал: как точно написано, прямо про меня. Мне даже напрягаться не надо было, чтобы чувствовать себя насекомым. А тут вдруг Серёга-Дзэн позвонил. Ты его должен помнить, он тебе ещё гриф на басухе отломал?..
– Помню. Больной на голову, – ухмыльнулся Виктор.
– Ну вот, он тогда в театре кукол электриком работал. Остепенился, комнату с какой-то девушкой снимал. Говорит, ты же вроде рисуешь неплохо и браслеты из кожи мастеришь, нам кукольник нужен. Я сперва отказывался, привык дома сидеть. А потом думаю: всё равно работать где-то надо, а тут хоть человек знакомый. Пошёл устраиваться. Мать обрадовалась, отец заначку достал – наливает. Вроде бы наладилось всё. Зимой дело было. Встанешь утром, чаю выпьешь, покуришь в форточку с выражением значительности на лице – и на работу. Выходишь в сумерки, тихо, в соседнем доме окна желтеют, снег под ногами хрустит. Редко когда на троллейбус садился, пешком шёл через весь город… В театре сначала лица куклам обновлял как подмастерье. Втянулся, интересно стало. Полазил по сайтам, почитал нужную информацию, начал сам кукол делать. Вроде берёшь тряпку, пуговицы ненужные, волосы; клеишь, наносишь краску на папье-маше, а из всего этого хлама рождается почти человек. Я всегда даю своим куклам имена, помечаю тонкой кистью на теле – ещё до спектакля. Спектакль – как таинство рождения. Ох, Витя, не передать, что чувствуешь, когда твоя кукла оживает… Обретает дар речи, характер; плачет, смеётся, проходит испытания, нередко гибнет. Даже немного ревнуешь, видя, как твоё детище кривляется на чьей-то потной руке. А ведь странно, да?..
Виктор, подперев голову кулаком, внимательно слушал пьяную исповедь по природе молчаливого и застенчивого друга. Со стороны это выглядело так, будто врач-психиатр терпеливо выслушивает бред пациента, убеждённого в своём здоровье.
– А потом её встретил, Катю. Она после новогоднего спектакля с сыном ко мне подошла, попросила кукол ему показать. Пацан лет шести – белобрысый, застенчивый, за мамкой прячется. Сама она уже не юная была, с такой, знаешь, увядающей красотой. Лицо без косметики, смоляная коса с проседью, серое платье: не то ведьма, не то монахиня. Она мне сразу тогда понравилась, напомнила гоголевскую панночку в возрасте, хе-хе… Ну, показал пацану кукол, объяснил, как ими управлять, какие у них роли. Наверно, детям не стоит показывать изнаночную сторону сказки, да ведь она сама попросила… Как-то мы тогда хорошо, душевно пообщались, будто старые знакомые. Я даже подумал, что неплохо, пожалуй, иметь собственную семью, заботиться о ком-то, растить цветочки на подоконнике. М-да… Обменялись мы с Катей телефонами, знаешь, без напряга, само как-то вышло. Такое со мной редко бывает, чтобы запросто познакомиться с посторонним человеком, особенно с женщиной. Короче, стали мы с Катей встречаться. Сперва встречались на нейтральной территории – много гуляли по городу, заходили погреться в недорогие кафе. Потом она стала приглашать к себе – “на чай”, ну, понимаешь… С Сашей, сыном её, подружились. Учил его кукол из тряпок шить, деревья гуашью рисовать. Он ко мне привязался. Бывало, в воскресенье утром придёшь к ним и не заметишь, как время прошло, смотришь – темно за окном. Как-то я тоже её в гости пригласил, хотел с родителями познакомить. Катя долго не соглашалась, отнекивалась, еле уговорил. Пришли ко мне, сидим чинно на кухне, чай пьём с родителями, беседуем: “Снегу-то навалило”. – “Весна скоро, растает”. – “Сыночка, стало быть, одна воспитываете?” – “Одна”. – “Чаю подлить?” И всё в таком духе. Короче, натянутый получился разговор. Катю, значит, проводил, вечером домой вернулся, сел ужинать. Мать с посудой возится, вздыхает. Потом как бы между делом говорит: “Тёма, сынок, а не старая она для тебя? Да и ребёнок у неё”. Я ей тогда не то со зла, не то со скрытым намерением ответил: “Привыкай, мам. Женюсь скоро”. И женился.
– Забавно, забавно… – пробормотал Виктор с ничего не выражающим лицом и неверной рукой разлил оставшуюся водку.
Они выпили не чокаясь.
– Свадьба больше походила на похороны. Тут особо нечего рассказывать, запомнилось другое. После застолья мы долго шли по мутным сугробистым дворам – я, она и сын. Дул колючий мусорный ветерок. На пути встречались уродливые снеговики с бутылками в паху. Мы смеялись над этим. Саша отводил глаза. Из-под её пальто торчало свадебное платье и цеплялось за сухую траву, когда переходили пустырь. Она шла неровной походкой невесты, словно на каблуках, хотя её туфли я нёс в пакете с остатками еды. Когда зашли в подъезд, долго не могли открыть входную дверь: роняли ключи, смеялись, выясняли, кто из нас пьянее. Потом она уложила Сашу спать, мы остались на кухне. Достали закуску, вино. Катя зажгла свечи. Ну, чтоб как в кино. Мне захотелось её поцеловать, у неё началась истерика. Так, на пустом месте. Она сказала, что её не любят мои родители, что она старая для меня и что я тоже её не люблю. Короче, бред полный. А когда успокоилась, выпила немного вина, задала мне такой вопрос… Нет, сначала пристально на меня поглядела, как прожгла, а потом сказала, неприятно растягивая слова: “А-артём, а-а… ты не думал ра-аботу поменять? У нас ведь теперь се-емья”. А мне нравится то, чем я занимаюсь, ну… нравится очень, понимаешь? И всё пошло к чёрту… Она не работала, могла весь день просидеть у телевизора, глядя дурацкие шоу. Готовила отвратительно. Вечно вылавливал из супа её крашеные волосы. По вечерам, когда приходил с работы, она стала вспоминать о своём первом муже-военном. Сравнивала меня с ним, говорила: он хоть и сволочь, но мужик, а ты – баба. Такие дела. Мечтала открыть ателье – шила, кстати, неплохо, – хотела взять кредит в банке, но бог миловал, с дивана она так и не слезла. Теперь конец, – виновато улыбнулся Артём. – Дальше не так интересно…
Виктор тяжело смотрел сквозь прозрачное стекло графина, вбирая теперь его пустоту. Когда Артём закончил, он шумно вздохнул, выбил пальцами барабанную дробь и с некоторым раздражением сказал:
– Стервой твоя панночка оказалась.
Чуткий официант, оценив важность разговора и убрав папку со счётом за спину, прошёл мимо.
– По-моему, она нездорова. Сашку жалко, – слабо возразил Артём.
– Видишься с ним?
– Нет… запретила. Говорит, сперва алименты выплати, потом подумаю. Знаешь… – Артём длинно посмотрел в открытое окно, в смазанную сумерками листву. – Мне её тоже жалко.
– Щас распла?чусь, – поморщился Виктор, нащупывая бумажник. – Слушай, пойдём отсюда, а?
3
Вечер освежил их лица прохладой. Пьяно мерцали уличные огни, приглушённые густой зеленью клёнов. Синие троллейбусы с табличками “в парк” неспешно увозили дачников в казённый покой. Друзья шагали по тротуару в недосягаемое тёмное пятно впереди. Твёрдые углы зданий смешались в танце теней. Проснулись гулкие отзвуки дворов – дребезг стекла, смех, крики, – вызывающие сладкую тревогу: если не убьют, то наверняка превратят беспечную походку в ветер. Границы города растворились. Стена вряд ли будет стеной, если подойдёшь ближе, коснёшься – рука уйдёт в пустоту. Дерево едва ли окажется деревом, если проведёшь ладонью – смахнёшь смертную тень с чужого лица. И звёзды горят над остывающими крышами, над невидимой стрекочущей степью, что за пятью домами, так ярко, голо, бесстыже…
– Здесь я оставил два зуба и хайр, когда с репетиции шёл, – Артём жестом музейного гида показал на скамью под навесом автобусной остановки. – Срезали тупым ножом. Через год новый вырос, как у ящерицы.
– Жёстко, жёстко… Мне кто-то рассказывал из наших. Теперь уже хрен такой вырастет, – Виктор погладил голый затылок друга.
Они двинулись дальше, мигая сигаретными огоньками.
– Я того главного, который со мной беседовал – “я тебя бить не буду, они будут”, – на рынке недавно встретил, – весело говорил Артём. – Жалкий такой мужичок с тележкой. Мёдом торгует. Он с дочкой, видимо, шёл. Дочь в зелёнке вся, прильнула к нему, плачет…
– Что – тоже жалко? – Виктор сплюнул в кусты.
– Да нет. Странно всё это. Тогда он на меня смертью дышал, а теперь с тележкой… Я его портрет по памяти нарисовал.
– И как назвал – “Стокгольмский синдром”?
Артём промолчал, выстрелив искрящимся окурком в темень.
Площадь и главный проспект остались позади. Волны дорожного шума всё реже касались слуха, темнее и у?же становились тропы, по которым они шли. Квартал за кварталом, вдох за выдохом – слепые фонари, песочницы-мухоморы, погосты мусорных куч, – шесть сигарет в согласном мужском молчании. Горький запах полыни – всюду.
Обойдя переулком цыганские избы, заросшие коноплёй, они почувствовали под собой пустоту и остановились. Пахнуло речной сыростью. Не сговариваясь, друзья спустились по крутому берегу к реке, присели на корточки, опустив руки в прохладную муть. С другого берега чёрной глушью смотрела забока, свисая пахучими ивовыми прядями к лунной воде. Чувствовать спиной цыганские дворы было менее страшно, нежели оказаться на том берегу, где цветёт папоротник и кто-то невидимый шарит в душной траве.
– Дед мне рассказывал, – негромко заговорил Виктор, – когда весной кладбище деревенское размывало, гробы плыли по реке. Целая вереница гробов. Они пацанами с берега смотрели. Теперь ни деревни, ни кладбища того, наверно, в помине нет…
Он достал из кармана пачку “Честера”, протянул Артёму. На мгновение бледно осветились их лица, потом погасли.
– Они и теперь плывут, – крепко затянулся Артём, выдыхая дымом: – Ваня-Пионер, Серёга-Чух, Вася-Бильбо, Аня-Лиса…
Речная вода впитывала человеческие имена, как мусор, как степную пыль, как отражения природы (насекомых, ночные звёзды), медленно и равнодушно унося по извилистому пути. И казалось, что два друга – лишь капли этой реки, случайно выползшие на берег, увидевшие свет, уставшие от света, присевшие покурить, шевеля по-рыбьи губами: “Жаль, хорошие были ребята”, – подразумевая: “Я тоже когда-нибудь умру”.
– Монтана хоть живой? – покашливая, спросил Виктор.
– Живой. Что ему будет. Проспиртован напрочь.
– Может, зайдём?
– А надо ли…
Они встали, задумчиво помочились в воду, глядя на звёзды, и пошли дальше. Монтана жил на набережной в коммуналке, доставшейся от покойных родителей. Идти было недалеко.