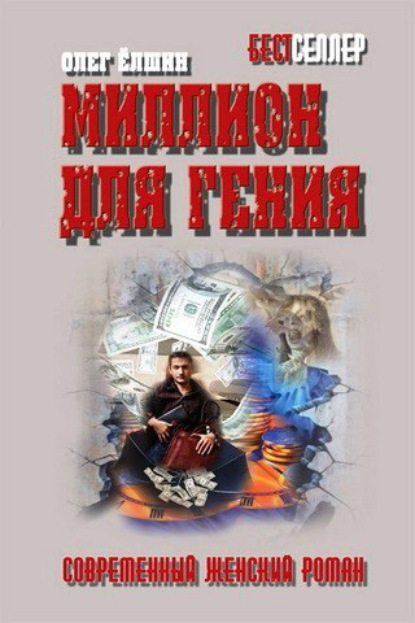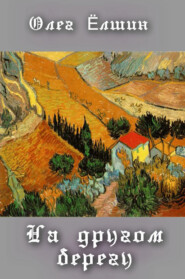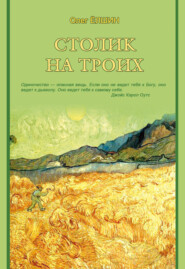По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Миллион для гения
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Почему же не увидит, – и он кивнул в сторону мужичков с самогоном и бригады доярок, отдыхавших после смены, – вот, смотрят люди.
– А, другие люди, в Москве, в стране?
– Как вы не понимаете? – воскликнул режиссер. – Этот фильм по нынешним временам «неформат». Вы знакомы с таким понятием? Это психологическая драма. Ни одна киностудия не имеет в планах подобных проектов. На них просто не выделяют денег. Практически все сделано на свои и на деньги друзей, – добавил он и замолчал.
– Что же теперь снимают? – спросил Леонидов.
– А вы не знаете? – засмеялся режиссер, – вы с какой планеты?
– Экшен! – вырвалось у него.
– Конечно! Конечно Экшен! Блокбастер! Мыло! Тарковский сегодня работал бы оператором, а Феллини осветителем, и это в лучшем случае, если бы очень повезло и нашлось протеже.
– Неужели нет никакой надежды? – на прощанье спросил Леонидов.
– Есть надежда, маленькая, но есть, – ответил тот, и глаза его загорелись.
– Канны! Если нас заметят Там. Если оценят в какой-нибудь номинации, наши кинотеатры будут бегать за мной и умолять продать им копии, но все это только после Канн. А без Канн мы никто.
Леонидов задумался. Может быть, ему тоже издавать свои книги Там. А Петров подтвердил эту мысль: – Старик, многие давно уже так сделали – раскрутились, а потом вернулись сюда, теперь они нарасхват.
– Но для этого придется уехать из страны, – подумал он. – Уехать на годы.
И Леонидов вспомнил слова Петрова: «Уезжать не хочу. Это моя страна».
Журналист к концу первого дня устал и попросился домой.
– Только своим ходом, – возразил ему руководитель фестиваля.
– Но, я уже сделал свою работу, отработал гонорар. Больше мне делать здесь нечего, – возмущался тот, – у меня масса работы, полно заказов. Всем нужны репортажи, пиар, а я тут с вами время теряю! Мой контракт выполнен, в конце концов!
Руководитель был опытным администратором, он не хотел ссориться с журналистом – мало ли что, и сделал правильный ход.
– А вы посидите в партере, вон с теми людьми, заодно возьмите у них интервью, – и кивнул на наших мужичков, – а я пока вызову вертолет. Лично для вас, господин журналист.
Руководитель знал, что делает, он не в первый раз проводил такие фестивали, а журналист был молодым, горячим… и совсем неопытным. Через несколько часов он нашел журналиста в компании тех двоих, и в возмущении спросил:
– Ну, что же вы, господин репортер? Я вызвал для вас вертолет, вас, понимаешь, ждали, а вы…
– А и не надо никакого вертолета, – еле связал журналист несколько слов, – у меня еще очень много работы, – и он посмотрел на недопитую бутылку – уже вторую. – Нам еще много нужно сделать.
– Да-да, – подтвердили мужики, показывая на третью бутыль.
– Поработаем ишшо… Ихмо… Меть… Ну его, этот вертолет. Отпускай его с Богом.
И вертолет отпустили. А был ли он, этот вертолет, уже никто не вспомнит.
На второй день в честь победителей хозяева фестиваля устроили банкет. А поскольку победителями оказались все, всех и пригласили. И доярок, свободных от смены, и, конечно же, наших двух мужичков. Все расселись за длинным столом, накрытым прямо на улице во дворике клуба, и отмечали закрытие. Леонидов сидел за столом и смотрел на этих людей – актеров и доярок, двух пьянчужек, на Петрова. И на мгновение показалось, что все так и должно быть. Все правильно, все получилось у этих людей. И какое-то смутное предчувствие защекотало, завибрировало в душе, в пустом желудке и в голове. Одни снимали кино, другие его смотрели. Чего же еще? При чем здесь столицы и слава, все это так далеко отсюда. Просто живут самые обыкновенные люди, пусть даже в городке Дальнерусске и смотрят кино. Оно им нужно, оно им нравится. И вспомнил глаза двух мужичков, которые еще были трезвыми, вспомнил, как они смотрели, и доярок вспомнил. И теперь он понял, что ему нужно делать. Но, об этом потом. И еще одно поразило его за этим накрытым столом. Теперь он смотрел не на людей, а на нехитрые угощения, которыми их потчевали. Смотрел и вспоминал тот день, когда они с Галей весь день смотрели телевизор и, казалось, пересмотрели все возможные передачи. В одной из них рассказывалось, из чего сделаны наши продукты. А здесь… Мясо было сделано из… мяса, огурцы из огурцов, картошка была похожа на картошку, рыба на рыбу. Мясо было из молодых бычков, а не из кенгурятины, которую, оказывается, мы потребляем многие годы. Оно и понятно. Откуда возьмется свинина или говядина в наших широтах? Кенгуру уже давно заполонили прилавки магазинов. Однажды кенгуру, вспомнив, что их историческая родина Россия, отправились в далекое путешествие. Они оставили Австралию и, видимо, вплавь, через океан, пустынями, горами, тайными тропами пробирались сюда. Так достигли цели путешествия и теперь снабжали своим мясом наши магазины. А на этом столе почему-то лежал настоящий жареный поросенок. Настоящие цыплята, не нашпигованные антибиотиками, просто цыплята. Видимо, по той дороге-недороге антибиотики не смогли доставить сюда или почему-то забыли это сделать. И цыплята были самыми обыкновенными. На столе лежал картофель! Несмотря на то, что уже давно национальным продуктом в нашей стране стали бананы! К весне только за сумасшедшие деньги можно купить остатки гнилой картошки, а бананы пожалуйте – за сущие копейки. И, действительно, откуда здесь взяться картофелю, в нашей северной стране, когда повсюду, даже в городах, растут лишь пальмы, а с них свисают эти самые бананы. Улицы, площади и скверы покрыты пальмовыми плантациями. Только ленивый не подойдет и не сорвет эти плоды. Зимой удивительные пальмы, невзирая на холод и снег, дают прекрасный урожай, а картошка… Ее просто не должно быть в этих широтах, поэтому бананы и есть самый распространенный национальный продукт. А тут картофель! Настоящий! Пахнущий картошкой, из нее же сделанный – чудеса!
Он ел эту настоящую еду и вспоминал Галю: – Жалко ее нет рядом. Хотя у нее сейчас, наверное, начинается сериал. Ел настоящую еду, пил настоящий самогон, сидел рядом с настоящими актерами и режиссерами, доярками и двумя пьянчужками и чувствовал себя как-то необычно, по-настоящему. И дело его было стоящим, в которое снова верил, потому что знал, что книги его нужны людям. Это стало для него сейчас главнее всего…
С таким настроением и покинул этот замечательный фестиваль. Ему вручили бутыль самогона, впрочем, как и остальным. Правда, взамен попросили оставить журналиста. Уж очень он им понравился. Журналиста не отдали, аккуратно упаковали его в коробку от большого фонаря и особенно берегли фотоаппарат – завтра вся страна узнает об удивительном кинофестивале, который прошел с успехом в городе Дальнерусске. В городе, где настоящие доярки и молоко, самогон, настоящая красная ковровая дорожка и где показывали самое настоящее современное кино. И еще сохранилось жаркое-жаркое лето…
Дорога вела назад, она становилась все шире, города больше, небо улетело на призрачную высоту, солнце спряталось. Все ближе и ближе к столице. Вот появились первые пальмы, с которых свисали любимые плоды, первые кенгуру перебегали дорогу. Наконец, въехали в город. Снова пальмы и повсюду эти красивые животные. Вот Плющиха, где давно вырубили три тополя и где теперь тоже растут три банановых дерева. А под пальмами этими сидят кенгуру и ждут, когда же их съедят. И снова зима…
Часть 3
26
Клейзмер подошел к окну и пристально посмотрел вдаль. Ледяной город сверкал в лучах зимнего солнца, отражаясь холодным блеском. Были видны дымящиеся металлические трубы завода, натянутые струны стальных рельсов трамвая, нити проводов на столбах. Мир, опутанный металлической паутиной. Металлический хаос. Бетонные стены домов заасфальтированного города, заасфальтированного мира, выбирались из сугробов грязного снега, скрывая людей, их замерзшие жизни, судьбы. Он посмотрел немного в сторону, где мерцали золотые купола, повел глазами вверх и увидел прозрачное голубое небо. Оно нависало над городом, пропуская лучи яркого солнца, которое уже не в силах было согреть никого. Была зима. Холодная зима.
Этот высокий бородатый человек стоял и пристально смотрел в окно. Потом раскрыл его, и ледяной ветер ворвался в его жилище. Он не замечал холода, лишь чувствовал свежесть его дыхания. Уже умывался этим ветром, а сердце бешено колотилось, согревая. Губы его шевелились, бормоча бессвязные слова, фразы, а в голове зрел вопрос, на который он должен был дать ответ:
– Как уживаются этот бетон и пластик рядом с деревьями и людьми, небом над головой? – он снова посмотрел вниз.
– Два мира. Один под ногами, который создал человек, и теперь топтал ногами, мир который вполне устраивал его. Но стоит посмотреть наверх, открывается другой мир. Так в котором из них мы живем? Интересно, если убрать все искусственное, оставить лишь настоящее, что сохранится? Цивилизация уже ни раз проходила через это чистилище. Очищение. Остались после этого пирамиды, созданные его руками, но сделанные из натурального камня. А все атрибуты высокотехнологичной жизни стерты с лица земли. Остались каменные идолы и амфоры. Сохранились развалины. Что настоящее, а что наносное? Что должно остаться, а что исчезнуть навсегда?
Он продолжал всматриваться вдаль, временами поднимая глаза к небу, а губы бормотали эти бессмысленные, безумные слова:
– Все их технологии, изобретения. Где они? Только скелеты несчастных и величественные пирамиды над ними – больше ничего. А человек? Что в нем временное, а что постоянное, вечное? Нужно им это как-то объяснить. В этом нет ничего сложного. Есть величины непостоянные, переменные, а есть незыблемые – КОНСТАНТЫ! Как это объяснить? Но, существует же неизбежность. Все равно это должно произойти. В конце концов, мир явился из точки. Это не взрыв. Только невежества могут пугать такие понятия. Взрывы устраивают люди, а не Боги. Мир родился из точки и должен вернуться назад. Неминуемо вернуться, пройти через нее. Точка – это лишь мгновение, короткая пауза, переход, а за ней… Нужно пережить это, чтобы идти дальше. Нельзя вечно топтаться на месте, геометрия проста. И тогда произойдет обновление, истинное откровение. Бояться не нужно. Остается только отбросить ненужное, бессмысленное, переодеться и сделать этот шаг, дождаться, понять! В этом выход! Но, как это объяснить ИМ? Смогут ли? Захотят ли? Поймут?
Он подошел к столу, заваленному кипой бумаг, которые, словно живые, шевелились на холодном ветру. Перелистал замерзшие страницы.
– Не то… Все не то… Слишком много времени нужно, чтобы объяснить – жизни не хватит. Нужен другой путь.
Он продолжал перебирать листы бумаг, исчерченные, испещренные мелким подчерком.
– Все не то! Это не их язык! Но, должен же быть какой-то выход?
Он нервно отшвырнул в сторону кипу бумаг, где были надписи, математические иероглифы, понятные лишь ему одному. Те, соскользнув со стола, полетели вниз. Они белыми птицами распластались по полу, разметав свои крылья. Теперь они занимали все маленькое пространство. Формулы, мысли и цифры, написанные и доказанные, больше они были ему не нужны. Он их понял, постиг, он доказал ЭТО, и теперь они его не интересовали. Отработанный материал…
Встав с шаткого стула, прошелся по белому полу, исчерченному иероглифами формул. Топча их ногами, нервно ходил, бился в четырех стенах, а совсем близко открывался другой мир, который он придумал, увидел и доказал. Его мир! Просто нужно найти язык, перевод. Нужно понять, как объяснить им ЭТО. Внезапно взгляд упал на предмет, который завладел его вниманием. Он кинулся в угол, достав оттуда старенький, пыльный футляр со скрипкой. Схватил его, вынул инструмент. Что-то подсказывало – он нашел то, чего так не хватало. Истина находилась рядом, она была в каждом предмете, каждом порыве ветра за окном, в каждом дыхании и мысли, и в этой скрипке. Кинулся к окну, закрыв его, обнял скрипку, согревая ее обеими руками, потом достал смычек и… заиграл.
Есть алгоритм, который понимают немногие, но есть язык, который должны знать все. Есть истина, которую не объяснишь словами или цифрами, но музыкой, нотами, сокровенным движением души. Этот язык доступен многим. Он понятен всем, потому что душа дана каждому. Она теряется, пропадает, бьется между сознанием, разумом и привычным, постылым телом. Она думает и говорит на своем языке. Но если она ведет тебя по жизни, желания твои совсем другие, нежели те, которые заложены инстинктами и телесными просьбами, вожделениями. Она свободна от них. Нужно услышать ее и найти к ней путь, отказаться, чем-то пожертвовать. И тогда она завибрирует, заиграет, как струна. Откроет перед тобой сокровенные знания, ответит на вопросы, которые недавно ты даже себе не задавал! И жизнь изменится, засверкает, и не вялое похотливое тело будет тащить тебя за собой, а вести, звать, настаивать и торопить. И сотворять это будет твоя удивительная душа…
Он играл, и странная, удивительная мелодия исходила из инструмента. Это были не ноты, не музыкальные фразы, бесстрастно заученные равнодушным непонятливым подростком. Не бессмысленный набор звуков, не чья-то музыкальная фантазия, хотя кто-то ее когда-то написал. Она была узнаваема, но, как сейчас, в этой холодной пустой комнате, звучала впервые. Она говорила, и Клейзмер говорил вместе с ней:
Долгий тяжелый труд, опыт мучений, творческих побед, поражений, и снова побед. И когда цифры кончились, исчерпали себя, исписались, явилась простая и удивительная истина, и все эти формулы теперь были не нужны. Явилась идея, настоящая, не придуманная, не требующая доказательств, и она засверкала невероятным звучанием в душе и звуках волшебной мелодии. Он доиграет ее до конца, но останется ли она или исчезнет, как остальное, временное и бессмысленное? Останется! Конечно, останется и будет звучать. И станет такой же вечной, как его душа и души остальных в этом мире, в целой вселенной. Они не могут не услышать ее. Они должны понять, и никакие формулы больше не нужны! Точка! Переход! А за ней новый мир и новая жизнь! Вечная…
За стеной заплакал ребенок. Он громко кричал, был потревожен непривычными звуками мелодии. Он не слышал еще такого, поэтому ему было не по себе. Просто ему никогда никто не давал слушать этой музыки и другой тоже, а потому он плакал.
– Клейзмер, прекрати сейчас же! – раздалось из-за стены.
Он не слышал, продолжая играть, словно в экстазе, а звуки неслись далеко за пределы закрытой комнаты – замкнутого кубика бетонной клетки. Но уже с другой стороны стена начала сотрясаться раздраженным грохотом:
– Клейзмер, прекрати хулиганить! Сейчас же перестань! Сумасшедший! Идиот! Блаженный!
Стены начали дрожать, изгибаясь под стуками крепких кулаков, они упруго вибрировали от ударов, словно были не из прочного бетона, а из резины или гибкого пластика. Коробка его комнаты превратилась в резиновую грушу, которую теперь нещадно колотили, топтали, били со всех сторон. Сверху, снизу. Потолок стал мягким, податливым и проваливался глубокими впадинами, пол ходил ходуном, а Клейзмер не замечая, продолжал играть. Потом закончил и словно прозрел: