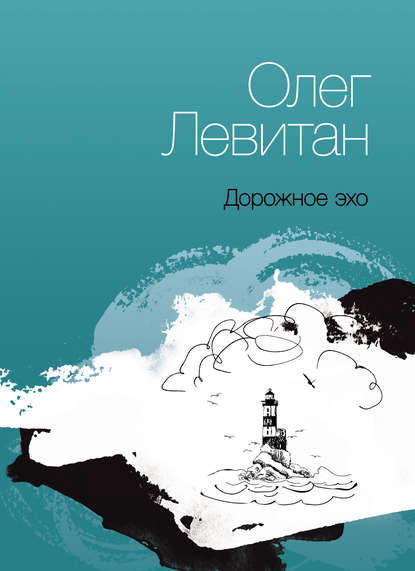По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дорожное эхо
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
прошлась метла эпох и перестроек…
Лишь сводчатый беленый потолок
на кольца, мех и прочее добро
глядит – и ничего не понимает,
и времена иные вспоминает —
иной хрусталь, иное серебро…
И вечерами, лишь затихнет шум,
дом занят сном – старинным, драгоценным,
где тени заговорщиков по стенам,
где спорит с чувством сердце, с сердцем ум…
– Не опоздать бы, – голос за столом.
– Где манифест?
– На полке в кабинете.
– Ах, господа, сенаторы – не дети.
– Ах, господа, как славно мы умрем!
И чей-то вздох. В сомненьях есть резон.
Все выяснится утром у Сената,
но мысль о пораженье жутковата…
А мрак над Мойкой снегом занесен.
– Ты как, Мишель?
– А я как все, Жанно!
– Считаешь, что получится?
– Не знаю…
Ночь за окном глухая, ледяная.
И в ней лицо стеклом отражено.
А за спиной:
– Страшитесь вы, да-да!
То мало войск, то мало офицеров,
но я ручаюсь за лейб-гренадеров,
не погубите же их, господа!
И кончен диспут:
– С Богом, по местам!
Расходятся. И кто-то, заикаясь,
– П-послушай, – говорит, с крыльца спускаясь
за впереди идущим по пятам:
– А как т-тебе х-хозяина жена?
– Наташа прелесть… – и к нему с вопросом:
– Так ты куда?
– Я в эк-кипаж, к м-матросам!
– Напомни, артиллерия нужна…
Полозьев скрип. Негромкий стук копыт.
И затихает невская столица…
Светает. Перевернута страница.
К дверям ломбарда очередь стоит.
1985
Баллада о двух поэтах
Поэт Пастернак и поэт Мандельштам —
при всех их различьях – ценили друг друга.
То были тридцатые годы, а там,
в то время – и это большая заслуга…
Как в точности вышло, нам трудно сказать,
но точно, что встретились два стихотворца.
И стих, попросив Пастернака: – Присядь, —
прочел Мандельштам про кремлевского горца.
И меркнул от слов электрический свет.
И эхо бежало от каждого звука —
теснясь, как озноб от прочтенных газет,
как страх повсеместный полночного стука…
И встал Пастернак, головой покачал,
от бледности ставший смуглее и выше:
– Запомни, ты этого мне не читал,
и я этих строчек, запомни, не слышал!
И сел Мандельштам у окна, где во мгле
метались шершавые крылья метели,
и дырочку вдруг продышал на стекле,
чтоб мы эту сцену в нее подглядели.
Спросил:
– Что же делать, ведь знаем, ведь ждем?
Сказал Пастернак:
– Оставаться поэтом…
И в той телефонной беседе с вождем
он помнил о встрече и медлил с ответом.
Он знал, что был должен сказать, – и не мог.
Он верил, что жизнь – это высшее благо,
и медлил, как Гамлет, оттягивал срок —
молчал, чтоб ответить устами Живаго…
А вождь ухмыльнулся, когда он затих:
«Боится, – подумал, – не хочется в яму,
а мы тут не спи и решай все за них!» —
и жизнь на три года продлил Мандельштаму…
О, если б я сам эту темень сгущал!
Лишь нынче наш век недомолвок лишился.
И вышло, что прав был и тот, кто смолчал,
Лишь сводчатый беленый потолок
на кольца, мех и прочее добро
глядит – и ничего не понимает,
и времена иные вспоминает —
иной хрусталь, иное серебро…
И вечерами, лишь затихнет шум,
дом занят сном – старинным, драгоценным,
где тени заговорщиков по стенам,
где спорит с чувством сердце, с сердцем ум…
– Не опоздать бы, – голос за столом.
– Где манифест?
– На полке в кабинете.
– Ах, господа, сенаторы – не дети.
– Ах, господа, как славно мы умрем!
И чей-то вздох. В сомненьях есть резон.
Все выяснится утром у Сената,
но мысль о пораженье жутковата…
А мрак над Мойкой снегом занесен.
– Ты как, Мишель?
– А я как все, Жанно!
– Считаешь, что получится?
– Не знаю…
Ночь за окном глухая, ледяная.
И в ней лицо стеклом отражено.
А за спиной:
– Страшитесь вы, да-да!
То мало войск, то мало офицеров,
но я ручаюсь за лейб-гренадеров,
не погубите же их, господа!
И кончен диспут:
– С Богом, по местам!
Расходятся. И кто-то, заикаясь,
– П-послушай, – говорит, с крыльца спускаясь
за впереди идущим по пятам:
– А как т-тебе х-хозяина жена?
– Наташа прелесть… – и к нему с вопросом:
– Так ты куда?
– Я в эк-кипаж, к м-матросам!
– Напомни, артиллерия нужна…
Полозьев скрип. Негромкий стук копыт.
И затихает невская столица…
Светает. Перевернута страница.
К дверям ломбарда очередь стоит.
1985
Баллада о двух поэтах
Поэт Пастернак и поэт Мандельштам —
при всех их различьях – ценили друг друга.
То были тридцатые годы, а там,
в то время – и это большая заслуга…
Как в точности вышло, нам трудно сказать,
но точно, что встретились два стихотворца.
И стих, попросив Пастернака: – Присядь, —
прочел Мандельштам про кремлевского горца.
И меркнул от слов электрический свет.
И эхо бежало от каждого звука —
теснясь, как озноб от прочтенных газет,
как страх повсеместный полночного стука…
И встал Пастернак, головой покачал,
от бледности ставший смуглее и выше:
– Запомни, ты этого мне не читал,
и я этих строчек, запомни, не слышал!
И сел Мандельштам у окна, где во мгле
метались шершавые крылья метели,
и дырочку вдруг продышал на стекле,
чтоб мы эту сцену в нее подглядели.
Спросил:
– Что же делать, ведь знаем, ведь ждем?
Сказал Пастернак:
– Оставаться поэтом…
И в той телефонной беседе с вождем
он помнил о встрече и медлил с ответом.
Он знал, что был должен сказать, – и не мог.
Он верил, что жизнь – это высшее благо,
и медлил, как Гамлет, оттягивал срок —
молчал, чтоб ответить устами Живаго…
А вождь ухмыльнулся, когда он затих:
«Боится, – подумал, – не хочется в яму,
а мы тут не спи и решай все за них!» —
и жизнь на три года продлил Мандельштаму…
О, если б я сам эту темень сгущал!
Лишь нынче наш век недомолвок лишился.
И вышло, что прав был и тот, кто смолчал,