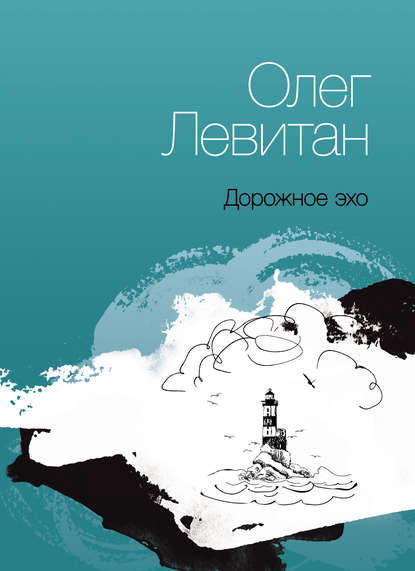По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дорожное эхо
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
два времени разных приблизив, поставив бок о бок…
Лишь в городе нашем бывает погода такая!
На кухне соседи вели коммунальную свару.
Ирина очнулась, на службу скорей побежала.
И мокрый троллейбус, кряхтя, подкатил к тротуару…
А в доме напротив – Панаева в дверь постучала.
Вскричала: «Ах, Коля, вон там – у подъезда – крестьяне!»
Потом Николай Алексеич, увлекшись сюжетом,
брался за перо, и бросал, и лежал на диване…
Ирина под вечер со мной говорила об этом.
И все, что в тот день – тут и там – не в пример суесловью
рассказано было, а также написано было —
подсказано жалостью было, а жалость – любовью,
той самой, что всех нас однажды в людей превратила.
1985
«Воробей-разбойник засвистал…»
Воробей-разбойник засвистал
у плетня, в немыслимой браваде —
в теплые заморские места
соловьев-разбойников спровадив.
Отыскав в пожухлой лебеде
семечками полную макушку —
он грозил сородичей орде,
он округу свистом брал на пушку.
Перышки взъерошил на груди:
«Чур, мое! Чур, нынче я пирую!
Эй, чувырло, чур, не походи!
Я тебе, чик-чик, поозорую!»
Так шумел разбойник у плетня,
но пора пугливых миновала —
через миг там вся его родня,
вся округа пела и клевала…
1986
Комарово
Дачный дом, покинутый людьми.
Все, как есть, исчезли в воскресенье —
с кошками, лукошками, детьми,
с банками компотов и варенья…
Дом еще не верит и беречь
сам себя старается от пыли.
В нем еще поленья помнит печь.
Стены, полки, кресла не остыли.
Но скользит по комнатам пустым
призрак запустенья и развала…
И о чем мы, право, говорим —
с нами, что ли, так же не бывало?
Шелестит впотьмах какой-то сор.
Вдоль забора – голоса прохожих.
Дом глядит с надеждой сквозь забор —
даже мало-мальски нет похожих.
Только сумрак, только дождь и грязь,
да под ветром пляшет, как живая —
перед домом, намертво вцепясь
в бечеву, – прищепка бельевая…
1986
«Вот женщина. Вот комната ее…»
Вот женщина. Вот комната ее.
Мужчина здесь – диковинное зрелище.
С таким стараньем прибрано жилье —
на кресла край присев, не пошевелишься.
Беседуешь, салфетку теребя,
и чувствуешь себя немного скованно,
хоть виды здесь имеют на тебя
и смотрят – вскользь, но заинтересованно.
Вы пьете чай, и, значит, ты не пьян,
и, значит, блажь в башку тебе не кинется.
Но если к ней присядешь на диван —
наверное, она не отодвинется.
Привычка к одиночеству. Тоска.
Согреешь ли, утешишь ли, намного ли?
На вечер, ночь? А возраст – к сорока…
И помнит всех, кто так же руку трогали.
И глупостями, брось, она сыта…
И жизнью всей, уйди, она ученая.
И неспроста – такая чистота.
И тяга к ней – почти ожесточенная…
Лишь в городе нашем бывает погода такая!
На кухне соседи вели коммунальную свару.
Ирина очнулась, на службу скорей побежала.
И мокрый троллейбус, кряхтя, подкатил к тротуару…
А в доме напротив – Панаева в дверь постучала.
Вскричала: «Ах, Коля, вон там – у подъезда – крестьяне!»
Потом Николай Алексеич, увлекшись сюжетом,
брался за перо, и бросал, и лежал на диване…
Ирина под вечер со мной говорила об этом.
И все, что в тот день – тут и там – не в пример суесловью
рассказано было, а также написано было —
подсказано жалостью было, а жалость – любовью,
той самой, что всех нас однажды в людей превратила.
1985
«Воробей-разбойник засвистал…»
Воробей-разбойник засвистал
у плетня, в немыслимой браваде —
в теплые заморские места
соловьев-разбойников спровадив.
Отыскав в пожухлой лебеде
семечками полную макушку —
он грозил сородичей орде,
он округу свистом брал на пушку.
Перышки взъерошил на груди:
«Чур, мое! Чур, нынче я пирую!
Эй, чувырло, чур, не походи!
Я тебе, чик-чик, поозорую!»
Так шумел разбойник у плетня,
но пора пугливых миновала —
через миг там вся его родня,
вся округа пела и клевала…
1986
Комарово
Дачный дом, покинутый людьми.
Все, как есть, исчезли в воскресенье —
с кошками, лукошками, детьми,
с банками компотов и варенья…
Дом еще не верит и беречь
сам себя старается от пыли.
В нем еще поленья помнит печь.
Стены, полки, кресла не остыли.
Но скользит по комнатам пустым
призрак запустенья и развала…
И о чем мы, право, говорим —
с нами, что ли, так же не бывало?
Шелестит впотьмах какой-то сор.
Вдоль забора – голоса прохожих.
Дом глядит с надеждой сквозь забор —
даже мало-мальски нет похожих.
Только сумрак, только дождь и грязь,
да под ветром пляшет, как живая —
перед домом, намертво вцепясь
в бечеву, – прищепка бельевая…
1986
«Вот женщина. Вот комната ее…»
Вот женщина. Вот комната ее.
Мужчина здесь – диковинное зрелище.
С таким стараньем прибрано жилье —
на кресла край присев, не пошевелишься.
Беседуешь, салфетку теребя,
и чувствуешь себя немного скованно,
хоть виды здесь имеют на тебя
и смотрят – вскользь, но заинтересованно.
Вы пьете чай, и, значит, ты не пьян,
и, значит, блажь в башку тебе не кинется.
Но если к ней присядешь на диван —
наверное, она не отодвинется.
Привычка к одиночеству. Тоска.
Согреешь ли, утешишь ли, намного ли?
На вечер, ночь? А возраст – к сорока…
И помнит всех, кто так же руку трогали.
И глупостями, брось, она сыта…
И жизнью всей, уйди, она ученая.
И неспроста – такая чистота.
И тяга к ней – почти ожесточенная…