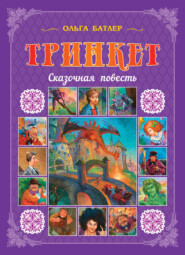По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Золотой жёлудь. Асгарэль. Рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Асина мама ласково спрашивает мужа, поглаживая его редеющую шевелюру. Он только что пришёл с работы. Его поношенная гимнастёрка пропахла дешёвым табаком, её постирать бы.
– Кроме кофе ничего нет? И где твои часики новые? – он косится на её запястье. – В ломбард снова отнесла?
– Я их выкуплю, честное слово, – виновато улыбается она.
Вздохнув, усталый Илья Игнатьевич целует руку жены и направляется на кухню – быстренько приготовить себе что-нибудь перекусить.
Может, и хорошо, что она не так часто занимается домашним хозяйством. А то один раз решила отстирать пятно с небольшого, но дорогого персидского ковра – замочила ковер в ванной и, забыв о нём, уехала на всё лето из Москвы.
3.
Внучка Аси Грошуниной показалась Лидии Николаевне типичной провинциалкой. Без провинциальной бойкости, впрочем. Не в том смысле, что все провинциалки наглые, а в том, что те из них, кто рискнул покинуть родные места ради приключений в столице, всё-таки должны отличаться особым складом характера.
Когда девушка, едва не выронив, протянула Лидии Николаевне пакет мятных «Невских» пряников, старуха сразу подумала, что эта неловкость прохладных длинных пальцев ей знакома. Гены – сильная штука.
Лидии Николаевне захотелось рассмотреть Асину внучку. Но, как ни подводила она Машу к окну, как ни тянулась незрячим лицом к её лицу, смогла увидеть только длинную светлую прядь, которую гостья то и дело отбрасывала назад, да молодой блестящий глаз.
Предложив Маше тапочки, Лидия Николаевна с некоторым московским высокомерием, в которым не призналась бы никому, даже себе, повела гостью по своей трехкомнатной квартире. Пусть приезжая девочка увидит столичный уют, трёхметровые потолки и солидную мебель. Всё добыто честно, ещё в советские времена – благодаря труду и нескольким филигранно рассчитанным квартирным обменам.
– Вот так жизнь и прошла… – хозяйка со сдержанным достоинством кивнула на семейные фото в рамочках, густо толпящиеся на буфете.
На чёрно-белых фотографиях она, юная и нарядная. В белом платье в горошек – рядом с мужем. Фото, где они молодые, живые, с блестящими, ещё не потерявшими зоркость глазами, с настоящими зубами. На пике жизни, когда всё в организме исправно работало, соки быстро бежали по телу, и страсти кипели, а объятия были жаркими.
И дальше, дальше… Жизнь идёт, фасоны меняются, но фотографии пока – чёрно-белые. В кримпленовом платье – со Светочкой и зятем. В строгом костюме, с подретушированными чертами – это была улыбка для доски почёта. И снова работа, работа – групповой снимок во время заграничной командировки, иностранный мэр с большой золотой цепью на груди вручает ей цветы и благодарственную грамоту.
На цветных снимках: Серёженька на всех этапах роста и мужания. Младенец, школьник, жених, рядом со своей Люси, и вот он уже отец, с маленькой Даниэлой на руках. Странно представить, но через двадцать-тридцать лет и эти фотографии покажутся какой-нибудь ещё не родившейся сегодня девчонке выцветшими и старомодными.
– Мужчины наши уже ушли навсегда … – со вздохом делится Лидия Николаевна. – Зять ещё нестарым был… Так что опора у нас одна – мой внук.
– Симпатичный, – вежливо замечает гостья.
Лидия Николаевна кивает с гордой улыбкой. Кто бы в этом сомневался?
– Вдобавок программист талантливый, – хвастает она и тут же тихим, но значительным голосом добавляет – на всякий случай, чтобы провинциалка не питала надежд. – Женат на англичанке!
Лидия Николаевна уже не в состоянии разглядеть эти снимки, она просто помнит их. Ведь они – доказательство её благополучной, достойно прожитой жизни. Покойный муж считался не последним человеком у себя на работе, но именно она была главной добытчицей в семье. И дочке она много дала, и внука помогла в люди вывести. Никто не был разведён, и молодые не бедствуют, не ссорятся. Разве не её заслуга?
– На работе меня уважали, на пенсию не хотели отпускать, – хвалится Лидия Николаевна, ловя себя на мысли, что отчитывается о прожитой жизни перед приезжей девчонкой, словно разговаривает с самой Асей. Но ведь Ася умерла?
– Да, умерла, ещё совсем молодой. В ссылке, в Карелии, – Маша сдержанно упомянула ничего не значащий городок, от названия которого в памяти её собеседницы в следующую же минуту осталась только первая буква «П». – Там мама родилась и я.
В девушке становится всё заметнее вежливая холодность. Или в Карелии все такие? Что ж, Россия огромна… Это на юге цыганские страсти кипят, а на севере эмоции спрятаны.
– Жаль, что она ушла так рано, – вздыхает Лидия Николаевна, но при этом думает: «Ася сама виновата. Разве не глупо выступать против системы? Кто не умеет жить по принятым правилам и использовать их в своих интересах, почти всегда погибает».
– Лидия Николаевна, вы ведь с бабушкой моей дружили с самого детства. На чердаке в какое-то королевство играли.
«Откуда эта приехавшая из Карелии девчонка столько знает?» – передёргивает плечами старуха.
– Мне просто мама рассказывала, – быстро объясняет Маша, заметив удивление собеседницы.
Лидия успокоенно кивает – объяснение принято.
– Помню что-то смутно… Страшноватой была та игра.
Чердак казался помещением запретным, таинственным. В полумраке простыни и силуэты сохнувших на верёвках мужских фуфаек словно оживали. А коты, бесшумно скользившие среди сломанной старой мебели и попахивавших дымом печных стояков, казались пришельцами из другого мира. Даже взрослые женщины боялись ходить туда в одиночку, обычно развешивали бельё вместе.
Ася выдумала Дерево, которое то лежало под землей, то поднималось во весь рост к облакам. И Лида одно время так увлеклась игрой, что стала видеть странные, с запахом сухих трав и листьев, сны. Они начинались в одном и том же подземелье, откуда вели ходы к разным дверям. Двери открывались то на вокзале, то на вершине Дерева, то в магазине, то под Новодевичьим монастырем. Но рассказывать этой девушке про свои детские сны необязательно.
– Последний раз мы виделись на Новый 1947-й год. Отмечали всей честной компанией. Ставили пластинки. Ася танцевала аргентинское танго.
– С кем?
– С одним… нашим… одноклассником, – не сразу отвечает Лидия Николаевна. – Он вернулся с фронта раненым, хромал, но у них так хорошо получалось.
Да уж, им в тот момент ничто не могло помешать… Прошедшие десятилетия снова прессуются для неё в одну плоскую секунду, и она в который раз ловит себя на оскорблённом чувстве. Эту обиду она так и не смогла простить.
Вспомнив знакомую картинку: патефон на подоконнике распахнутого окна, отставленную в угол инвалидную палочку и два тянущихся друг к другу профиля, один резкий, с зачёсанными назад волосами, другой русалочий, нежный, – старуха привычно ждет, что знакомая боль слабо сожмет её сердце. Лидия Николаевна косится на Машу: заметила ли?
– Асю вскоре после этого и сослали, – скорбно поджимает она губы.
– Жалко, конечно… Она очень жадная до жизни была. Мечтала стать писательницей, актрисой, режиссёром – всем одновременно.
– У вас снимков её не сохранилось?
– Валяются где-то на антресолях. Я внука попрошу поискать, – обещает Лидия Николаевна, ещё не до конца уверенная, надо ли ей снова встречаться с этой девушкой. – Значит, вы бабушку свою никогда и не видели? Я вам расскажу, что Ася очень красивой была. Сегодня могла бы пойти в модели.
Если б захотела… Но Лидия Николаевна не рассказывает Маше, что по тогдашним обывательским меркам её бабушка была, как бы сказать… не очень. Асю дылдой обзывали.
Едва «питерская» появилась в их классе, всё в её внешности – длинные конечности, не по-московски прозрачные глаза, светлые волосы, которые она зачем-то мыла каждый второй день, хотя все нормальные люди мылись раз в неделю, почти мужская неряшливость в одежде – всё сообщило одноклассникам, что перед ними чужая.
Когда вдруг стал очевидным Асин талант к литературе, одна девочка, напрягая свой узкий лоб с единственной морщинкой, раскритиковала сочинения Грошуниной за то, что та слишком умничает. И заодно обсмеяла Асину необузданную манеру танцевать. «Жалко мне тебя, – получила она в ответ. – Твой дух приземлён и убог, и жизнь твоя будет такой же».
Потом Мальков получил отпор. В тот день Асин сосед по парте плевал в неё комочками мокрой бумаги. Они застревали у Аси в волосах или, срикошетив от лица, падали на пол. Один шарик угодил ей в глаз, и тут словно кто-то вселился в новенькую – она развернулась, бешено замолотила своими длинными руками по физиономии соседа. Мальков растерялся, почти заплакал, потом тоже размахнулся… и замер с испуганным лицом. Это Вова перехватил его руку. С тех пор Грошунину не обижали.
Лидия Николаевна как сейчас видит: вот они вдвоем с Асей идут из певческого кружка – знакомой улочкой, мимо домиков с деревянными надстройками, где потемневшие наружные лестницы заходят на вторые этажи, заканчиваясь там маленькими тамбурами. Деревья выше домов, во внутренних двориках сохнет бельё, перед частными сараями вросла в землю давно брошенная телега.
Девочки с любопытством заглядывают в подслеповатые окна этих ветхих человечьих гнезд, подсматривая чужую жизнь. Ася небрежно шагает через лужи. А Лида, подлаживаясь под широкий шаг подруги, старается не попадать в грязь своими единственными, чинеными-перечиненными туфлями. У неё из головы не выходит песня про картошку, которую только что репетировали в кружке. Её насмешил незнакомый куплет, который неожиданно для всех исполнила Ася.
Поулыбавшись и тихо промурлыкав «здравствуй, милая картошка», Лида сообщает подруге:
– Я с Вовкой Римаковым в трамвае вчера ехала. Он заметил меня – покраснел, как рак варёный…
В том же трамвае она видела соседку Грошуниных по коммунальной квартире, Домну. Приняв деньги от пассажиров, Домна уселась на своё высокое сиденье кондуктора, лицом к вагону, и зевнула широко, как бегемотиха. И, когда вслед за ней культурные дамы в шляпах тоже начали растягивать свои накрашенные губки в безобразной зевоте, Домна злорадно ухмыльнулась.
– Ась, я в пионерский лагерь не поеду. Мы в июне в деревню собираемся, – Лида перескакивает не только через лужи – с новости на новость.
Но подруга её не слышит. Она опять сочиняет сказку.