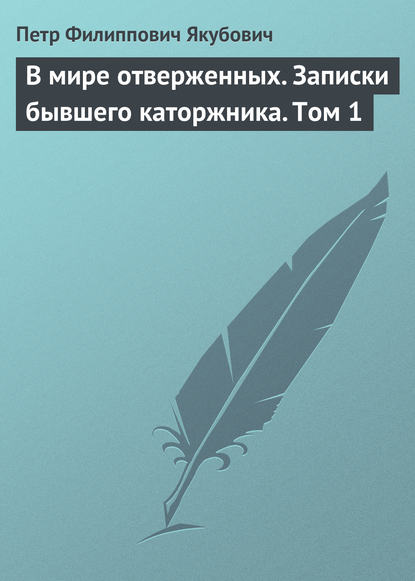По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
Автор
Год написания книги
1896
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К сожалению, большому самолюбию не соответствовали ни размеры ума, ни способности. Петин, подобно Сокольцеву, имел на плечах больше тридцати лет каторги (которую он к тому же только что начинал) и среди не знающих его людей пользовался славой большого "громилы". Прозвище Сохатый, данное ему за частые побеги из тюрем, было известно по всей Сибири. Однако слава эта была, в сущности, дутая… Прежде всего у Петина не было никакой самостоятельности характера. Постоянно находясь под влиянием какого-нибудь "поддувалы", в товариществе он действительно отваживался на самые дерзкие поступки, вроде неоднократных побегов среди белого дня из-под самого строгого караула; "он, предоставленный самому себе, один он вел себя на воле самым нелепым образом, шел тотчас же домой, где его искали ("к матери за нитками" – шутили про него арестанты), и, конечно, попадался в руки полиции. Обладая широким горлом, здоровым кулаком и страстно желая играть в тюрьме роль заправского ивана и коновода, он имел, в сущности, нрав теленка, был довольно недалек, вял и сонлив и потому, всегда и во всем шел в хвосте других. "Настоящие" арестанты, к которым он льнул, ценили его невысоко и часто в глаза звали "дешевкой". В ученье Петин оказался точь-в-точь таким же, как и в жизни. Ему хотелось сразу все обнять; к упорному труду и медленному движению вперед, шаг за шагом, он чувствовал положительное отвращение. Прочесть мало-мальски толстую книгу для него был непосильный подвиг. Тем не менее сам он был чрезвычайно высокого о себе мнения и на других учеников, начавших с азов, но благодаря способностям и усидчивости угрожавших вскоре догнать и опередить его, глядел с величайшим презрением.
Между прочим, с Луньковым, другим моим учеником, у него шла постоянная война и соперничество, начавшееся еще в дороге. Луньков был совсем молодой паренек, лет двадцати трех, маленького роста, безусый, несколько сутуловатый, но хорошенький, как девушка, острый в движениях и бойкий на язык. Это был своеобразный субъект, жестоко ненавидимый такими иванами, как Петин. Дело в том, что Луньков, подобно Михайле Буренкову, презирал арестантов и отвергал все обычаи тюремной жизни, раз они шли вразрез с его личной пользой и взглядами. Но Михайла был скрытен только в исключительных случаях обнаруживал свои индивидуалистические взгляды и склонности; напротив, Луньков отличался вредной для себя говорливостью и откровенностью. Несмотря на свою крошечную фигурку небольшую физическую силу, он безбоязненно резал он каждому в глаза то, что думал, не останавливаясь ни перед угрозами, ни перед затрещинами и не отступая перед рукопашными схватками с самыми первыми силачами и хватами. Эта невыгодная для самого себя смелость как-то странно соединялась в нем с трезвой практичностью, которая, несомненно, была основной, чертой его ума и характера; во многих отношениях Луньков был то, что называется – из молодых, да ранний. В другой тюрьме его, конечно, забили бы и он принужден был бы смириться, но в Шелайской были все острижены под одну гребенку – и великаны, и карлики, и глупые и умные. Самый последний парашник имел здесь такой же голос, как и самый первый глот и храп, что, конечно, было большим достоинством шелайского режима. Со злобой глядел Петин на своего пигмея-соперника, делавшего быстрые успехи в ученье и хвастливо ждавшего, что скоро он оставит его позади. Петин, с гордостью называвший себя и Михаилу Буренкова "старшими учениками", а всех остальных "младшими", ни за что не хотел этого допустить. Забавны бывали их стычки за вечерними занятиями.
– Пошел, болван, прочь, теперь старший ученик будет заниматься! – рычал Сохатый, сверкая своими телячьими глазами.
– Я тебя, брат, не боюсь, чего ты рычишь? – пищал маленький Луньков, немного отодвигаясь. – Места всем хватит, садись. Только без пользы тебе наука.
– Как это без пользы? Знаешь ли ты, болван, что есть имя существительное?
– Я в свое время узнаю, не беспокойся. А вот как ты-то старший ученик, вчера "св
тлый" через е написал?
– Осел! Описка была. Сволочь тюремная, трепач, мараказина!
– Петин, зачем вы ругаетесь? – вмешивался я в спор. – Это уж нехорошо.
– Ничего, Иван Николаевич, – спокойно отвечал Луньков, – пущай ругается. Его брань у меня на вороту не повиснет. Тем более, я хорошо знаю, что сам он – вечный тюремный житель, а я таких не обожаю. Это ведь у дураков только громким считается его имя: Со-ха-тый! А я знаю, чем он и дышит даже, этот Сохатый.
– Чем я дышу? Говори.
– Дешевизной ты дышишь, вот чем.
– Какой дешевизной, болван?
– Такой. Я ведь хорошо знаю, что ты на воле делал, из-за чего в каторгу пришел.
– А ты из-за чего? Ты что делал? Ты хвосторезом был. Ты в Красноярске с дохлых лошадей шкуры снимал.
– Случалось, и снимал, не таюсь. Только девушек я не насильничал, не хватал в охапку и не волок в кусты. В дороге я партионных денег не проигрывал, как другие прочие.
Чем дальше, тем жарче разгорался спор и кончался иногда потасовкой. Побитый Луньков плакал со злости, но смириться не хотел перед нахалом Петиным. Впрочем, у последнего даже для нахальства и озорства не хватало на долгое время энергии и терпения. Скоро он впадал в обычную апатию, спал по целым суткам и надолго забрасывал всякое ученье и самолюбивые мечты… Такое настроение овладевало им после каждой крупной ссоры. Тогда в камере водворялись мир и спокойствие, Никифор давно примирился с мыслью, что брат обогнал его, и прежних сцен ревности уже не устраивал. Все ученье его ограничивалось теперь одним чтением.
Об успехах Маразгали и о том, что успехи эти остановились благодаря незнанию русских слов и он охладел к грамоте, я уже рассказывал. Что касается Ногайцева, тот оказался изрядным тупицей и не обещал пойти дальше чтения по складам. Своеобразной любознательностью отличался, между прочим, этот сонный и ожирелый мозг.
– А что, Иван Николаевич, бывают прокуроры из хохлов? – обращался он вдруг ко мне с вопросом, встретив на клочке найденной где-нибудь печатной бумаги слово "хохол". Или еще:
– Иван Миколаевич! Вот тут сказано, что в России царствовал Алексей, а в Китае была династия… Православное это имя Династия или нет? Подобно гоголевскому Петрушке, он с равным, наслаждением читал все книги и бумажки, какие только попадались под руку.
При подобном характере моих учеников не мудрено, что главное внимание я сосредоточил, кроме Михайлы Буренкова, на усердном и способном Лунькове. Между прочим, интересовало меня и его прошлое. Благодаря говорливости Лунькова, вечера наши превратились вскоре в настоящие судбища. Я был следователем, Чирок. моим помощником, Сокольцев, земляк Лунькова(воронежский уроженец), свидетелем, Петин прокурором, а вся прочая камера – публикой, живо интересовавшейся малейшими подробностями прений. Оказывалось, что несмотря на свою молодость, Луньков был уже рецидивист.
– Только я дурно попал, Иван Николаевич, этот второй раз в каторгу, – с грустью рассказывал Луньков.
– Как то есть дурно?
– Да так, что за пустяки, безо всякого интересу.
– Как за пустяки! Ведь вы, говорят, человека убили?
– Что же из того, что убил. Я из-за его, из-за сволочи, по крайней мере тринадцать лет должен в каторге мучиться, одних испытуемых семь лет;[58 - Рецидивистам испытуемые сроки (всегда сравнительно длинные) назначаются самим судом. (Прим. автора.)] а он-то теперь спит, ему ничего.
– Расскажите подробно, как было дело.
– Я, Иван Николаевич, не скажу, что в первый раз Расеи задаром в Сибирь пришел. Тогда действительно по глупости по своей от отца отбился, с людьми такими связался… Ну, а что теперь – так совсем ни за что пропал, уверяю вас! Из-за карахтера своего, конечно. Сердце у меня, сами можете видеть, нетерпеливое, не стерплю, чтоб какой-нибудь храп (многозначный взгляд в сторону Петина) жизнь свою надо мной куражил. Пущай лучше он меня убьет или я его!..
Я в Енисейской губернии, поселенцем будучи, мелочью торговал. Накупишь, знаете, разного дешевого товару, ситцу, бус, иголок, серег, колец, и ходишь с коробом по деревням, от бабочек хлеб зарабатываешь. Вот однажды обращается ко мне этот… убивший… то есть убитый: "Позволь мне, Коля, походить вместе с тобой, торговать поучиться. Я хоть и старый человек, а в делах этих ничего не смыслю". А я, надо вам сказать, мало и знал-то его до тех пор, и, признаться, не по душе он мне был: взор такой нехороший, угрюмый… Однако, думаю себе: мне-то что? Дорога не моя – божья. "Иди, говорю, коли хочешь. Я в понедельник отправляюсь". А это было в субботу. В понедельник рано утром он приходит ко мне, тоже с коробом за плечами. Пошли мы и так с неделю ходили вместе. Он идет за мной, молчит все больше. А то начнет ворчать про себя, что неладно идем, не той дорогой, как следует. Я внимания не беру, скажу только разве: "Мы, дяденька, не связаны; не нравится тебе – своей дорогой иди". Он и замолчит. При мне к тому же всегда в дороге левольверт. Без него я не ходил. Накануне убивства ночевали мы у одной знакомой вдовы. Утром пробудились, я завтракать себе заказываю; сажусь есть и его приглашаю, убитого. Он отказывается: "Не хочу", – говорит. "Чего ты, дедушка, пасмурный такой?" – спрашивает его хозяйка. "Ничего, говорит, так. Сон я чудной видел: будто снег большой выпал, и на дороге бревна лежат". "Да, – отвечает хозяйка, – сон не то чтобы из приятных". Вот как сейчас, Иван Николаевич, я эти слова ее слышу: "сон не то чтобы, говорит, из приятных". И к чему ему такой сон в ту ночь приснился? Неужели душа его чуяла что-нибудь такое?
– Ну, рассказывайте дальше.
– А в эту ночь, точно, снег глубокий выпал, чуть не по колено. Вот отправились мы в путь-дорогу. Я впереди, как всегда, он сзади. Не успели за поскотину выйти, он заспорил. "Куда ты, говорит, идешь?" Я говорю, на Лесное. "Дурак, Лесное не на этой совсем дороге лежит, а вон на той", – и показывает мне чуть видную тропочку, по которой мужики по дрова в лес ездят. "Иди, говорю, туда, а я своей дорогой пойду". Он хвать меня за короб: "Ты что, говорит, все грубишь? Я наскучил этим". Я обернулся: "Отстань, говорю, от меня, не вводи в грех. Я тоже тобой наскучил. Мы, значит, не товарищи больше. Ступай от меня" и хочу идти. Он из себя выпрягся, дорогу мне загораживает: "Иди, говорит, куда старшие велят." Тогда я вынимаю левольверт. "Вот кто у меня старший! Прочь с дороги, тварь этакая!".Он замахнулся было палкой, но тут я стрелил… Гляжу, – он и шлепнулся наземь: пуля прямо в левый сосок угодила… Пощупал я его – мертвый. Отволок в сторону от дороги, засыпал малость снегом и пошел дальше. Только с горки спущаюсь знакомый мужик навстречу едет: "Что тут, Луньков, за выстрел ровно был?" "Ничего, – я говорю, – не слыхал; видно показалось тебе". Пошел дальше – еще несколько мужиков встречаю. Сердце у меня так и кипело, кровью обливалось. Ну, думаю, теперь я пропал! Надо скрыться… Продал поскорей короб, взял чужой паспорт и укатил верст за сто от того места. Только паспорт-то этот и погубил меня: человек ненадежный дал. Арестовали меня, привезли в волость. Повели в помещение, где мертвец лежал.
"Тот ли это, – спрашивают, которого ты убил?" Я посмотрел, посмотрел на него… Лежит как живой: борода с сединкой, и на груди раночка махонькая… Взял я его за бороду и к свету этак повернул. Еще посмотрел, посмотрел… Да как размахнусь вдруг ногой да хвачу его в подбородок носком: "Заодно уж пропадать мне за тебя, сволочь! Ну, тут схватили меня, увели, протокол составили.
– Зачем же вы, Луньков, такую гадость сделали? убили ни за что, да и над мертвым еще надругались?
– С сердцем, Иван Николаевич, ничего не поделаешь. Я и до сих пор, как вспомню об этом, задрожу… Раз во сне привиделся…один только раз за все два года. Приходит, стоит, и глядит на меня… "Ты зачем, – спрашиваю, – пришел?" Молчит, только бородой на меня трясет – этак упрекает ровно: "А, говорю, подлец, ты еще смеяться надо мной?" Схватываю топор и ним. Он прочь. Как убежал, с тех пор и не приходил больше. Меня ведь за поругание-то, Иван Николаевич, и осудили так строго; а то разве б дали тринадцать лет при полном сознании?
– Ну, а теперь я скажу свое мнение, – начал Чирок по окончании рассказа, – все ты врешь. Не так убил ты старичонку, а за короб убил!
– Да, за короб, как же! При нем, как подняли его, всё так и нашли в том самом виде, как было: и короб с товаром и денег четыре рубля девяносто копеек.
– Сказывай! Я тебя знаю…
– Много ты знаешь! Я тебе свидетелей представлю, из красноярских же, и в Алгачах и в Александровском централе. Да чего далеко ходить? Здесь же вон у Степки Челдончика спроси…
– Я тоже красноярский, – закричал вдруг Петин, – тоже свидетелем могу быть. Конечно, за короб убил старика!
– Тебя я отвожу, – спокойно возразил Луньков, – ты мне враг. Ты можешь еще и новое убивство на меня открыть.
Все разразились хохотом. У Петина не хватило пороху продолжать лжесвидетельство.
– А раньше за что вы попали в Сибирь? – спросил я Лунькова.
– Раньше, Иван Николаевич, за дело, – отвечал он, глубоко вздыхая, – там все-таки я себя, а не судьбу должен винить.
– Ну, рассказывай, землячок, толком, – заметил Сокольцев, – тут я уж не дам тебе соврать. Как раз об эту пору я с Кары сорвался и на уличку в воронежский замок приведен был.
– Чего мне врать, – грустно ответил Луньков, – коли врать, так и не говорить лучше.
– Вы и в первый раз, Луньков, за убийство судились?
– Зачем, Иван Николаевич! Так, за шалости за разные…
– Как! Ты смеешь отпираться, болван? – грозно кинулся к нему Петин, вытаращив глаза и стиснув кулаки, – а не сам ли ты сказывал при мне в шестом нумере, что девчонку убил?
– Этого я не считаю, – хладнокровно отвечал наш обвиняемый, – это была малолетняя шалость, об ней нечего поминать. За нее я не судился.
– Все-таки… как вы убили ее?