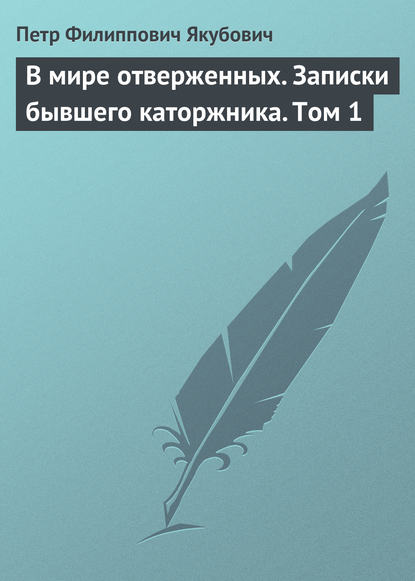По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
Автор
Год написания книги
1896
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В один прекрасный мартовский день точно электрическая искра пробежала по тюрьме: прошел слух, что получился наконец список тринадцати человек, подлежащих отправке на Сахалин из Шелайского рудника. Все сразу затихло, все как бы ушли в глубь себя, изредка только и потихоньку сообщая друг другу догадки, кто бы могли быть эти тринадцать человек – по мнению одних, несчастливцев, по мнению других – фартовцев. В этот день насилу дождались вечерней поверки. Можно было бы услышать полет мухи – так было тихо, когда Лучезаров, явившийся сам на поверку, громогласно объявил после молитвы, что ровно через неделю отсылаются на Сахалин все уроженцы Забайкальской области в числе тринадцати человек, между прочим и братья Буренковы. Один только Дюдин каким-то образом затесался в эту же категорию, хотя вовсе и не принадлежал к ней.
Объявление это было для большинства ударом грома с безоблачно ясного неба. У одних вырвался из к груди глубокий вздох облегчения, у других – почти крик ужаса, у третьих – проклятие досады и разочарования.
– Господин начальник! Ведь мы семейные, – заговорил жалобно Никифор, – жены, детишки маленькие… К тому же их нет при нас… Да и срок совсем к концу подходит.
– А нас как же нет? Мы ведь просились! – загалдели долгосрочные.
– Молчать! Что за манера говорить всем разом? Ждите, когда начальник объяснит. В нынешнем году нет требований на Сахалин из других категорий. Поверьте, что я сам был бы рад отделаться от многих из вас. Я посылал список всех артистов, которые не ко двору в моей тюрьме, но, к сожалению, пока берут одного только Дюдина. Что касается малосрочных и семейных, вроде Буренковых, то положение их действительно печально. Но ничего не поделаешь: закон! Надо покориться. Я тут ни при чем. Одно могу вам посоветовать: телеграфируйте немедленно женам, чтобы собирались в путь. В Усть-Каре вам придется, вероятно, долго сидеть, и они могут вас догнать.
– А если хлопотать, господин начальник, – робко заговорили малосрочные, – ежели телеграмму отбить господину губернатору?.. Детишки, мол, малые, жены больные… Может быть, снизойдет, оставит.
– Напрасно деньги потратите. Закон не может быть отменен:.уроженцы Забайкальской области должны быть поселяемы на Сахалине.
– Все-таки попробовать бы, господин начальник. Лучезаров пожал плечами:
– Пробуйте, пожалуй. Надзиратели, разводите арестантов по камерам.
В нашем номере не спали в тот вечер до глубокой полночи. Чирок предавался безумной радости, со всеми заигрывал, возился и ядовито подсмеивался над теми, которые другим яму копали, подметные письма и прошения сочиняли и вдруг сами в беду втюрились. Никифор и Михаила были вконец убиты… Петин, Ногайцев и Сокольцев, мечтавшие о Сахалине, раньше всех утешились и начали строить другие планы отбиться от Шестиглазого и его тюрьмы.
На другой день Буренковы отправили в Троицкосавск телеграмму женам. Двое других из назначенных к отправке послали по телеграфу же прошение губернатору. Не знаю, отослал ли Лучезаров это прошение, только четыре дня спустя он коротко объявил им, что получился отказ… Буренковы сильно волновались, долго не получая из дому ответа. Никифор прямо заявил, что ли жена почему-либо откажется за ним ехать, тогда и пропащий человек.
– С дороги беспременно бегу и заявлюся к ней… А, – скажу, – сволочь, ты думала – отправила меня на Сахалин, так и отвязалась? На вольной волюшке хотела пожить? Нет, шалишь. Я – вот он. Меня и цепь удержать не смогла". Я, ведь, братцы, и в сам-деле… Коли уж решусь на что, так я духовой парень! Ничего тогда не боюсь – ни людей, ни самого бога. Коли приду и замечу в ей неверность али там баловство какое, так того разговаривать не стану: живо и голову подлой прочь! Знай наших, соколинцев! Ну, а ее побью – и ребятишек тоже побью. Не дал бог отцу талану, не копите и вы свет белый, не будьте такими ж несчастными…
– Полно, Никифор, – возражал я, – вы сами не верите тому, что говорите. Жена, конечно, пойдет за вами в огонь и в воду.
– Это верно, положим… Оно нужно бы так думать, Миколаич, что пойдет… Только все же сумление иной раз берет… Завтра пятый уж день, как телеграмма отбита, а ответа нет.
– Ничего, придет еще… Расскажите лучше, как вы поженились: отцы вас сосватали или как?
– Мы убегом, Миколаич… У нас это часто бывает, у семейских. Помнишь, ты романы нам разные читал и рассказывал? Так ты, поди, думал, это в вашем только быту любовь там разная водится, а мы, простые мужики, как скотина, живем? Нет, и у нас, брат, то же бывает… Но про себя вот, коли хочешь, расскажу.
VI. Роман Никифора. Отправка
Наши две семьи – моя, отцовская, и Настькина, женина, – страшеннейшую вражбу промеж себя имели, так начал Никифор свой роман. – Отцы-то и матери видеть друг дружку спокойно не могли, зубами скрыжетали… Не могу обсказать хорошенько, из-за чего вначале у них пошло, я еще махонький об ту пору был. Только и мы, конечно, ребятишки, большим подражали. Я Настьку-то не раз, признаться, колачивал… Словлю где-нибудь одну – и сейчас в волосья ей, а то песком всю обсыплю. Только она, бывало, никогда не заплачет, разве со злости уж, что защититься нет силы… Дерется тоже, кусается, стервенок, разалеется вся… Ну только в окончание всего я, разумеется, накладу ей. Жалиться она тоже не любила, никогда, бывало, отцу-матери не. скажет, что я побил, потому мне тогда все ж бы и мои старики спуску не дали, даром что со взрослыми во вражбе жили. И боялась же меня Настька: завидит, бывало, издали и наубёг… Бежит, бежит, падает, подымается, опять во все лопатки жарит. Я маленький-то варвар ведь был, вот у Михаилы спроси. Он помнит. Он сам меня не однова за уши дирал. Ну, вестимо, как подросли мы оба с Настькой, драться перестали – совестно уж было… И Настька бегать от меня не стала: только пройдет мимо – глазом, бывало, не моргнет, не поглядит… Ровно незнакомые. Как царевна какая мимо идет. С другими подростками, товарищами моими, и шутки всякие шутит и любезничает (подростки тоже ведь как взрослые себя держат, особливо девки), а меня ровно и нет для нее. Я инова скажу что, мелким бесом подъеду… Ни-ни! Разве глазом только обожжет, ненавистливо таково поглядит! Стал и я тогда в амбицию вламываться, озлился. Раз весной (мне уж шестнадцать лет было) я на коне верхом ехал, а Настька с матерью навстречу в гости куда-то шли. День был праздничный; обе нарядные такие, расфуфыренные… А на улке грязи было, грязи – не приведи бог, потонуть можно. Как закипит во мне злость! Как приударю я коня плетью, да мимо их: всех с ног до головы грязью залепил! Девушки кругом, ребятишки, парни смех подняли… Настькина мать кричит: "Ловите, держите разбойника!" Где тут? Меня и след давно простыл. После того долго мы не встречались. Самому мне как-то совестно стало: завижу где – и в сторону ворочу. А коли неминуче где встренемся, среди хоровода, в молодяжнике, так я стараюсь уж и не глядеть, с другими девушками любезничаю. А только пала она с той поры мне на сердце… Бравая была девка, нечего говорить. Вот Михаила знает, не даст соврать… Даже говорить смешно: сплю, бывало, а сам во сне вижу, обнимаю, словами приятными называю… Вот, ей-богу, не вру! А поутру встану – сердитый, на свет бы белый не глядел. Ну, словом, буква в букву со мной так выходило, как в тех романах, что ты читал, Миколаич… Вот она, любовь-то, что значит! Стал я, прямо надо сказать, сохнуть по Настьке. Думаю: видно, приходится покориться, прощенья, что ли, просить; может и согласится замуж пойтить. А потом опять сумление найдет: шибко уж, думается, злобится на меня, забыть не может, как девчонкой еще забижал я ее и как при всем народе потом осрамил – грязью обрызгал. Она на память крепкая, недаром гордости в ей столько, никогда не жалилась на меня, как маленькая была, даже плакала редко. Раз возвращаюсь домой с охоты. За утками весной ходил. Бреду по берегу речки, по-за кустами, гляжу – Настька белье на плоту колотит. Забилось во мне, признаться, сердце… Закрутил ус (а ус-то только что пробиваться зачал), поправил ружье на плече и подхожу прямо к ней.
"Здравствуй, говорю, Настасья!" В первый раз за всю жизнь так к ей обращаюсь. Она как испужается (не заметила, вишь, как я подходил) и валек даже из рук выронила… Ой, говорит, как ты испужал меня, Никифор!" И губы прикусила, что невзначай имя мое сорвалось. Замолчала, стала белье выкручивать. Я остановился подле.
"Ты, – спрашиваю, – шибко серчаешь на меня, Настя?"
Не отвечает.
– Видит бог, говорю, каюсь перед тобой, за все каюсь говорю, а у самого глотку будто перехватил кто) – прости, Настасьюшка!" Не глядит, белье продолжает выкручивать.
'Чего, говорит, мне серчать? Дороги у нас разные, делить нам нечего".
"Неужто таки нечего? – спрашиваю. – Ты вот говоришь, не серчаешь, а сама даже и не взглянешь на меня".
Взглянула – и засмеялась… Так засмеялась, что и во мне ровно: все засмеялось, ровно солнышко взошло на душе – так светло стало.
"Узоров на тебе, говорит, не написано, чего мне глядеть.?"
Посмелел я, еще ближе подошел. "Вот что, говорю, Настя, я без тебя жить не могу. Пойдешь за меня?"
Она того пуще рассмеялась.
"Вот что выдумал! Маленькую бил, забижал, недавно еще при всем народе срамил, а теперь сватает! Что ж, шибко ты любить меня стал бы?"
И руки в боки подперла, глядит на меня – огнем жжет, а сама хохочет. Света я тут божьего не взвидел, схватил ее за руку, обнять хотел… Прочь от себя оттолкнула, осерчала, аж потемнела вся…
'"Ты что это, говорит, обо мне в голову свою дурную забрал? Гулящей меня, што ли, считаешь? Так знай же, говорит, Микишка: не видать тебе меня как ушей своих! Никогда не владать тебе мной! Ни за что на свете не обмануть меня!"
"А не боишься, – спрашиваю, – что убью тебя? Сейчас вот убью и себя и тебя?" И ружье с плеча сымаю…
"Стреляй, говорит, не боюсь, хоть сейчас стреляй!" Сама руки накрест сложила и стоит. Ажно заплакал тут я, не вытерпел и убежал домой.
Ушел я после того на прииск. Все лето так чертомелил, что не знаю, как у меня спина не треснула. Мне с ребятами пофартило: много мы золота намыли. В полтора каких месяца на мою только долю с тысячу рублей пришлось – и зачал я гулять. Пил без просыпу, буянил, распутничал, деньги как щепки швырял во все стороны… От лавок до кабака дорогу ситцами дорогими выстилал: не хочу, мол, по грязи идти! Дошли слухи до нашего места: Микишка, мол, совсем пропал, замотался. А я нарочно еще всем робятам, которые домой шли, наказываю: "Кланяйтесь, мол, родным и знакомым, прощенья у всех друзьев и товарищев просите, коли зло какое на мне помнят! Больше меня не увидят. Не жилец я на белом свете. Вот только деньги последние догуляю".
Да и в сам-деле, братцы, дурные мысли в башке ходили. Просыпаюсь раз утром посередь улицы, оборванный, грязный, в крове весь, черт чертом… В кармане хоть шаром покати, и кошелька даже нет. Босиком; головушка трещит. Ну, теперь, думаю, пора: камень теперь на шею, да и в Чикой-батюшку!..[39 - Чикай – река в Забайкальской области.] Сижу это посередь дороги, думаю. Раным-рано. На улице ни души. Солнышко из-за сопки встает. Радошно таково, светло в мире божьем… И вспомнилась мне Настька опять… Будто слова ее слышу: "Как ты испужал меня, Ники-фор!" Вижу будто, как глянула на меня, рассмеялась…
"Эхма! – думаю. – Прежде чем помереть, пойду еще хоть глазком одним погляжу на нее, прощусь". Как был, в том самом виде встал на ноги и в один день без малого пятьдесят верст пешком откатал. Прихожу в село – уж вечер на дворе, все спать полегли. Я прямо в их огород залез и к окну Настькиной горенки подхожу. Смотрю – окно раскрыто, сама в одной сорочке у окна сидит. Я, как провидение, черт чертом, в пыли весь, в грязе, с ногами в, крове, и появляюсь перед ей… Она было айкнуть хотела, прочь от меня; да я за руку изловчился.
"Не кричи, говорю, родная, не пужайся, я проститься только пришел. Ты видеть меня, злодея, не можешь, а я иссох по тебе и жить без тебя не хочу… Взглянуть только и остатний раз пришел… Камень на шею – и в воду… Прощай!"
И хочу уходить. 'А она уж, гляжу, сама меня не пущает….
"Стой, – шепчет мне, – я тебе всю правду истинную скажу. Я сама без тебя пропадаю… Думала, тебя уж и на свете нет из-за меня, постылой, и тоже жизни решиться хотела!"
"Ой ли? Значит, пойдешь за меня?"
"Хоть сейчас на край света'! Я с той поры еще, Микишка, об тебе одном думаю, как ты меня девчонкой колачивал и забижал".
Того же разу и порешили мы уходом обвенчаться, потому родители наши ни за что не дали бы согласия. Так и сделали, вот Михаила помнит. А потом, как дело сделано было, и старики, глядишь, смягчились. Тем и вражба прежняя кончилась, из-за нас с Настькой все помирились. Вот времечко-то счастливое было, Миколаич! Я, знаешь, для того ведь больше и писать-то хотел учиться, чтоб жизнь свою тебе описать!
Никифор говорит все это в сильном волнении, расхаивая большими шагами по камере с заложенными за спину руками и с огнем в голубых глазах. Какая-то благородная вспышка освещала все лицо его, оттененное длинными белокурыми усами, и выпрямляла высокую, костлявую фигуру.
– Вишь ты, гад, в бабу как врезался! – насмешливо заметил Чирок, внимательно слушавший рассказ Буренкова. – Еще описать ему нужно… Чего тут описывать? Дурак ты был – вот и все: из-за девки топиться вздумал! Не знал ты еще, чем они дышат, твари!
Сокольцев, Железный Кот и другие подхватили слова Чирка и стали пространно развивать их, рассеивая мало-помалу очарование простого и трогательного романа, рассказанного Никифором. Но последний, казалось, не обращал внимания на циничные замечания и шутки товарищей и в глубоком раздумье продолжал ходить по камере. И я с невольной грустью размышлял о том, как несчастно сложилась судьба этого человека, от природы столь прямого и симпатичного.
– Вот видите, Никифор, – сказал я ему в утешение, – разве можно сомневаться, что такая жена никогда не изменит?
– Никишка, вестимо, зря об своей бабе ботает, – подтвердил и Михаила. – Настасья женщина вовсе отдельная. А вот моя баба – это в сам-деле змея подколодная. Она, я знаю, откажется ехать. И дурак я был, что деньги согласился на телеграмму бросить! Она небось рада теперь радехонька, что меня на Сахалин упрут: оттуда, мол, уж не сорвется мил дружок! Ну, да и я тоже печалиться об ей шибко не стану, кланяться не буду!
– А вы разве, Михаила, не так жену свою брали, как Никифор?
Михаила тихо засмеялся. Никифор отвечал за него:
– Его силком мать женила… Он с другой раньше. жил… За ним тоже ведь все девки увивались, потому и молодец был из себя и жил справно.