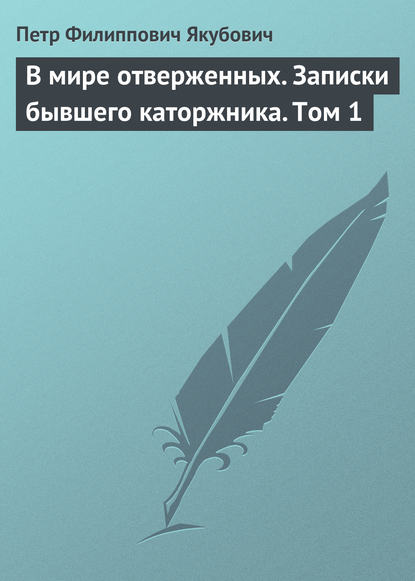По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
Автор
Год написания книги
1896
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Но она-то не силой за него шла? Может быть, и поедет?
– Коли прежде не поехала, – отвечал сам Михаила, – теперь тем более не поедет. Сахалин! Неведомая земля! Там ведь люди с собачьими головами живут – наскажут старухи разные, – на что тебе ехать за им, варваром? Там солнышко божье не светит, круглые сутки ночь стоит… Не силой, говорите, замуж шла? Ха! Так тогда ведь у меня деньги были, руки не связанные, да и в лице-то кровь играла… А теперь я на старика без малого нахожу уж, а ей-то на воле, на хлебах-то моих даровых, плясать еще, пожалуй, охота…
– Это правду Михаила говорит, – подтвердил и Никифор, – бабы ведь какой народ? С глаз ты у их долой – и уж из ума вон. А тут еще старухи проклятые отпаривать зачнут. Ты еще не знаешь, Миколаич, наших старух? Ведьмы ведьмами – только что хвоста разве нет… Вот и за свою Настьку я потому же боюсь… Хоть бы Михайлину жену взять: если сама не надумает ехать, то уж обвязательно и мою отговаривать зачнет, чтоб одной людей не совестно было!
Я переводил разговор на то, как Буренковы пойдут дорогой, как на Сахалине жить станут. Что касается, впрочем, Никифора, то это был человек момента, обстоятельств и посторонних влияний, и если бы даже он клясться и божиться начал, что мошенничать больше не будет, то слова его не имели бы ровно никакого значения. Я мог одного только желать для него от всей души, чтобы условия новой его жизни сложились по возможности благоприятно для честного существования, и первым из таких благоприятных условий была бы, по моему мнению, забота о семье и общая жизнь с нею. Никифор сам хорошо сознавал, что он человек минуты, и в те же дни перед расставаньем рассказал о себе один смешной, о характерный для него анекдот.
– Шли мы раз с Михайлой с приисков и подошли к широкой речке, у которой, однако, брод был. Я первый разулся, разделся и говорю Михаиле: "Я тебя так на спине перенесу, не раздевайся". Сурьезно это говорю, думаю: перенесу и впрямь. Он сдуру-то поверил, да и залез мне на плечи. Вот отошел я от берега шагов тридцать, на самое глубокое место забрел, да и раздумал. Знаешь, говорю, что? Я пристал". – "Ну ничего, говорит, как-нибудь доволокешь". – "Нет, говорю, пристал, не понесу дале. Сяду". Да и зачал садиться в воду… Как он закричит: "Сдурел ты, Микишка, што ли?" А я знай себе сажусь. Выскочил из-под его, да и наубёг. Он дьявол дьяволом вылезает со дна: вода с одежи рекой течет. Хохот на берегу! С тех пор и говорит про меня Михаила, что мысли у меня доле тридцати шагов не держатся…
Слова Михаилы имели несравненно больший вес и значение, и мне не казалось, например, в его устах пустым "ботаньем", когда он рассказывал, что больше из злобы, чем из корысти, начал мошенничать. По его словам, он был уже женатым человеком, когда родная мать, поощряемая враждебно относившимся к нему дядей, настояла, чтобы мир публично наказал его розгами. Больших провинностей за ним в то время не числилось, но дядя убедил глупую старуху, что сын может вконец разбаловаться, если распустить вожжи. С негодованием, сохранившимся еще и теперь, по прошествии пятнадцати лет, рассказывал Михаила, как позорно наказали его при всем народе и как хотел он за это убить и дядю и мать, как последняя сама потом раскаялась в своем поступке, но было уже поздно; сын ожесточился и пустился во все тяжкие… Злоба против односельчан, нанесших ему и после того немало обид, была так сильна в Михайле, что в случае неудачно сложившейся на поселении жизни он обещался бежать и по-свойски расправиться с ними.
– У меня надвое теперь мысли в голове расходятся, – отвечал он обыкновенно на мои вопросы, – в мошенничестве я скусу большого не нашел. Это я прямо говорю, что не нашел, и отстать от этих пустяков мне нетрудно. Микишка вот хорошо меня знает.: коли что я решу, так то и сделаю. Люди, товарищи – это ничто меня совратить не может. Но и то опять в мысли приходит: дело мое к старости клонится, и коли буду я один-одинешенек, для кого же и для чего я жить стану? Особливо ежели еще и. жить плохо будет? Так что обещать верного ничего не могу. Посмотрю – увижу, что-нибудь решу и тогда напишу вам. Относительно переписки у нас придумана была целая конспирация. Писем Буренковых, адресованных прямо на мое имя, Лучезаров ни в коем случае не передал бы: по инструкции арестанты имеют право переписываться только с ближайшими родственниками. В виду этого мы условились сообщаться между собою кругосветным путем: Михаила должен был писать в Россию к моей матери, адрес которой я записал ему в Евангелии.
Только на пятый день томительного ожидания получился наконец ответ от жен. Михайла оставался по нездоровью в тюрьме, и мы с Никифором, вернувшись из рудника, застали его разбирающим уже в десятый раз полученную телеграмму. Ядовито усмехнувшись, он подал мне бумагу, и я прочел в ней буквально следующее: "Родные, не прогневайтесь, детей жалко ехать".
У меня болезненно сжалось сердце и в первую минуту не нашлось ни одного слова в утешение… Никифор сразу упал духом и пришел в самое отчаянное настроение. На другой день уныние сменилось в нем порывом бесшабашной веселости и чисто арестантского молодечества. Он закручивал свой длинный ус, шагал как-то особенно, "по-гулевански", и с губ его то. и дело срывались слова: "Мы, соколинцы"… О жене он старался не заговаривать, а о бабах вообще отзывался с бесконечным презрением… Но я отлично знал, что и это его настроение не более как минутный порыв, и, дав пройти ему и остыть, уже накануне отправки попытался убедить, что из телеграммы ничего дурного, говорящего о прямой измене жены, не видно; что положение ее как матери действительно ужасно затруднительно: нужно было бы настоящее геройство, равное почти отчаянности, – только что получив как с неба свалившуюся телеграмму об отправке на Сахалин, немедленно же забрать маленьких детей и покатить с ними в неведомый путь. Я указал Никифору, что подробное письмо, которое жена его на днях получит, даст ей возможность лучше обсудить и обдумать эту поездку, и уверял, что в Усть-Каре его непременно догонит благоприятный ответ. Слова мои были, очевидно, настоящим бальзамом для наболевшего сердца Никифора, и он опять повеселел, но Михаила отнесся к ним явно скептически, хотя и не спорил. Тот и другой давали, однако, честное слово не пытаться бежать по крайней мере в течение года и дожидаться того времени, когда окончательно выяснятся семейные дела.
Что касается отношений братьев друг к другу, то ветреный Никифор, размягченный несчастием, одинаково обрушившимся на него и на Михаилу, казалось, и забыл даже о своей прежней вражде с ним. Имя Михайлы почти не сходило теперь с его языка: в каждом слове и взгляде он выражал к нему чисто братскую нежность, и посторонний зритель мог бы подумать, что между ними и не пробегало никогда черной кошки, что их дружбы и водой не разольешь; по-видимому, ему и в голову даже не приходило усомниться в том, что они будут идти дорогой как братья и товарищи. Для этой цели он заготовлял всякого рода мешочки, котомки и так много суетился, как будто на попечении его находилась целая семья с самым сложным и запутанным хозяйством. Но не то держал, видимо, на уме Михайла и на все экспансивные и сентиментальные выходки Никифора упорно отмалчивался. Заметив это, я отозвал его paз в сторону и спросил, почему он как будто сердится на Никифора.
– Не сержусь я, Иван Миколаич, – отвечал Михайла, – а только я твердо решил: не пойду с Никишкой и товарищах.
– Как так? С чего это?
– С того. Я хорошо знаю и свой и его карактер. На два дня его хорошества хватит – не боле. Станет он, как прежде, с гулеванами разными знаться, в картишки играть, пойдут у нас свары, злоба, а я этого смерть не люблю. Так лучше же с самого начала не обманывать друг дружки, идти розно.
Долго, очень долго пришлось мне уламывать Михайлу предать забвению все прошлые размолвки, счеты и обиды и в виду общего несчастья сделать еще один, последний уже, опыт общей жизни с Никифором. Очевидно, только из желания доставить удовольствие мне, перед которым он считал себя в неоплатном долгу, согласился он наконец еще раз испытать Никифора…
Наконец 25 марта, в праздник благовещения, в ясный солнечный день, соколинцы отправились в поход, провожаемые до ворот решительно всей тюрьмой и напутствуемые добрыми пожеланиями. Я от души расцеловался с Буренковыми…
К сожалению, о дальнейшей их судьбе я так ничего и не знаю. Мать моя никогда не получала никаких писем от Михайлы. Арестанты объясняли это тем, что он, вероятно, убежал с дороги. Некоторые утверждали даже, что слыхали об этом, передавались даже подробности, будто в сахалинской партии была попытка огромного побега "на ура", и Никифор Буренков в числе многих других был убит, а Михайла успел скрыться… Правду или ложь рассказывала кобылка – как узнать и проверить?
VII. Побеги и первая кровь
В первых числах мая каким-то путем достиг из Покровского рудника до Шелайской вольной команды сенсационный слух о побеге одного арестанта через горные выработки. Слух этот перешел скоро и в стены тюрьмы и чрезвычайно взволновал все ее население. Только и разговоров были, что о фартовце Красоткине (так назывался бежавший арестант). Многие удивлялись, как это раньше никому в голову не приходило бежать через гору.
– Было и прежде известно, – рассказывал теперь почти всякий, с кем я беседовал об этом предмете, – что где-то с другой стороны горы, где конвоя не ставится, выход есть. Там на пятьдесят верст ведь выработки идут, заблудиться можно… Что твой лес: то прямо идешь, то вправо, то влево поворотишь, то вниз спустишься, то опять вверх полезешь… И вдоль и поперек десятки коридоров тянутся… Одно только – страшно заходить далеко. Иные выработки много уже лет заброшены, и ходить туда строго-настрого запрещается; крепи сгнили – того и гляди повалятся, задавят… А в других местах вода, лед.
Словом, большинство утверждало, что выход с другой стороны все-таки есть и духовому человеку бежать можно. А поэт Владимиров, прослушав несколько таких суждений, вдруг поднялся однажды с нар и забасил категорически:
– Да и раньше бегали!
– Когда бегали? Кто бегал?
– Да вот бегали! Не хотели только совсем уходить, потому семейные были, а проход находили. Поляк Нияс с хохлом Егозой нашли раз. Забрели в ледяной коридор и заблудились. Страху сколько натерпелись, рассказывали после… По обмерзлым лестницам, чуть живым, лезли. Продрогли, промокли все… И вдруг к выходу пришли… Вышли вон – смотрят – лес кругом, а цепь далеко-далеко в стороне осталась! Так и могли бы уйти, кабы захотели. Только они не хотели, потому женатые были, и пошли казакам навстречу. Те сначала пропускать их в цепь не соглашались, а потом как объяснись, в чем дело, так конвой просто диву дался, испугался!
– Да не во сне ль это приснилось тебе, Медвежье ушко? – спросил насмешливо Сокольцев.
– Зачем во сне! Спроси хохла Егозу или Нияса спроси.
– Где ж я теперь спрошу, коли они в волости давно? А тебе-то они сами сказывали?
– Да хоть и не сами… Другие все равно слышали… Уйти бы могли, кабы захотели! Только они не хотели, потому…
– То-то кабы захотели! Нет, уж мы подождем лучше, узнаем, каким путем Красоткин бежал, а потом поверим тебе. Нет, дружище, кабы выходы из горы были, начальство лучше б нашего с тобой знало, что они есть, и без караула не оставляло бы во время работы. Я так полагаю.
Скептический взгляд Сокольцева разделяли Гончаров, Юхорев и другие бывалые, опытные люди. Взгляд этот и оправдался спустя некоторое время, когда пришло другое, более верное известие, что Красоткин и не бежал вовсе, а только пробовал отсидеться в горе, но благодаря собственной глупости через двадцать суток принужден был сдаться начальству. Сокольцев сам принес из мастерской это известие и так рассказывал собравшейся вокруг него шпанке:
– Он, точно, мог бы бежать, Красоткин, кабы другой на его месте человек был. Я его хорошо знаю и тогда же, как в первый раз услышал, подумал про себя, что не Красоткину б такие дела обделывать. И задумал-то его не сам он, а ребята предложили, силой почти уговорили, потому жалко парня: молодой совсем, а за спиной сорок пять лет работы. Задумано было так. Спрятали его во время работы в старых выработках, в очень распрекрасном, месте, про которое два-три только человека изо всей тюрьмы знали. Туда заранее ему всякого провианту натаскали, чтоб можно было дня три или даже четыре просидеть. Заложили каменьями и ушли.
– Кончилось рабочее время, пора в тюрьму идти. Сосчитали казачишки арестантов, раз и два сосчитали – что за черт? Нет одного. Нет да и нет. Пошла тревога. Всю гору обегали казачишки – ничего не могли сыскать. Решили все-таки цепи не снимать, выждать: может быть, он спрятался где-нибудь, притаился – так рано, мол, или поздно должен объявиться. Часовые клялись и божились, что из цепи никого не выпускали. Кабы кобылка вела себя хорошо, а главное, кабы сам Красоткин не дремал, это все не беда б, что цепи не сняли, потому ребята и раньше так располагали, что три-четыре дня стрёма будет. Эти дни надо было ухо востро держать, сидеть спокойно. В первую же ночь целая сотня казаков с фонарями в гору пошла, все обыскала, перерыла. Опять ничего, конечно, не нашли. Еще суток двое постояли-постояли, глядь – и сняли посты. Решили, что часовой, должно быть, прокараулил, того ж разу из цепи выпустил. Тут бы и махнуть Красоткину драла, наши успели ему шепнуть, что розыски, мол, утихли, проход свободный. Одежа вольная, деньги, пачпорт, все у него было. А он возьми, дьяволов сын, и струсь! Еще почему-то три дня пропустил, даром пролежал. А тут, смотри, и провиант истощился, что в запасе был. Пришлось таскать каждый день из тюрьмы. Придут утром на работу. Ну, думают, теперь, должно быть, ушел. Глядь – а он все еще лежит. "Что же ты, так тебя и этак, делаешь? Погубить себя хочешь?" – "Ей-богу, братцы, сегодняшнюю ночь убегу. Пошел было ночесь, да оказалось, караул опять стоит". Вот трусливая ворона! еще молодой парень, сорок пять лет каторги сумел работать. И вот промеж кобылки шорох пошел… Спервоначалу-то человека четыре только знали, верные люди; большая часть, как и начальство, тоже думали, что Красоткин на воле давно – лови в поле ветра. А тут – заметила ль какая сука, что пищу ему носят в гору, промеж себя топчутся, аль по чему другому, – только скоро вся тюрьма узнала, что Красоткин в выработках старых лежит. А вся тюрьма узнала – и надзиратели узнали и конвой. Всполошились опять – цепь поставили, караулы: строго стали обыскивать всех, чтобы хлеба ему не проносили… Мало того! Какие хитрые шельмы: пепла по всем коридорам насыпали, нитки протянули… Думают: если станет ночью ходить – воды пойдет к ручью напиться или бежать захочет – непременно следы остался. И днем и ночью в горе зачали шарить. Раз какую даже штуку удумали. Не выгнали арестантов на работу, а заместо того казачишкам молотки и буры в руки дали. Такой стук в руднике подняли, будто и заправская работа идет. Ну да Красоткин догадался, что – подвох, не вышел. Натерпелся, однако, бедняга страху за эти дни. Однажды (сказывал после ребятам) два казачишка во время обыска вплоть подошли к тому самому месту, где он заложен камнями был. Стали, слышит, разбирать. Один говорит другому: "Сейчас же заколем мерзавца, если тут окажется". Ажно дух в нем замер: вот-вот увидят! Вдруг, на его фарт, где-то вдали другие закричали: "Здесь, здесь он!" Как бросятся туда духи… Так гроза и прошла мимо. Однако плохо его дело стало! Проносить удавалось только по крохотному кусочку хлеба, да и то не кажный день. Отощал вовсе. Темнота к тому ж, воздух душной… Ноги стали пухнуть, цинга появилась. И тут иной бы фартовец сумел еще выкрутиться! Напролом бы пошел! Прямо на часового б ночью кинулся; подкараулил бы, как он зазевается, стоит себе, в носу ковыряет, и пришиб бы духа проклятущего! А Красоткин мог только вокруг да около ходить, а ни на что не решался. Раз таки насмелел было, пошел… Да так неосторожно высунулся, что часовой увидал, выстрел дал, закричал! Казаки набежали… Насилу ноги уволок. После того он. уж вовсе оробел, вылезать из своей норы перестал, разнемогся. Смерть, видно, думает пришла… Раз лежит этаким манером, вдруг слышит – идет кто-то, промеж камней пробирается. Мелкие камешки падают… Вовсе подошел, и в темноте ровно светлее стало. Стоит перед ним как есть человек – ни высокий, ни низкий, с седой бородкой. "Ты здесь?" – спрашивает. "Здесь", – отвечает Красоткин. "Есть хочешь?" – "Шибко, говорит, хочу". – "А холодно тебе?" – "Закоченел весь". – "Ну погоди, говорит, маленько, легче станет". Сказал – и словно в землю провалился, невидим стал. А ему и точно легче сейчас же сделалось: голод пропал и будто теплом откуда-то потянуло…
На другой после того день (это на девятнадцатый уж!) Красоткин прямо объявил ребятам, что дольше терпеть не в силах, и если не придумают средства вывести его живого, так он сам выйдет – пускай убивают. Что тут делать? Объяснила кобылка старшему надзирателю (душа, говорят, человек для нашего брата): так и так, мол, человеку смерть предстоит, потому казаки беспременно убьют, как только он покажется, – обозлены сильно; явите божецкую милость, примите под свою защиту. Наутро он пошел с ребятами в гору, одел Красоткина в вольную одежу и вывел незаметно для казачишек. Кто был на Покровском, тот знает ведь, что рудник там совсем подле тюрьмы и цепь расставляется далеко-далеко кругом… Как подошли к воротам – тут только два молодых подчаска смекнули, в чем дело. Как сумасшедшие метаться зачали туда-сюда, зубами щелкают, не знают, что делать. "Смейте только пальцем тронуть! – прикрикнул на них старший надзиратель. – Строго отвечать будете". Кинулись подчаски в караульный дом – выбежал оттуда весь караул с ружьями, беспременно убили б Красоткина, ни на что б не поглядели, да в эту минуту дежурный ворота успел растворить и втолкнуть его во двор. Так и остались казачишки с носом, ружьями только погрозились сквозь решетку да поругались всласть. Вот ведь зверье какое!
– Кажного из них давить надо, духов окаянных, – подтвердили слушатели, глубоко взволнованные рассказом Сокольцева.
Красоткина тоже ругали на все корки. Разочарование было полное. Хотя идея побега через горные выработки и не имела никакого смысла в крошечном Шелайском руднике, где обширные выработки старых времен находились далеко от нынешних, но в арестантской душе были разбужены этой историей самые заветные чувства, задеты самые больные струны… К тому же весна была в полном разгаре; за высокой тюремной оградой зеленели красивые сопки, благоухали цветы и деревья… Все напоминало о воле, о жизни, и сердце у каждого мучительно ныло… Но бежать из Шелайской тюрьмы, так зорко оберегаемой Шестиглазым, было нелегко, и самые дерзкие смельчаки предпочитали выжидать благоприятных обстоятельств, мечтать о предварительном переводе в другие рудники. Зато с началом лета начались массовые побеги из вольной команды, за которой не было почти никакого надзора.
Прежде всего скрылись повар и кухарка самого Лучезарова. Последний снарядил за ними погоню из нескольких надзирателей и казаков; но трехдневные поиски не привели ни к чему, и преследователи вернулись с пустыми руками. Едва успело улечься волнение, произведенное в тюрьме этим первым побегом, как исчез арестант, бывший любимцем Лучезарова и занимавший в конторе должность писца. Беглец, между прочим, увел с собой свояченицу Ракитина, девочку четырнадцати лет, приехавшую в каторгу за сестрой. На этот раз бравый штабс-капитан самолично отправился в погоню, получив от кого-то из арестантов сведения, по какому направлению ударились беглецы. Рассказывали, что, уезжая, он хвалился, что приведет писаря назад, живого или мертвого.
– Ишь ведь аспид какой! – толковали меж собой арестанты. – Пошто в других рудниках не взирают, что из вольной команды бегут? Начальство за нее ведь не отвечает. Идите себе, голубчики, на все четыре стороны, хоть все разбегитесь!
– Потому он змей шестиголовый, – ораторствовал полоумный Жебреек, – он, ровно кащей золотом, дорожит нашим братом. Ровно мы братья ему родные – так дорожит! Спать без нас, есть спокойно не может. Век бы не расстался ни с одним арестантом. Он чахнуть начинает, ежели кому срок на волю подходит, и пузо у него растет с радости, ежели кому надбавка выйдет. Почто нас на Сахалин не пустили? Он не хотел этого. Уж я знаю, что он не хотел. Сам за беглым арестантом погнался – где это видно? Какой благородный начальник во внимание такие пустяки возьмет? Ну да пущай потешится, кровушки нашей напьется, пущай! Придет когда-нибудь и его точка… Уж я знаю, что придет! Придет!
И, вытянув руку, Жебреек торжественно поднимал указательный перст к небу.
Похвальба Лучезарова оказалась, однако, напрасной. Ему с казаками приходилось ехать по проезжей дороге, а беглецы могли идти стороной, через тайгу, имея перед собой десятки дорог и только посмеиваясь над ним издали. Другое дело – дальнейший путь, где в тридцати – пятидесяти верстах от шелайских сопок начинались шедшие вплоть до Читы и дальше голые степи, покрытые казачьими станицами. Там пройти несравненно труднее, и из десятков и сотен беглецов, направляющихся каждое лето из всех нерчинских рудников, только немногим удается пробраться за черту каторжного района. Большинство опять попадается в руки властей. Для шелайских бегунов было счастьем, впрочем, и то, если им удавалось попасть после поимки в одну из других тюрем.
Шестиглазый вернулся из своей неудачной поездки злой и темный, как ночь. Зато кобылка в тайне души ликовала. Из вольной команды побеги продолжались чуть ли не ежедневно; оставались на месте только семейные да те, у кого срок совсем уже скоро кончался. Рассказывали, будто к этому же времени Лучезаров получил от высшего начальства выговор за излишние траты по управлению Шелайским рудником, будто не были также утверждены представленные им сметы на новые расходы, отчасти уже сделанные им из собственного кармана. Не знаю, правда это была или вымысел, но такими именно слухами старались объяснить перемену, замеченную этой весной в Лучезарове. Несмотря на все громы и молнии своих речей, обращенных к арестантам, он представлялся им до сих пор человеком хотя грозным, но способным держаться в рамках строгой законности. Даже после оскорбления, полученного от Шах-Ламаса, он не поддался, казалось, чувству личного озлобления и ограничился карцерами, запором камер на замки, словесными угрозами; теперь же в характере бравого штабс-капитана появилась вдруг совершенно новая, скрытая раньше черта – чисто русская способность "зарываться". В тюрьму он являлся в последнее время очень редко, но то и дело доносились слухи о подвигах его на воле. Там он, что называется, рвал и метал. Прежде всего пришлось изведать его раздражение арестантам, рывшим канаву возле тюрьмы: им стали задавать неимоверно большие уроки, почти по кубической сажени в день на человека, забывая, что каторжные не наемные рабочие, у которых и лучшая пища и больше физической силы и нравственной бодрости. После нескольких дней подобной работы изнемогали самые сильные. Маленького Лунькова товарищи принуждены были босого вытаскивать из глинистой канавы: сапоги в ней так вязли, что их приходилось вырубать железными лопатами… Не вырабатывавшим полного урока уменьшали на следующий день порцию мяса и хлеба и все-таки приказывали идти на работу. В этом случае всего ярче обнаружилась "дешевизна" тех арестантов, которые, обладая широким горлом и иванской репутацией, были храбры и смелы лишь на словах. Теперь, когда дошло до дела, они были тише воды, ниже травы и, как волы, тянулись из жил, чтобы не прогневить страшного Шестиглазого. Зато Луньков лишний раз доказал, что он не трус. Выбившись однажды из сил, он обругал пристававшего к нему надзирателя и был отправлен в карцер. Шестиглазый распорядился арестовать его на месяц с закованием в наручни и отдачей под суд. Той же участи подвергся другой мой приятель – толстяк Ногайцев. Карцера в эти дни не пустовали. По слухам, Лучезаров бушевал и у себя на дому, собственноручно расправляясь с прислугой. Несколько надзирателей, вообще трусивших его больше самих арестантов, также подверглись выговорам, штрафам и даже удалению. В тюрьме с трепетом ожидали появления грозного начальника на вечерних поверках, будучи уверены, что произойдет что-нибудь страшное. Все притаились, точно в ожидании бури…
И действительно, вернувшись однажды из рудника, мы услыхали новость, невольно заставившую всех вздрогнуть: в вольной команде только что был подвергнут жестокому наказанию розгами кучер Лучезарова – киргиз Салманов, причем его раздирающие душу крики были явственно слышны во дворе тюрьмы и даже в больнице. Салманов недавно только вышел на свободу; неуклюжий детина огромного роста, с безобразным лицом, изрытым оспой, и голосом, похожим на рев таежного зверя, он был в высшей степени добродушный и честный малый. Даже не любившие киргизов арестанты удивились, услыхав, что такой человек обвиняется в краже пары казенных хомутов. Впоследствии выяснилось, что вором был другой арестант, уже окончивший срок, но еще живший в вольной команде в ожидании назначения волости. Все это можно бы было выяснить в тот же день при мало-мальски спокойном расследовании дела; но Лучезаров поспешил отдаться первой бешеной вспышке гнева и немедленно велел наказать Салманова розгами под окнами своей канцелярии. Палачи-казаки били беспощадно-свирепо. После тридцати ударов Лучезаров вышел на крыльцо и спросил у кучера, куда он дел хомуты. Несчастный киргиз повалился в ноги, но ответа дать не мог, так как сам ничего не знал. Бравый штабс-капитан, приказав продолжать наказание, вернулся в контору. После тридцати новых ударов он опять вышел и задал тот же вопрос и, по-прежнему не получив ответа, опять махнул казакам рукой. Эта жестокая сцена продолжалась четыре раза подряд, и Салманов сам говорил мне впоследствии, что получил всего сто тридцать четыре розги, тогда как по "инструкции" местная тюремная администрация имеет право наказывать собственной властью лишь ста ударами. Обливавшийся кровью Салманов отведен был после того в тюремный карцер, отдан под суд и по истечении месяца посажен в общую камеру. По счастью, невинность его обнаружилась вскоре сама собою, и его снова выпустили в вольную команду. Добродушный и трусливый дикарь не посмел жаловаться на самовольную расправу с ним, и дело это так и было предано забвению. Для самого Салманова, как и для всей остальной кобылки, важна была лишь физическая боль, которою сопровождалось варварское истязание: прошла боль – и стоило ли о ней помнить? Но не то чувствовал я… Мне казалось, что лучшая часть моей души была осквернена и ошельмована, ч го на этот раз нанесли и мне жестокую, незабываемую несправедливость. Во всем прежнем поведении Лучезарова, во всей системе его управления тюрьмой я мог находить неверную постановку многих вопросов, излишне шальное понимание закона и пр., но тут впервые во всей красоте и блеске обнаружилась передо мною его истинная подоплека, та русская крепостническая подоплека, которой долго еще не уничтожат никакой европейский лоск, никакие самоновейшей выдумки системы и режим…
И долгое время после этой истории я не мог видеть дебелой фигуры Лучезарова без невольной дрожи во всем теле. Но, увы, это было еще не самое худшее, что мне суждено было пережить в Шелайском руднике!
VIII. Осиновое ботало меня развлекает
Как солнца не бывает без тени и ночи без утренней зари, так и в жизни мрачное и печальное почти всегда ходит рядом с комичным и забавным. Несколько дней спустя после истории с Салмановым разнесся по тюрьме слуx, будто Ракитин в пьяном виде до полусмерти искусал зубами свою жену; если бы не соседка, побежавшая медленно к старшему, надзирателю, бабе конец бы пришел… Вечером того же дня, после поверки, загремел замок в нашей камере, дверь отворилась, и на пороге явился Ракитин с вещами.
– Наше почтение, старики! – с веселой развязностью обратился он к арестантам.
Кобылка радостно загоготала.
– Попался, голубчик! Скоренько! Ну рассказывай, брат, как и за что?
Тут Ракитин понес такую чепуху, что ровно ничего нельзя было понять. В одну кучу сваливал он и тайную торговлю вином, в которой Шестиглазый будто бы по дозревал его, и побег свояченицы с писарем, и связи Марфы, жены своей, с этим же самым писарем, и черт знает еще что.
– А правда ли, что жену-то вы искусали, Ракитин?
– Пощипал немножко, Иван Николаевич, что верно – то верно… Да как же и не искусать было подлую? Ведь они головушку мою закрутили! Ведь они давно уж собирались меня в тюрьму упрятать!