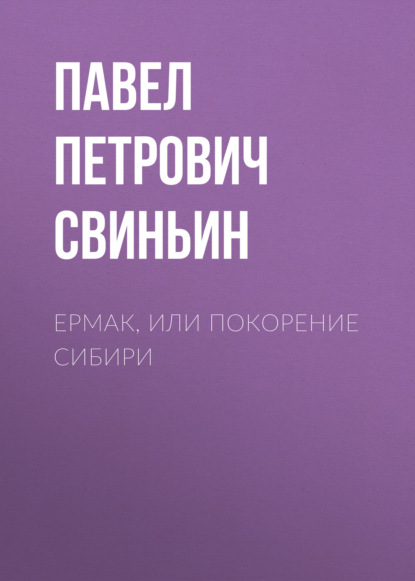По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ермак, или Покорение Сибири
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рука времени изменила наружный вид и многих сибирских пустынь, не менее населеннейшей части России. Кто бы, например, увидя небольшую каменную церковь новейшей архитектуры, правильную слободку, состоящую из бедных хижин, населенных двумястами камских лоцманов, обширные огороды, снабжающие Усолье и Дедюхино поваренными овощами,? – подумал, что это место достопамятной столицы Строгановых – Орла-городка, иначе Каргеданом называвшегося, в стенах коего составлено было великое предприятие – завоевания Сибири, из стен коего Ермак двинулся на сей бессмертный подвиг! Но таков закон природы: не выходя из России, найдем убедительные доказательства, что все произведенное рукою смертного, как бы оно огромно, великолепно ни было, дряхлеет, исчезает с лица земли, превращается в тлен, в ничтожество, подобно самому творцу оного! Одно имя, одна слава переживают бытие человека и его творения. Посмотрите, едва кучи камней и колючие тернии указывают теперь страннику о существовании Танаиса, Ольвии, Болгар, а история их перейдет в позднейшие потомства! Мудрено ли после сего, что в Орле-городке осталось мало предметов, напоминающих о его прежнем величии, и только Евангелие, показываемое в церкви, писанное Марьей Яковлевной, супругой именитого человека Григория Дмитриевича, да жемчужные оплечья у других риз, низанные также ее рукою, составляют воспоминание о столице Строгановых, обладателях земель, равнявшихся пространством своим Франции совокупно с Испанией!
Есть предание, что на месте, занимаемом теперь в Орле-городке храмом Господним, возвышались три огромных дуба, на коих, как Соловей-разбойник, свил себе гнездо огромный орел, бывший ужасом окрестностей. В самом Дедюхине, отстоящем отсюда в пятнадцати верстах, матери должны были сторожить детей своих с бдительностью зоркой наседки, берегущей птенцов от хищничества ястреба. При малейшей неосторожности или удалении ребенка от жилья налетал, или, лучше сказать, ниспадал, как камень с неба, свирепый царь птиц и уносил в мощных когтях своих бедного младенца, несмотря на вопли и стенания выбегавших для защиты его жителей, на тучи стрел, пускаемых ему вслед. Первые его не трогали, вторые как будто отскакивали. Тщетно старались найти его жилище, а справедливее, кажется, боялись открыть оное, ибо между туземцами сохранялся какой-то суеверный страх и благоговение к пернатому хищнику, который питался будто одним человеческим мясом. Страх сей, вероятно, перешел и к русским селенцам Дедюхина, где Строгановы устроили богатые варницы. Однажды это случилось на глазах самого Аники, приехавшего из Сольвычегодска взглянуть на свои камские заведения. Напрасно уговаривают его оставить намерение идти в преследование своего неприятеля, напрасно пугают его разными ужасами, изобретенными пугливым воображением язычества: Аника с пищалью в руках и в сопровождении верного своего слуги Провора тотчас же отправился за похитителем по направлению его полета. Они следили его, несмотря что шли частым лесом, коими покрыты были иногда берега Камы. Орел, плавая с добычей своей над вершинами дерев, вел их за собой, как будто с умыслом. Но лес делался час от часу мрачнее, непроходимее: свидетели мироздания – косматые ели и пихты – так дружественно обнимались между собою, что не оставляли почти ни малейшей скважины. С большим затруднением путешественники наши продвигались вперед. Но зачем идти далее? Предмет, ими преследуемый, давно уже скрылся от них, время уже клонилось к вечеру. Аника был в раздумье. Вдруг слух его поражается необычным карканьем ворон, и он видит стаю сих плотоядных птиц, порхающую вокруг купы высоких дубов. И что же представилось глазам его? В гнездо, устроенное на вершине сих исполинов, принес орел добычу свою и, сев над нею с разинутым от усталости огромным клювом своим, как будто с презрением бросал взоры на шумных подданных своих, жаждавших поживиться остатками его добычи, подобно тому, как волки и шакалы тешатся костями, оставляемыми им великодушным властелином степей африканских после победы слона и носорога! Мгновение, и кровожадный царь камских лесов лежал низверженным у ног Аники: пуля поразила его прямо в грудь.
Усердный Провор показал удивительное проворство в снятии ребенка из орлиного гнезда. Хотя раны, нанесенные несчастному когтями орла, были глубоки и он не показывал ни малейших признаков жизни, но опытный в лечении Аника не отчаивался в его исцелении, приписывая его бесчувственность испугу. И действительно! В скорости от одного действия холодной воды ребенок очнулся, и не прошло месяца, как он совершенно исцелился от язв своих. Аника Федорович, полюбив дитятю, чудесно им спасенного, не расставался с ним более. В память сего происшествия к имени Дениса придано было ему прозвание Орел, и Орел имел счастье впоследствии времени оказать своему спасителю такие услуги, что расквитался совершенно за его благодеяния. Одним словом, Орел был правой рукой умного Аники Федоровича во всех делах его, во всех предприятиях, а на старости лет, во время описываемой нами эпохи, был скорее старинного семейства Строгановых, чем слугою.
Аника Федорович сначала, как водилось по-старому в православной России, в знак благодарности Господу Богу за столь явную к себе милость соорудил на месте трех дубов церковь, а потом, мало-помалу полюбя это место, а может быть, найдя его способнее других для наблюдения за коммерческими сношениями, увеличивавшимися беспрестанно по Каме и Волге, поставил небольшой дом для своего жительства, а потом и совсем здесь поселился. Правду сказать, что поражение чудного орла живым огнем, о коем мало еще имели понятия, немало содействовало к увеличению той поверхности и власти, подобной самодержцу, которую приобрел он умом своим и характером над всеми окрестными народами. Они считали его выше человека и питали неограниченное подобострастие и даже боязнь.
Это же происшествие дало название Орла-городка и самому месту, хотя впоследствии старались переменить его на Каргедан.
Прошло с полвека от времени первоначального основания Орла-городка, уже не было на свете знаменитого его основателя Аники Федоровича, но потомки его имели в нем постоянное пребывание, и Каргедан представлял средоточие жизни и деятельности всего Сибирского края. Начнем с описания стены, коей обнесена была сия грозная крепость. Не подумайте, чтобы стена сия была каменная, или сделана по образцу новейшей защиты, или, по крайней мере, усилена земляным валом или глубоким рвом. Нет! Она состояла просто из высокого палисада с заостренными концами, надолбами и рогатками и с рубленными в лапу клетками или башнями, возвышавшимися по всем углам или заворотам; а как их было шесть, то и башен считалось столько же. Каждая из сих последних снабжена была пищалью и двумя затинными самопалами или фузеями, которые, грозно выставляя свои заржавленные жерла из бойниц, приводили в трепет целые народы, хотя правду сказать, страшнее были рассказы, переливавшиеся из уст в уста от Студеного океана до моря Хвалынского, о чудесах живого огня, мечущего смерть за двадцать верст, чем самое их действие. Можно было опасаться, что при первом заряде большая часть сих страшных орудий не выдержала бы залпа и разлетелась по кустам: в таком младенчестве находилась артиллерия города Орла, несмотря что Размысл, к ней приставленный, был из немчин.
Ворот в крепости было не более двух, да и то только одни восточные, то есть от реки отворялись, другие же, с противоположной стороны, всегда содержались запертыми, равно как и подлазы завалены были каменьями и всякой нечистотою. Прямо против первых ворот находилась пристань, то есть наколочено в берег несколько свай, за которые притягивались суда, приходившие из Дедюхина и с Волги, ибо как вверх, так и вниз по Каме не было другого пути, кроме речного.
Если крепость Каргедан не могла похвалиться исправностью своей артиллерии, то гарнизон ее отличался примерной дисциплиной. Он состоял из ста человек разной нации: немцев, литовцев, поляков, русских, выкупленных у ногайцев, увозивших с собою своих пленных или получавших их в награду от русского царя за содействие в войнах его с Ливонией и божьими дворянами. Быв искуплены Строгановыми из самой мучительной неволи и содержимы в довольстве, немцы служили им ревностно, одни из благодарности, другие – надеясь выслужить свою свободу и возвращение в отечество. Начальником или капитаном сей храброй дружины был рыцарь фон Рек, завладевший вкрадчивым умом своим и приятной наружностью доверенностью Максима Яковлевича. Но, несмотря на неограниченную к нему любовь главы семейства Строгановых, Денис Орел считался еще хозяином, по нынешнему комендантом, крепости и имел непосредственный надзор за самой стражей. Денно и нощно у речных ворот стояли часовые, а сверх того три раза в ночь ходил обзор вокруг крепости. Бдительный, осторожный Денис с неумолимой строгостью наблюдал за сим порядком и нередко навлекал тем на себя ропот беспечной молодежи.
Взглянем теперь во внутренность Каргедана. Против деревянной церкви, окруженной обширной висячей папертью и покрытой чешуйчатой кровлей в три намета, стояли боярские хоромы. Они были также деревянные, как и все прочее строение, исключая казенку, выстроенную из кирпича, в которой хранились господские сокровища. Казенка эта была в несколько ярусов, с узкими галереями, сообщающимися между собой крутыми лестницами. На средней из них привешено было к претолстой балке железное било, а у нижней бегали по канату злые собаки. Стоило бросить взор во внутренность сих кладовых, чтобы получить понятие о богатстве Строгановых, и понять, как частные люди могли предпринять завоевание Сибири на собственном своем иждивии. Нижняя кладовая была наполнена золотыми корабельниками, серебряными талерами и заплесневелыми ворохами медных денег и мелких копеечек. Во втором и третьем ярусе стояли вдоль стен и посредине в два ряда высокие сундуки с драгоценными собольими, лисьими, песцовыми и прочими мехами, половинками золотой парчи, балдахина, камки и других шелковых персидских и индийских тканей; по углам в деревянных кадях, обитых железными обручами, насыпан был жемчуг. Эта казенка стояла посреди красного двора и насупротив окон господской опочивальни. Сзади ее тянулся ряд клетей и сушил с разными хозяйственными запасами, которых количество не менее показывало богатство и предусмотрительность Строгановых. Под амбарами устроены были глубокие погреба для хранения чанов и бочек с разного рода медами. Ближе к господским хоромам видно было несколько обширных изб. Одни из них заняты были поварнею, которая служила сборным местом для многочисленной дворни именитого человека, а прочие – людскими, в коих обедало и жило более двухсот человек с их семействами. К странности того века можно было заметить, что господа мало думали о спокойствии и удобствах своих домочадцев, несмотря на то, что они служили им усердно и верно, потому уголок на печи подле трубы считался роскошью для обитателей людской и давался, обыкновенно, старейшим или больным.
Между сими избами возвышались обширные ворота, ведущие на красный двор. Чтобы получить о них достаточное понятие, стоит взглянуть на подобные ворота, уцелевшие в селе Коломенском от пышного дворца царя Алексея Михайловича, представляющие странное соединение вкуса фламандского с татарским. За амбарами отгорожено было высоким частоколом небольшое пространство, усаженное черемухами, рябинами, кустами черной и красной смородины и полевой малины. Это называлось садом, куда в жаркую погоду вносились скамьи, и именитый человек проводил с отцом Варлаамом несколько часов в благочестивой беседе за кружкой искрившегося меда.
Разнообразие и узорность многих отделений, составлявших боярские палаты, заключали в себе нечто величественное. Сколько симметрии и согласия необходимы в строениях правильной архитектуры, столько, напротив, беспорядок и пестрота придают красоты в зданиях сего рода. Здесь подле большого окошка, расписанного киноварью с золотом, примечалась волоковая скважина за железной решеткой. Там длинные висячие переходы и чудные терема с чешуйчатым куполом; крутые лестницы к высоким светелкам, освещенным кружочками из слюды; наконец, огромные крыльца с витыми столбами и узорчатыми перекладинами! Вот краткое изображение палат именитого человека, Максима Яковлевича Строганова, коим вряд ли и в белокаменной Москве были равные пространством и великолепием.
Счетная изба была на красных сенях с левой руки. Несмотря на обширность дел и учетов, мало тратилось здесь бумаги и перьев, а все производилось на счетах[43 - Ведется предание, что Строгановы выучили русских купцов выкладкам на счетах.]. Только несколько столбцов с итогами лежало на дне глубокого сундука, запиравшегося висячим замком, и все присутствие конторы ограничивалось дьяком и подьячим. Против счетной избы отличалась широкая дверь с чехлом из красного сукна. Это был вход во внутренние комнаты господские, состоявшие из двух горниц: приемной и опочивальней. Если исключить драгоценные иконы, украшавшие обе передние стены, и богатые ковры персидские, покрывавшие стол и лавки первой горницы, то она не представляла ничего замечательного. Занавески из красного сукна отделяли ее от второй, где стояла высокая дубовая кровать с множеством разноцветных подушек. Третья дверь из сеней, прямо с крыльца, вела в большую светлицу, выстроенную отдельно от прочих, со светлыми окошками с трех сторон. Она определена была для праздничных пиров и угощений. Здесь также кроме огромного шкафа со множеством серебряной вызолоченной посуды, чар, кубков, кандей, ковшей царского жалованья, стоп и бокалов, осыпанных крупным жемчугом, алмазами и изумрудами, не было ничего любопытного. Зато пусть воображение читателя рисует себе сколько можно роскошнее картину восточного великолепия и таинственности во внутренностях пестрых теремов и высоких светелок, кои, как гаремы правоверных, неприступны были для самого любопытства. Пусть воображение, богатое идеалами совершенств, представляет себе обитательницу сих таинственных жилищ под самыми пленительными видами красоты: оно не достигнет до истины ни в том ни в другом случае. Максим Яковлевич, любя с нежностью, доходившей до слабости, единственную дочь свою, Татьяну, и желая вознаградить скуку затворничества, которому обрекались тогда в России богатые и знатные девицы по жестокому закону приличия и ложному понятию о скромности до самой минуты своего замужества, не щадил ничего для украшения ее теремов и светелок. Изразцовые печи с лежанками, вывезенные из Москвы, заморские узенькие зеркала, серебряные умывальники с длинными горлышками в азиатском вкусе, парчовые подушки, драгоценные ковры, раззолоченные решетки у переходов и окошек, наконец, стаи нянюшек, мамушек, горничных, дур, карлиц даны были к услугам и увеселению прекрасной Татьяны. Но веселили ль они прелестную Татьяну? Достаточны ли они были для составления ее счастья, могли ли заменить ей прочие радости? Это осталось бы доселе тайной, если б догадливый фон Рек, как опытный рыцарь прекрасного пола, не вывел противного заключения и каких-то догадок о жалком состоянии сердца красавицы, из самого ничтожного, по-видимому, обстоятельства.
Однажды на закате солнца он присел к крепостной стене и предался мечтам о бывалом, навсегда исчезнувшем для него мире радостей и счастья, предался мечтам о милой родине, о родных красавицах Эстонии, томных, белокурых… Дикость противоположного берега Камы усугубляла мрачность его воображения, которому ничего не представлялось отрадного, утешительного в будущности, не представлялось даже случая к победе достойного врага или неопытного сердца, чем наравне гордились храбрые рыцари меча. По мере того как помер-кал дневной свет, распространялась тишина, когда, казалось, успокоились самые кузнечики от дневных забот своих,? – одна только грудь юного рыцаря волновалась более и более. Вдруг повеял с берега ветерок, и ему послышался напев приятного женского голоса. Какой случай для романтического приключения! И романтический рыцарь, заметив, что звуки исходили из терема, возвышавшегося над крепостной стеной, осторожно взобрался сколько возможно выше на частокол и превратился в слух.
Чувство, с каким пела невидимка, убеждало, что слова исходили прямо из сердца, были историей ее ретивого, и, хотя слезы несколько раз прерывали томный голос, рыцарь не проронил ни одного словечка. Красавица пела:
Река быстрая,
Серебристая,
На твою струю
Уронила бы
Я слезу мою.
Понеси волна
Слезу горькую,
Безотрадную
На сторонушку
Отдаленную.
Когда в час тоски
Он стоит у реки,
Призадумавшись,
Пригорюнившись,
И коня поит:
Ты всплеснись пред ним,
Волна, жемчугом;
Ты рассыпься же
Все бурмитскими
Пред ним зернами.
Отскочи одно
Кверху зернышко,
Упади ему
На белую грудь,
Ретивое где!
Нет! не сердце там
Неретивое;
Лед студеный в нем,
Камень твердый то
И безжалостный.
Замерла волна,
Перед молодцем
Разбежавшися.
Разбилось зерно,
В грудь ударившись.
Лучше мне волну
Не испытывать,
Лучше мне тоску
Одной ведати,
С ней в могилу лечь.
От того ли, что фон Реку захотелось выучить заунывную песенку, которую пел прекрасный, нежный голосок ежедневно при закате солнца, или он сделался исправнее в своей должности, только не проходило дня, чтобы он в сумерках не выходил из крепости для обзора часовых и не стоял по нескольку часов как вкопанный у подножия высокого терема под прикрытием частокола. «Ах! я дал бы половину жизни,? – думал он часто,? – чтобы взглянуть хоть раз на несчастную певицу, чтобы утешить ее, разделить с нею грусть ее, тоску, чтобы поплакать на груди ее!» И после многих покушений обратить на себя внимание невидимки также романтически, ему пришла на ум следующая мысль: он подошел к окошку сколь можно ближе со своей цитрой, на которой играл с отличным искусством, и, когда красавица кончила свою песню, Рек повторил ее слово в слово, аккомпанируя себе на своем инструменте. Говорят, что музыка нисколько не уступала выразительности слов, но, к сожалению, она не была столь долговечна, как сама песня, которая уцелела в закамских преданиях и повторяется доселе молодыми поселянками на вечерних посиделках.
Рек ласкал себя надеждой, что серенада его увенчается романтическим приключением, что растворятся непроницаемые до сего решетки терема и он увидит божественную певицу. Но ожидания его не сбылись: тишина в тереме подала ему мысль, что его не слыхали. «Быть может,? – утешал он себя,? – невидимка оставила свое окошко тотчас по окончании своей песни». Если сначала сия неудача показалась только обидною для рыцарского самолюбия, то он приуныл не на шутку, увидев, что серенада его была услышана и принята не так, как ожидал он. Тщетно приходил после этого рыцарь каждый день к терему при закате солнца и оставался там до полуночи, он более не слыхал певицу. Не было никакого средства проникнуть в столь мучительную тайну: женская половина была так удалена от мужской, что прислуга боярышни редко сходила даже в поварню.
Рыцарь наш давно уже ходил повеся голову. Затруднение и таинственность, как и во всех делах, подстрекали его самолюбие и распаляли его воображение. Ему больно было отказаться от мечты, обещавшей столько приятностей его романтическому сердцу.
Одним утром, когда, сидя на нижней галерее ближайшего сушила, он перебирал вполголоса все знакомые ему немецкие баллады, пособляя себе аккордами цитры, Рек немало удивился, заметя невдалеке Анисью, любимую карлицу боярышни. Рыцарь до сего не удостаивал внимания сие безобразное творение. Но тут, как сметливый немец, умеющий все обращать в свою пользу, вздумал попытаться, не может ли употребить ее в свою выгоду?
– Здравствуй, прекрасная Анисья Карповна,? – сказал он ласково малорослой «красавице»,? – к чему такая спесь: хоть бы одним глазком взглянула?
Карлица, не ожидавшая подобного приветствия от прекраснейшего мужчины в целом городе, хотя и нехристь, остановилась в удивлении и, желая, вероятно, улыбнуться с особенной приятностью, прежалко исковеркала свою толстую рожу, разрумяненную, разбеленную, так что самая улыбка бывших временщиков при уверении в дружбе или обещании протекции не бывала столь смешна и отвратительна.
– Куда это летала спозаранку, моя лебедочка?? – продолжал Рек.
– К Денису Васильевичу,? – проворчала карлица охриплым голосом.
– Чай, старик не сумел ни в чем отказать такой посланнице?? – заметил рыцарь с коварной улыбкой.
– Как бы не так! Нет, проклятый кащей и слушать не хотел, чуть не проводил меня клюкою…
– И видно, что выжил из лет. Кабы я был на его месте, то в воду бы кинулся для таких миленьких глазок…
– А он, проклятый, с места не шевелится, не только для меня, да и для боярышни.