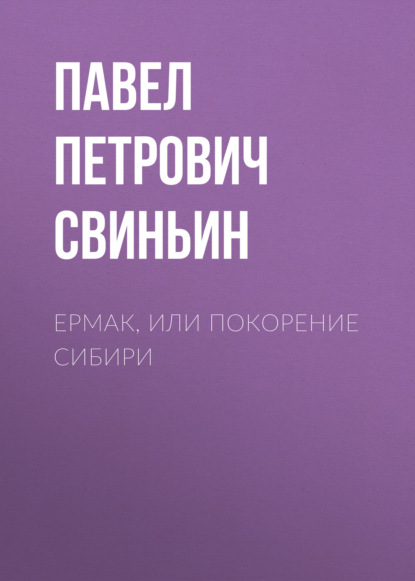По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ермак, или Покорение Сибири
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не говори уж, батюшка, попутал грех. Помнишь ли ты, как приезжал опричник с царской грамотой о выдаче ему молодого князя Ситского, что приводил в Чердынь стрелецкую дружину? Признаюсь, отец-государь, я скрыл его и выслал на Дон под именем казака Грозы, пропавшего без вести в Пелыме.
– Что ж тут преступного?
– Царь Иван Васильевич прогневался на тебя, но скоро смиловался. Боюсь, чтоб гнев его царский не пал теперь на тебя пуще прежнего, когда донесут, что он у нас.
– Какая нужда! Старайся только, опальный, чтоб его не узнали.
– То-то и беда, отец-государь, что его узнал подьячий Ласка, а он ужас как зол и болтлив, молва может дойти до воеводы царского в Чердынь.
– За меня не бойся, Васильич, отделаемся как-нибудь от опалы царской, старайся только спасти молодца. Скажу признательно, что я сам к нему давно уже признался, несмотря на его бороду и казацкие ухватки.
– Как же прикажешь поступить с ним?
– Подумай сам, а мне кажется всего лучше услать его поскорее в чусовские городки. Ужо поговорю с Ермаком Тимофеевичем.
Но Ермак Тимофеевич был легок на помине: он внезапно взошел в светлицу, перекрестясь трижды, почтительно поклонился Строганову, а Максим Яковлевич, ласково поцеловавшись с атаманом, просил его садиться в переднем углу.
Ермак был задумчив: молча занял он предложенное ему место, ожидая как бы вопроса. Строганов также молчал, как бы стараясь отгадать причину его посещения.
Сметливый Денис вывел их из затруднения. Приблизившись к атаману, он сказал ему, кланяясь в пояс:
– Бог нанес тебя, батюшка Ермак Тимофеевич, как привелось нам думать думу великую.
– Радуюсь, когда могу быть полезен словом или делом Максиму Яковлевичу,? – отвечал Ермак.
– Я хотел спросить твоего совета, Ермак Тимофеевич, как спасти твоего молодца – Грозу, от великой напасти,? – сказал Строганов.? – Его признали за опального князя Ситского, которого по царскому велению обязаны мы представить чердынскому воеводе. Злые люди могут довести до сведения Перепелицына…
– Дивлюсь, не хочу верить,? – возразил Ермак с приметным негодованием,? – чтоб Строганов мог страшиться Иоанна? Нет! я слишком знаю Максима Яковлевича, чтоб Ситскому бояться в Орле-городке, нет! ты его не выдашь.
– Благодарствую за доброе мнение. Мне любо слышать его от Ермака, но вспомни, что в делах общественных пуще всего осторожность, дабы малое обстоятельство не было преградой великим предприятиям. Ты сам знаешь подозрительный нрав Иоанна.
– Неужели Ситский не искупил своей опалы славными делами? Забудем о поражении Мурзы Бегулия, где он был моей правой рукой. Скажем царским воеводам, что Ситский указал казакам путь в пустыни камские, что без него, может быть, Ермак повел бы свою храбрую дружину в другие страны, для другой цели; наконец, скажем, что Ситский есть украшение донской вольницы!
– Такие мысли достойны предводителя храброй дружины, но подумаем, Ермак Тимофеевич, нет ли еще способа соединить возвышенность чувств и достойную гордость человека с законами… Не можно ли, не раздражая Иоанна, спасти Ситского?
– В таком случае тебе придется таить от царя и обо мне, и о Кольце, и о всех других атаманах, которых головы оценены им, или выдать нас живьем в руки Перепелицына,? – присовокупил Ермак с ядовитой насмешкой.
При всей кротости и снисходительности Максима Яковлевича заметно было, что укоризна Ермака крепко его тронула. Но, как муж благоразумный, дальновидный, он спешил только укротить пылкость Ермака, которая могла иметь неприятные последствия; а потому, взяв дружелюбно Ермака за руку, сказал со свойственной ему тихостью:
– Я уверен, дорогой атаман, что ты обидел Строганова, не желая того; обидел в жару приязни к своему любимцу. А в доказательство, что и я умею уважать и любить, пошлю тотчас же просить его сегодня со всеми атаманами, начиная с храброго вождя их, кушать хлеба-соли у моей именинницы.
Таковая снисходительность достаточна была, чтобы пробудить всякого другого, не только Ермака, старавшегося управлять своей неукротимостью. Он почувствовал во всей силе превосходство над собой Строганова как человека государственного, и кинулся к нему в объятия.
Денис прослезился, видя согласие двух великих мужей.
– Мне бы хотелось показать тебе список с донесения моего царю,? – сказал Строганов,? – об усмирении нами вогуличей, но оставим дела до другого дня.
Глава третья
Забавы Строгановых.? – Хвастливый карло.? – Влюбчивая дура.? – Противоположность братьев Строгановых.? – Пир у именинницы.? – Заздравный кубок.? – Тайна любви открыта.
Описывать трапезу именитого человека, сколь, впрочем, ни отличалась она огромными осетрами и мерными камскими стерлядями, которые едва укладывались на длинных серебряных лодках, разносимых вокруг стола дюжими прислужниками в парчовых рубахах,? – значило бы повторять давно сказанное об изобилии и приуготовлении яств на царских и боярских обедах. Вслушаемся лучше в разговоры собеседников и в шутки карлов и шутов, которые тешили гостей и шутили, доколе сии последние сами не поразговорились за пятой круговой чарой.
Всех более забавлял головастик карло Горыныч, одетый в богатое боярское платье и высокую кунью шапку. Ему подчинены были все другие карлы и карлицы, дураки и дуры, и поистине нельзя было видеть без смеху чванство и спесь сего пигмея. Максима Яковлевича, Никиту Григорьевича, даже игумена Варлаама он называл полуименами. Всего же смешнее казалось в нем то, что он гордился тем, что рожден был вогулом, а не русским. К несчастью бедняка, в тот жалкий век русские не стыдились быть русскими, титло или имя иноземца не доставляло в России права на ум, ученость и любовь к отечеству! Горыныч посажен был в углублении, сделанном в изразцовой печи, где он казался более куклой, нежели человеком. Оттуда-то он насылал свои грозные повеления своим подчиненным, часто непокорным, мятежным. В особенности дура Феколка, безобразнейшее и грубейшее в мире творение, оказывалась ослушной своему повелителю и к досаде его лаяла собакой, когда приказывал он ей мяукать кошкой. Горыныч топал ногами, грозился разразить дуру, которая и теперь, вместо того чтобы подать ему кружку с медом, поднесла ее рыцарю Реку, сказав ему:
– Ну-ка, нехристь, побренчи на своей балалайке, а мы с Аниской попляшем, да и Топот Кирюшка покувыркается…
– Уже после обеда,? – отвечал фон Рек, сидевший между Ситским и Мещеряком.
– Врешь, обманешь, собака!
Анисья, неравнодушная к рыцарю, вступилась за своего любезного и вскричала:
– Как ты смеешь, дура, ругать честного господина, знаешь ли, что он с тобой сделает?
– А что, а что?
– То, что обернет тебя в дедушку Федота, как ономеднись сам обернулся в него и напугал боярышню…
Заметно было, что фон Рек изменился несколько в лице при этом слове и взглянул на Максима Яковлевича, как будто боясь, чтоб он не вслушался в сказанное карлицей. Но успокоился, увидя, что тот был занят новыми выходками Горыныча, снятого уже с печки. А скоро и спор карлицы с дурой, кончившийся дракой, обратился в общий смех. Горыныч рядил и судил о бывшем походе на вогуличей и остяков, приходивших грабить строгановские селения на Сылве и Чусовой. Он рассказывал о подвигах своих и наставлениях, данных им начальникам рати ее таким самохвальством, с такой дерзостью, что сам Ермак помирал со смеху. Однако из сей забавы породился разговор, могущий дать понятие о семейном несогласии Строгановых.
– Ну-ка, Горыныч, расскажи, как ты поймал мурзу Бегулия? – спросил Максим Яковлевич с улыбкой.
– Силен, проклятый,? – отвечал карло с самодовольствием,? – да не увернулся от меня. Думал, что наскочил на Микиткиных холопов, не тут-то было, и лежит теперь в клетке со скрученными руками.
– Правду сказать,? – заметил Ермак,? – мурза славно дрался.
– Как я велел пустить в поганых-то живым огнем,? – продолжал Горыныч,? – то они и спятились, а мы и учали их крошить. Ха, ха, ха! Пугнул я порядком и Микиткиных трусов, долго меня не забудут.
– Что он хочет сказать?? – спросил Строганов с любопытством, обращаясь к атаманам.
– Без сомнения, то,? – отвечал Ермак,? – что воины Никиты Григорьевича, устрашась превосходства неприятеля, дрогнули, но атаман Гроза их удержал, постращав несколькими выстрелами из пищали им в тыл.
– Не верь ему, Максимушка, не верь,? – воскликнул Горыныч,? – я закричал на них, так они и оробели.
– Напрасно,? – заметил Строганов,? – этот случай может навлечь нам большие хлопоты. Брат Никита Григорьич обрадуется этому, чтобы впредь не высылать никакой помощи против общих неприятелей наших.
– Спроси у Грозы,? – сказал с непритворным торжеством Мешеряк,? – что и я ему не потакал палить в своих.
– Я точно не послушался его речей,? – отвечал смело Гроза,? – и не раскаиваюсь. Если б я не велел выстрелить в трусов, то они побежали бы при первом появления мурзы с горы, смяли бы нас, а тем дали бы неприятелю случай подавить нас своим многолюдством. Ты сам знаешь. Максим Яковлевич, что у Бегулия было более семи сотен, а нас только две сотни.
– В войне это дозволительно,? – заметил рыцарь фон Рек.
Игумен Варлаам, смотревший долго с неудовольствием на немца, пользовавшегося доверенностью благочестивого Строганова, а тем более еще оскорбленный обязанностью сидеть за одним столом с иноверцем, перекрестился и сказал:
– Воля твоя, Максим Яковлевич, а я не благословляю поступка твоих казаков с воинами Никиты Григорьевича, хотя и принужденного. Стрелять в своих братьев воспрещено Святым Писанием, и, если Никита Григорьевич принесет жалобу царю Иоанну Васильевичу, то ты останешься в виноватых. Апостол Павел глаголет: «Дондеже время имамы, да делаем благо ко всем, паче же присным в вере», а святой апостол Петр научает: «Не воздающе зло за зло и же недосаждения за досаждение».
– Святой отец,? – возразил Гроза,? – вспомни слова того же апостола Петра: «Яко тако есть воля Божия, благотворящим обуздовати безумных человек невежество и трус».