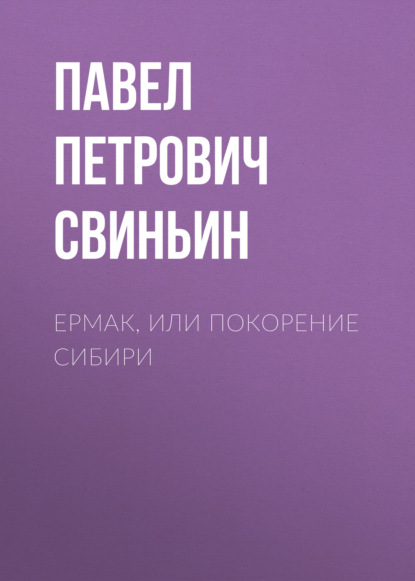По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ермак, или Покорение Сибири
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Для боярышни наш брат все сделает из повиновения, а для такой горничной, как прекрасная Анисья,? – из удовольствия.
Анисья не первая из девиц, которые принимают сладкие слова мужчины за истину, которые не примечают своих недостатков, которые, наконец, хотя зеркало докладывает, что некрасивы, утешаются мыслью, что милы, привлекательны. Говорят даже, что сие ослепление к себе было тогда еще заметнее в тех несчастных, на коих природа клала какую-нибудь печать отвержения или негодования. Будто они, вопреки законам строгого уединения прекрасного пола, старались выказывать свои прелести, встречаться с мужчинами и наряжаться в богатые сарафаны и телогрейки. Карлица так была очарована приветствиями рыцаря, что забыла, казалось, о своей обязанности скорее воротиться с ответом к боярышне. Рек это понял и хотел заставить Анисью выболтать все тайны терема, как непредвиденное появление Дениса Орла разрушило его замыслы.
– Что ты, негодница, остановилась тут,? – закричал Денис грозным голосом, стуча своей длинной палкой,? – вот я проучу тебя по-свойски!
И карлица, едва успев кинуть умильный взгляд на рыцаря, бросилась бежать во все ноги.
– О чем вы болтали? – спросил Орел с веселым видом.
– Просто ни о чем, я побалагурил с красавицей,? – отвечал Рек.
– Видно, ты не отстал еще, и побывав в пределе у ногайцев, от рыцарской привычки увиваться около всякого сарафана. А пора бы остепениться, пора подумать о душе и кинуть бесовские потехи.
– И, дедушка, неужели ты не бывал молод?
– То так, дитятко, но мы и в молодости боялись греха.
– Какой же тут грех смотреть на красных девушек?
– А такой, что он от запрещенного плода, и пока таинство церковное не благословит тебя на обладание девицею, до тех пор не должно смотреть на нее. От чего же ваша братья, неверующие, засматриваются на красавиц, делаются полоумными и погибают? Право, не худо бы тебе, Франц Францыч, потолковать о православии с отцом Абрамом или игумном Варлаамом. Ты молодец смышленый, Максим Яковлевич тебя жалует. Подумай-ка, худого не будет,? – промолвил Денис со значительной улыбкой и потащился в хоромы барские, а рыцарь остался в большом раздумье.
Глава вторая
Казаки у Строганова.? – Ситскому угрожает опасность.? – Коварные замыслы подьячего Ласки.? – Беседа Строганова с Ермаком Тимофеевичем.
Уже несколько месяцев в Орле-городке заметно было большое движение. Беспрерывное беганье из палат в людские, толпы на красном дворе и на погосте новых лиц и нарядов, шумный говор днем и ночью показывали, что в крепости произошло что-то необыкновенное, чрезвычайное.
С восхождением солнца в счетной избе сидел уже на деревянном стуле дьяка с высокой спинкой седовласый Денис Васильевич Орел и, проворно бегая пальцами по черным шарикам счетов, словно Фильд по фортепьянным клавишам, часто качал головой. Наконец он взглянул исподлобья на дверь, медленно растворявшуюся со скрипом, и, заметя лысину подьячего Ласки, который как будто что-то разглядывал с робостью или осторожностью в избе, опять уткнул глаза свои в счеты. Уже Ласка давно сидел на скамье своей, а Денис не обращал на него внимания; наконец, вероятно, потеряв терпение, подьячий полез в сундук и, кажется, без всякой нужды, ибо шарил в нем довольно долго, запер, ничего из него не вынув. По крайней мере, он успел в главном: шум замка и бряк пробоя заставили угрюмого дьяка взглянуть на трудолюбивого своего подчиненного.
– Что ты тут, мошенник, ворочаешься?? – закричал сурово Денис на подьячего Ласку.
– Ничего, ваша милость, ничего,? – отвечал сей последний с низкими поклонами.? – Так я по приказу твоей милости сбираюсь снять списочек с донесения о пелымской битве.
– Кажись, я велел тебе приготовить его еще с вечера. Где ж ты прображничал всю ночь, чай с Мещеряком?
– Напраслина, Денис Васильевич, напраслина! Матвей Федорыч – пречестной господин. Ему бы, право, вести и рать-то в Сибирь, дело было бы вернее…
– Не наше дело судить про это, лучше отвечай, отчего у тебя руки трясутся, как в лихоманке? Пьяница! уж и так стал писать по-зырянски, а не по-русски.
– Запишешь и по-тарабарски, батюшка Денис Васильевич, как пятые суточки – день и ночь – пера из рук не выпускал… Воля твоя, а право, не знаю, как служить лучше?
– Не тебе бы говорить, не мне бы слушать, мошенник, о твоем усердии. Давно бы я прогнал тебя на соляные варницы, кабы башка-то твоя не была так умна. Да покажи же, что ты сделал в эти, по-твоему, пятеры сутки?..
– Как что! А не списал ли я для Ермака Тимофеевича все грамоты, жалованные нашим отцам-государям, и не свел ли итога со всех отпусков из подвалов, сушил и кладовых незваным гостям нашим?
– Велика работа! Прежде бывало и на день нечего бы тебе делать.
– То-то и беда, батюшка Денис Васильевич, что государь наш, Максим Яковлевич, не всегда различает людей: иной в час услужит больше, чем другой в неделю, а милость-то все одна и та же.
– Ну, что нам калякать о пустом, скажи-ка лучше, что твои приятели, казаки, поговаривают?
– Ты ведаешь,? – отвечал недоверчиво Ласка,? – что я с ними не якшаюсь.
– Зачем же ты живмя живешь в избе у Мещеряка?
– Ведь он, Денис Васильевич, другого десятка человек. Он не буян и не обидчик, как другие; например, атаман Гроза…
– И учит басурманить[44 - Кривить душой, лукавить.],? – продолжал Денис, смягча голос.? – Ведь твой Мещеряк не без языка и не без глаз.
– Правда, Денис Васильевич, он все видит, все знает, да вишь, все идет у них не по его. В угодность твою мы пытаемся с ним уговаривать казаков, чтобы не противились воле Максима Яковлевича, работали бы прилежнее в лесу. И если б не Матвей Федорович, то давно бы ослушались. Мы-де пришли, толкуют буяны, рубить нехристей, а не сосны и лиственницы…
– Да что бы они стали кушать, чем бы пропитал государь Максим Яковлевич такую ораву?? – вскричал Денис.? – Ты знаешь, легко ли доставать хлеб из Нижнего?
– То так батюшка, да, вишь, удалец-то, старый наш знакомец, что морочит всех нас под кафтаном покойника Грозы, мутит их.
– Что ты хочешь сказать?? – спросил дьяк, приметно встревоженный последними словами злобного Ласки.
– Так, ничего, Денис Васильевич, я только шепнул атаману Мещеряку да есаулу Самусю, что молодец-то этот, не опальный ли Ситский, который ушел от нас назад тому года с четыре?
– Ты просто врешь? – неужто у всех нас глаза хуже твоих, да мы его не узнали.
– А я так узнал и не ошибся: он, точно он. Не годится молокососу, да притом и опальному, подымать нос перед пожилыми людьми. Он и шапки не гнет, встретясь когда с нашим братом – старым слугой государя Максима Яковлевича, и Мещеряка в ус не ставит, даром, что тот на Дону был старее самого Ермака Тимофеевича. Не помогут ему ни приятель его колдун Уркунду, ни покровитель атаман Кольцо: даст бог, согнем в дугу…
Беспокойство, замеченное на лице сурового дьяка при начале разговора о Ситском, увеличивалось час от часу более. Наконец, при последних угрозах Ласки он вскочил со своего стула и, приказав ему никуда не отлучаться, вышел проворно вон.
– Эге-ге! – заметил подьячий, смотря подозрительно вслед старику.? – Он что-нибудь затеял недоброе. Сбегаю-ка посоветоваться с Матвеем Федоровичем.
Денису Васильевичу стоило перейти широкие сени и растворить двери, обитые красным сукном, чтобы очутиться в светлице Максима Яковлевича. Не найдя его в приемной горнице, он заглянул за занавеску, коею, как мы видели, отделялась опочивальня именитого человека. Максим Яковлевич отправлял утреннюю свою молитву: он стоял на коленях пред образом Спасителя и с усердием читал благодарственную молитву Господу Богу за осеяние светом дня сего. На цыпочках потихоньку отошел Орел к окошку и, закинув руки за спину, устремил взоры свои на двор. Он оставался в том бесчувственном положении, в коем, смотря во все глаза, ничего не видишь, а потому во всякое другое время смешная сцена, как прокрадывался по забору подьячий в избу Мещеряка, обратила бы его внимание. Теперь же промелькнула она как призрак. Легкий удар по плечу вывел его из остолбенения; он обернулся и, увидав перед собой Максима Яковлевича, низко ему поклонился.
Максим Яковлевич был одет в черное бархатное полукафтанье, подбитое драгоценными соболями. Он был мужчина лет пятидесяти, среднего роста; небольшая русая борода не скрывала благообразия и приятной выразительности лица полного, нежного. Голубые глаза его, хотя не блистали огнем, но исполнены были ума и сердечной доброты. Приветливость была на устах его; так что Максима Яковлевича можно было включить в небольшое число людей, которые вежливостью и лаской не страшатся утратить своего величия или поверхности. Он постигал тайну великих людей – действовать любовью на своих подчиненных. Правду сказать, эта истина дошла и до нас, и теперь простота и обходительность отличают незаимствованное достоинство вельможи; спесь и чванство обличают незаконность его возвышения!
– Что ты призадумался, Васильич? – спросил ласково Орла именитый человек.
– Обо многом нужно утруждать тебя, отца-государя,? – отвечал он с поклоном.
– Говори, ты знаешь, что я люблю с тобой беседовать.
– Велика милость, отец-государь, да, вишь, я-то ее не стою и принес свою повинную голову…
– Наперед прощаю тебя,? – промолвил Строганов с улыбкой.
– Беда, да и только!
– Постараемся ее исправить. Скажи скорее, в чем дело?
– Поведаю тебе, батюшка Максим Яковлевич, что я обманул тебя в первый и последний раз.
– Признаюсь, Васильич, я не знал, что ты умеешь кривить душой.