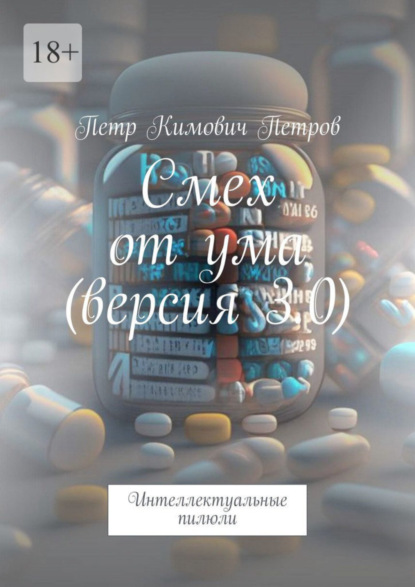По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Смех от ума (версия 3.0). Интеллектуальные пилюли
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Семёновна начала икать со скорострельностью винтовки Мосина.
– Кабанч… ИК! Ты же добрый мальч… ИК! Помоги… – с трудом протелеграфировала она.
– Для начала, Семёновна, перестань говорить слова на «ик», икота и пройдёт, – иронически посоветовал Рыбка.
– Это не ИК… ота, это т… ИК! – возразила Семёновна.
Кабан начал спасать подругу.
– Ну, что уставились, господа алкоголики? – обратился он к местному собранию представителей винно-водочной субкультуры. – Икоты не слышали? Ну-ка, напугайте девушку!
– Гы-гы-гы-гы… – хором засмеялись алкаши. Лично мне стало страшно от этих замогильных звуков. Семёновне, видимо, тоже.
– Ой! Всё прошло, бежим отсюда… – скороговоркой произнесла она.
Кабан решительно ломанул на выход, прокладывая Семёновне дорогу через толпу алкашей. Я и Рыбка потащили Веню, прикрывая арьергард. При этом Веня, волочимый под мышки в позе боярыни Морозовой, продолжал читать свою странную мораль изумлённым обитателям этого храма Бахуса.
На улице я посмотрел вверх и увидел, как солнце золотило купола Елоховки. Тёплый вечерний ветер развеивал невыносимый пивной смрад по Бакунинской. Всё это вызвало у меня в памяти когда-то сказанные Веней слова: «Animas in homine, ut nobilis, et humilis[9 - В человеке живет как благородное, так и низкое (лат.).]».
Два животных и два человека внутри меня пребывали в согласии, и от этого было хорошо…
2. О пространстве и времени
Стояла чудесная золотая осень. Шёл 1977 год. Леонид Ильич Брежнев ещё страстно целует Эрика Хонекера, памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому ещё горделиво возвышается на Лубянской площади, Борис Абрамович Березовский ещё заведует лабораторией в Институте проблем управления АН СССР, а мрамор для облицовки Манежной площади ещё лежит в земле.
55° 5» 73» северной широты, 39° 4» 40» восточной долготы, излучина Оки. Один из совхозов Советского Союза, какой именно – оставим в тайне, потому что ещё как минимум семь совхозов претендуют быть местом упомянутых в этом рассказе событий, как семь городов претендовали на честь быть родиной Гомера.
Туман, покрывавший в тот день берега Оки, был таким же густым, как и тот, которым покрыта история происхождения Одиссеи.
– Паромщи-и-и-к! Паромщик, твою мать, плыви сюда-а-а-а-а! Нам на тот берег надо! – раздавался басовитый, как пароходный гудок, призывный клич с берега реки.
– А пошли вы… на тот берег … – в том же тоне отвечал паромщик. При этом учтите, что мы передаём только смысл его ответа, который на самом деле был украшен множеством замысловатых нецензурных эпитетов, выражавших отношение паромщика к просящим, к родителям просящих, к парому и, вообще, к жизни. Вся эта квинтэссенция лексики деревенской части нашего общества долго и протяжно разносилась по туманным берегам Оки, создавая неповторимую атмосферу эпохи развитого социализма.
– Плыви, а не то я сейчас тебе глаз… – продолжал мужской бас в том же духе, обещая паромщику участь Гомера.
– Подожди, Кабан, дай мне сказать! – прозвучал с туманного берега мелодичный женский голосок. – Плывите сюда, паромщик, тут вас поцелую-ю-ю-т!
Этот неожиданный приём, как волшебный призыв Лорелеи[10 - Лорелея – мифическая русалка, завлекавшая речных рыбаков на погибель.], возымел действие, потому что до страждущих переправы путников донёсся стук мотора парома, и вскоре из белой мглы вынырнула его чёрная продолговатая туша.
На укутанном туманом причале паром встречала девушка невероятной красоты. Её внешность – точёная фигурка и белоснежное лицо, увенчанное копной светло-каштановых волос – напомнила бы паромщику облик упомянутой речной девы и судьбу зачарованного ею рыбака, если бы он был достаточно образован для этого. Но на его беду, чего не было – того не было.
– Ну, кто тут меня поцелует? – с надеждой в пропитом голосе спросил плохо знакомый с немецкой мифологией паромщик.
Девушка рассмеялась русалочьим смехом и отступила, а из группы, стоявших на причале людей, выдвинулся огромного роста и неохватного объёма молодой человек, и, приблизив свою небритую рыжую рожу к перекошенному от страха лицу паромщика, процедил сквозь зубы: «Я тебя поцелую. На том берегу, – и после паузы свирепо добавил – если захочешь…»
В группе молодых людей раздался смех и один из них, худой очкарик заумного вида, сказал: «Und das hat mit ihrem Singen Die Lore-Ley gethan[11 - И это всё Лорелея сделала пеньем своим (нем.) цитата из стихотворения Генриха Гейне «Лорелея».]».
Паромщик ещё долго будет злобно курить и заплёвывать Оку, переваривая этот позорный для него эпизод, а мы давайте сделаем небольшую паузу в повествовании и познакомимся с его участниками поближе. Даже если эти личности вам известны, не упускайте этот момент, будет не скучно.
Грубиян на причале и обладатель пароходного баса имел кличку «Кабан». Его обхождение с паромщиком, было самым малым из того, что следовало ожидать от его натуры. В Кабане всё было «чересчур». Он занимал слишком много пространства своим мощным телом, он занимал слишком много времени у окружающих своим чрезмерно пытливым умом. Со стороны, вообще, казалось, что все достоинства и недостатки, которых хватило бы на семерых обычных людей, по какому-то недоразумению природы достались одному её творению. И вот это казусное произведение эволюции пёрло по жизни напролом, не переставая ужасать, удивлять и восхищать своих друзей и знакомых. В силу этих качеств, Кабан почти всегда является промотором всех диспутов нашей компании.
Наша прелестная Лорелея на самом деле была обычной земной девушкой необыкновенной красоты и среди друзей имела прозвище «Семёновна». Семёновна была великолепным образцом рассеянной романтичной девицы. Большую часть времени она пребывала в состоянии возвышенной меланхолии, сдабривая нашу скучную для неё действительность неординарными шутками «чёрного» юмора. Одно время я полагал, что Семёновна как бы случайно забрела в наш земной мир и просто не знает, что в нём делать. Будто бы она вот-вот отрешённо скажет: «Ну, я пошла…» и растворится в пространстве. Что же касается красоты, то наша подруга вполне понимала волшебное действие своей внешности на окружающих мужчин и часто, без угрызений совести, пользовалась этим влиянием как средством для достижения любых целей, как, например, в рассказанном вам эпизоде с паромом.
Юношу, который так запросто цитировал Гейне, звали Вениамин Видивицын, хотя друзья обращались к нему по кличке «Веник». Так вот, Веник постоянно жаловался на это прозвище, утверждая, что его чудна’я фамилия и имя уже являются довольно занятной кличкой[12 - Веня намекает на известное выражение Гая Юлия Цезаря – Veni, Vidi, Vici – пришел, увидел, победил. Стоит заметить, что у родителей Венечки весьма своеобразное чувство юмора, или они очень любили читать Светония.]. Веня относил себя к философам. Он увлекался наукой и обладал удивительной способностью делать из простейших явлений глубокомысленные познавательные выводы. Иногда это постоянное «умничанье» раздражало его друзей. Впрочем, для описания наших событий это свойство разума Веника будет весьма полезно.
В толпе на пристани находился ещё один забавный персонаж по кличке «Рыбка». Происхождение (этимология, как выразился бы наш умник Вениамин) этого прозвища связано с излишней чувственностью его обладателя. Из остальных черт характера отметим нерешительность, вечные сомнения в себе и окружающих. Рыбка обладал декадентской внешностью, был достаточно начитан, а также хорошо знал французский и, как профессор Выбегалло, любил вставлять в речь французские фразы, к месту и невпопад. Например, это вступление к рассказу он назвал бы «trop artsy[13 - Слишком вычурное (фр.)]».
О себе я, как всегда, умолчу. Я просто свидетель этих необычных назидательных диалогов, которые пытаюсь донести до вас в занимательной форме, вроде рассказов Апулея, но только без ишака.
Итак, наши друзья заплатили знакомому вам деревенскому Харону по пятнадцать копеек (причём Кабан для общения с ним превратил это мифическое имя в обидный матерный каламбур) и переправились на другой берег Оки.
Чувствую, у вас на языке, дорогой читатель, вертится вопрос: «А как наши друзья тут оказались, и чего они, собственно, взыскались?»
Да просто этой осенью они занимались очень простым и понятным для любого советского студента делом – отбывали трудовую повинность «на картошке». Благородный труд на лоне природы вместо скучных лекций, внесение своего посильного вклада в продовольственную программу Партии и правительства – такими саркастическими рассуждениями утешали себя друзья. Вечером после работы в деревне делать нечего, ужин съеден, телевизора нет, а на Вениной гитаре вчера лопнула струна – вот и все обстоятельства. Да, ещё же танцы. Но там тоже произошла конфузия – один из членов их трудового коллектива, находясь сильно подшофе, или просто «ivre comme une b?te[14 - Пьяный, как скотина (фр.)]», как выразился Рыбка, заснул на биллиарде, и закрыл этим проступком дорогу в развлекательный клуб.
Солнце садилось, освещая своим золотым светом красоты осенней русской природы. «Расширитель сознания», составленный Кабаном из местных алкогольных суррогатов и заботливо влитый в глотки друзей, постепенно всасывался в кровь и способствовал возвышенному восприятию действительности.
Прогулка как прогулка. Друзья шли вперёд, без особой цели, полагаясь на звериный инстинкт Кабана. Куда же может завести их это неугомонное существо? И вот уже первое препятствие преградило им путь. На холме расположился приземистый длинный барак, в котором любой знаток сельской архитектуры времён СССР легко признал бы свиноферму. Наши приятели такими знаниями не располагали, но по одуряющему запаху свежего навоза легко догадались о назначении этого сооружения. Навоз разливался перед ними безбрежным морем.
– Друзья мои, Кабан привёл нас к себе домой, «cochon sale[15 - Грязный поросенок (фр.)]» – брезгливо проговорил Рыбка.
– Где же это вы видели свиноферму без навоза? Как говорится, где свиньи – там и навоз, – обиженно оправдывался Кабан.
– Похоже, весь навоз мира собрали здесь. Будем искать переправу через эту навозную реку. Идём налево, вон к той роще, – предложил Вениамин, – мужайся, Рыбон, теперь ты знаешь, как пахнет ремесло колхозника…
Кабан опустился на одно колено перед Семёновной и услужливо предложил: «Schei?e Express abgelegt, liebe Dame![16 - Дерьмо экспресс подан, уважаемая дама (нем.) Наш ругатель Кабан часто вставляет в свою речь непристойные фразы на немецком. Он думает, что таким образом это звучит прилично.]»
Семёновна сделала книксен, после чего легко взобралась на могучие плечи Кабана, откуда важно произнесла: «Ein Ticket nach Avalon, bitte![17 - Один билет на Авалон пожалуйста (нем.)]».
Переправа через море дерьма сопровождалась длинной чередой нецензурных высказываний на русском и французском языках. Наконец, друзья с облегчением вступили в заветную рощу.
– Так вот что охраняло навозное море, вот наш Авалон… – подумал я, но вслух произнести не посмел.
Золотистые лучи заходящего солнца пробивались сквозь багряную листву. Земля была устлана жёлто-красным покровом. Чёрные стволы клёнов уходили в бесконечность. Роща была пустой и безмолвной. Жёлтые листья отрывались от веток и, кружась, медленно падали на пёстрый полог леса. Под ногами в такт неверным шагам шуршал чистый пряно пахнущий ковёр. Семёновна побежала между деревьев и закружилась, раскинув руки. Её проникновенный голос зазвучал в тишине рощи:
– В волшебном пространстве осени
Я кружусь как опавший лист.
С хмурого неба без просини
Беззвучно спускаюсь вниз.
На багряном ковре меж стволами,
Устремлёнными в серую высь,
Я шепчу золотыми губами:
Время осени – остановись…
Волшебная роща осталась позади, а в моей памяти она осталась навсегда. Никто из нас не произнёс больше ни слова.
С границы обагрённой листвой земли нашему взору открылось бесконечное пространство. Пологий склон уходил к самому горизонту и там, в сизой дымке, серебрилась река. Неясно виднелись вдалеке какие-то дома и белая церковь с ярко блестящими золотыми куполами. Склон был зелёным и ровным. Ряды круглых стожков сливались в красивой шахматной перспективе. Огромное тусклое солнце висело над этим чудесным пейзажем. Время остановилось, и, казалось, что этот закат никогда не кончится…
– Кабанч… ИК! Ты же добрый мальч… ИК! Помоги… – с трудом протелеграфировала она.
– Для начала, Семёновна, перестань говорить слова на «ик», икота и пройдёт, – иронически посоветовал Рыбка.
– Это не ИК… ота, это т… ИК! – возразила Семёновна.
Кабан начал спасать подругу.
– Ну, что уставились, господа алкоголики? – обратился он к местному собранию представителей винно-водочной субкультуры. – Икоты не слышали? Ну-ка, напугайте девушку!
– Гы-гы-гы-гы… – хором засмеялись алкаши. Лично мне стало страшно от этих замогильных звуков. Семёновне, видимо, тоже.
– Ой! Всё прошло, бежим отсюда… – скороговоркой произнесла она.
Кабан решительно ломанул на выход, прокладывая Семёновне дорогу через толпу алкашей. Я и Рыбка потащили Веню, прикрывая арьергард. При этом Веня, волочимый под мышки в позе боярыни Морозовой, продолжал читать свою странную мораль изумлённым обитателям этого храма Бахуса.
На улице я посмотрел вверх и увидел, как солнце золотило купола Елоховки. Тёплый вечерний ветер развеивал невыносимый пивной смрад по Бакунинской. Всё это вызвало у меня в памяти когда-то сказанные Веней слова: «Animas in homine, ut nobilis, et humilis[9 - В человеке живет как благородное, так и низкое (лат.).]».
Два животных и два человека внутри меня пребывали в согласии, и от этого было хорошо…
2. О пространстве и времени
Стояла чудесная золотая осень. Шёл 1977 год. Леонид Ильич Брежнев ещё страстно целует Эрика Хонекера, памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому ещё горделиво возвышается на Лубянской площади, Борис Абрамович Березовский ещё заведует лабораторией в Институте проблем управления АН СССР, а мрамор для облицовки Манежной площади ещё лежит в земле.
55° 5» 73» северной широты, 39° 4» 40» восточной долготы, излучина Оки. Один из совхозов Советского Союза, какой именно – оставим в тайне, потому что ещё как минимум семь совхозов претендуют быть местом упомянутых в этом рассказе событий, как семь городов претендовали на честь быть родиной Гомера.
Туман, покрывавший в тот день берега Оки, был таким же густым, как и тот, которым покрыта история происхождения Одиссеи.
– Паромщи-и-и-к! Паромщик, твою мать, плыви сюда-а-а-а-а! Нам на тот берег надо! – раздавался басовитый, как пароходный гудок, призывный клич с берега реки.
– А пошли вы… на тот берег … – в том же тоне отвечал паромщик. При этом учтите, что мы передаём только смысл его ответа, который на самом деле был украшен множеством замысловатых нецензурных эпитетов, выражавших отношение паромщика к просящим, к родителям просящих, к парому и, вообще, к жизни. Вся эта квинтэссенция лексики деревенской части нашего общества долго и протяжно разносилась по туманным берегам Оки, создавая неповторимую атмосферу эпохи развитого социализма.
– Плыви, а не то я сейчас тебе глаз… – продолжал мужской бас в том же духе, обещая паромщику участь Гомера.
– Подожди, Кабан, дай мне сказать! – прозвучал с туманного берега мелодичный женский голосок. – Плывите сюда, паромщик, тут вас поцелую-ю-ю-т!
Этот неожиданный приём, как волшебный призыв Лорелеи[10 - Лорелея – мифическая русалка, завлекавшая речных рыбаков на погибель.], возымел действие, потому что до страждущих переправы путников донёсся стук мотора парома, и вскоре из белой мглы вынырнула его чёрная продолговатая туша.
На укутанном туманом причале паром встречала девушка невероятной красоты. Её внешность – точёная фигурка и белоснежное лицо, увенчанное копной светло-каштановых волос – напомнила бы паромщику облик упомянутой речной девы и судьбу зачарованного ею рыбака, если бы он был достаточно образован для этого. Но на его беду, чего не было – того не было.
– Ну, кто тут меня поцелует? – с надеждой в пропитом голосе спросил плохо знакомый с немецкой мифологией паромщик.
Девушка рассмеялась русалочьим смехом и отступила, а из группы, стоявших на причале людей, выдвинулся огромного роста и неохватного объёма молодой человек, и, приблизив свою небритую рыжую рожу к перекошенному от страха лицу паромщика, процедил сквозь зубы: «Я тебя поцелую. На том берегу, – и после паузы свирепо добавил – если захочешь…»
В группе молодых людей раздался смех и один из них, худой очкарик заумного вида, сказал: «Und das hat mit ihrem Singen Die Lore-Ley gethan[11 - И это всё Лорелея сделала пеньем своим (нем.) цитата из стихотворения Генриха Гейне «Лорелея».]».
Паромщик ещё долго будет злобно курить и заплёвывать Оку, переваривая этот позорный для него эпизод, а мы давайте сделаем небольшую паузу в повествовании и познакомимся с его участниками поближе. Даже если эти личности вам известны, не упускайте этот момент, будет не скучно.
Грубиян на причале и обладатель пароходного баса имел кличку «Кабан». Его обхождение с паромщиком, было самым малым из того, что следовало ожидать от его натуры. В Кабане всё было «чересчур». Он занимал слишком много пространства своим мощным телом, он занимал слишком много времени у окружающих своим чрезмерно пытливым умом. Со стороны, вообще, казалось, что все достоинства и недостатки, которых хватило бы на семерых обычных людей, по какому-то недоразумению природы достались одному её творению. И вот это казусное произведение эволюции пёрло по жизни напролом, не переставая ужасать, удивлять и восхищать своих друзей и знакомых. В силу этих качеств, Кабан почти всегда является промотором всех диспутов нашей компании.
Наша прелестная Лорелея на самом деле была обычной земной девушкой необыкновенной красоты и среди друзей имела прозвище «Семёновна». Семёновна была великолепным образцом рассеянной романтичной девицы. Большую часть времени она пребывала в состоянии возвышенной меланхолии, сдабривая нашу скучную для неё действительность неординарными шутками «чёрного» юмора. Одно время я полагал, что Семёновна как бы случайно забрела в наш земной мир и просто не знает, что в нём делать. Будто бы она вот-вот отрешённо скажет: «Ну, я пошла…» и растворится в пространстве. Что же касается красоты, то наша подруга вполне понимала волшебное действие своей внешности на окружающих мужчин и часто, без угрызений совести, пользовалась этим влиянием как средством для достижения любых целей, как, например, в рассказанном вам эпизоде с паромом.
Юношу, который так запросто цитировал Гейне, звали Вениамин Видивицын, хотя друзья обращались к нему по кличке «Веник». Так вот, Веник постоянно жаловался на это прозвище, утверждая, что его чудна’я фамилия и имя уже являются довольно занятной кличкой[12 - Веня намекает на известное выражение Гая Юлия Цезаря – Veni, Vidi, Vici – пришел, увидел, победил. Стоит заметить, что у родителей Венечки весьма своеобразное чувство юмора, или они очень любили читать Светония.]. Веня относил себя к философам. Он увлекался наукой и обладал удивительной способностью делать из простейших явлений глубокомысленные познавательные выводы. Иногда это постоянное «умничанье» раздражало его друзей. Впрочем, для описания наших событий это свойство разума Веника будет весьма полезно.
В толпе на пристани находился ещё один забавный персонаж по кличке «Рыбка». Происхождение (этимология, как выразился бы наш умник Вениамин) этого прозвища связано с излишней чувственностью его обладателя. Из остальных черт характера отметим нерешительность, вечные сомнения в себе и окружающих. Рыбка обладал декадентской внешностью, был достаточно начитан, а также хорошо знал французский и, как профессор Выбегалло, любил вставлять в речь французские фразы, к месту и невпопад. Например, это вступление к рассказу он назвал бы «trop artsy[13 - Слишком вычурное (фр.)]».
О себе я, как всегда, умолчу. Я просто свидетель этих необычных назидательных диалогов, которые пытаюсь донести до вас в занимательной форме, вроде рассказов Апулея, но только без ишака.
Итак, наши друзья заплатили знакомому вам деревенскому Харону по пятнадцать копеек (причём Кабан для общения с ним превратил это мифическое имя в обидный матерный каламбур) и переправились на другой берег Оки.
Чувствую, у вас на языке, дорогой читатель, вертится вопрос: «А как наши друзья тут оказались, и чего они, собственно, взыскались?»
Да просто этой осенью они занимались очень простым и понятным для любого советского студента делом – отбывали трудовую повинность «на картошке». Благородный труд на лоне природы вместо скучных лекций, внесение своего посильного вклада в продовольственную программу Партии и правительства – такими саркастическими рассуждениями утешали себя друзья. Вечером после работы в деревне делать нечего, ужин съеден, телевизора нет, а на Вениной гитаре вчера лопнула струна – вот и все обстоятельства. Да, ещё же танцы. Но там тоже произошла конфузия – один из членов их трудового коллектива, находясь сильно подшофе, или просто «ivre comme une b?te[14 - Пьяный, как скотина (фр.)]», как выразился Рыбка, заснул на биллиарде, и закрыл этим проступком дорогу в развлекательный клуб.
Солнце садилось, освещая своим золотым светом красоты осенней русской природы. «Расширитель сознания», составленный Кабаном из местных алкогольных суррогатов и заботливо влитый в глотки друзей, постепенно всасывался в кровь и способствовал возвышенному восприятию действительности.
Прогулка как прогулка. Друзья шли вперёд, без особой цели, полагаясь на звериный инстинкт Кабана. Куда же может завести их это неугомонное существо? И вот уже первое препятствие преградило им путь. На холме расположился приземистый длинный барак, в котором любой знаток сельской архитектуры времён СССР легко признал бы свиноферму. Наши приятели такими знаниями не располагали, но по одуряющему запаху свежего навоза легко догадались о назначении этого сооружения. Навоз разливался перед ними безбрежным морем.
– Друзья мои, Кабан привёл нас к себе домой, «cochon sale[15 - Грязный поросенок (фр.)]» – брезгливо проговорил Рыбка.
– Где же это вы видели свиноферму без навоза? Как говорится, где свиньи – там и навоз, – обиженно оправдывался Кабан.
– Похоже, весь навоз мира собрали здесь. Будем искать переправу через эту навозную реку. Идём налево, вон к той роще, – предложил Вениамин, – мужайся, Рыбон, теперь ты знаешь, как пахнет ремесло колхозника…
Кабан опустился на одно колено перед Семёновной и услужливо предложил: «Schei?e Express abgelegt, liebe Dame![16 - Дерьмо экспресс подан, уважаемая дама (нем.) Наш ругатель Кабан часто вставляет в свою речь непристойные фразы на немецком. Он думает, что таким образом это звучит прилично.]»
Семёновна сделала книксен, после чего легко взобралась на могучие плечи Кабана, откуда важно произнесла: «Ein Ticket nach Avalon, bitte![17 - Один билет на Авалон пожалуйста (нем.)]».
Переправа через море дерьма сопровождалась длинной чередой нецензурных высказываний на русском и французском языках. Наконец, друзья с облегчением вступили в заветную рощу.
– Так вот что охраняло навозное море, вот наш Авалон… – подумал я, но вслух произнести не посмел.
Золотистые лучи заходящего солнца пробивались сквозь багряную листву. Земля была устлана жёлто-красным покровом. Чёрные стволы клёнов уходили в бесконечность. Роща была пустой и безмолвной. Жёлтые листья отрывались от веток и, кружась, медленно падали на пёстрый полог леса. Под ногами в такт неверным шагам шуршал чистый пряно пахнущий ковёр. Семёновна побежала между деревьев и закружилась, раскинув руки. Её проникновенный голос зазвучал в тишине рощи:
– В волшебном пространстве осени
Я кружусь как опавший лист.
С хмурого неба без просини
Беззвучно спускаюсь вниз.
На багряном ковре меж стволами,
Устремлёнными в серую высь,
Я шепчу золотыми губами:
Время осени – остановись…
Волшебная роща осталась позади, а в моей памяти она осталась навсегда. Никто из нас не произнёс больше ни слова.
С границы обагрённой листвой земли нашему взору открылось бесконечное пространство. Пологий склон уходил к самому горизонту и там, в сизой дымке, серебрилась река. Неясно виднелись вдалеке какие-то дома и белая церковь с ярко блестящими золотыми куполами. Склон был зелёным и ровным. Ряды круглых стожков сливались в красивой шахматной перспективе. Огромное тусклое солнце висело над этим чудесным пейзажем. Время остановилось, и, казалось, что этот закат никогда не кончится…