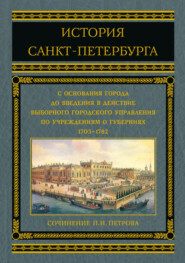По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Белые и черные
Автор
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Зайди, няня, проводила до дверей, зачем же не хочешь войти?
– Да горюшко-то мое больно донимает. Сердце ныть принялось, так что не уймешь не переплакавши…
– Ну и плачь у меня. И я с тобою заплачу, что хотят насильно замуж отдавать.
– Тебе бы все зубы точить… А мне так Дунька истинно горе устроила и заботу. И об ней-то подумать надо да голову поломать, что только с ней сталось? Иванушку мне истинно до смерти жаль! Первое – парень хороший; второе дело – надежная подпора старости был бы да в делах помощником. – И Ильинична, махнув рукой и скрывая слезы, зашагала в свою сторону.
Цесаревна с участием посмотрела на свою старую няньку и покачала головой, вступая на крыльцо.
Между тем Толстой, возвратившись домой, послал за своими приятелями заговорщиками. Первым явился Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев. Это был человек во многих отношениях замечательный и, если угодно, с большими способностями, которые, однако, не могли умерить в нем необыкновенного оживления, внезапно сменявшегося апатией и беззаботностью. Самая наружность его была непривлекательна. Он отличался угловатыми движениями и дребезжащим голосишком. Вообще он был человек непоследовательный, порывистый и поверхностного образования.
Только что прощенный при содействии и ходатайстве Меншикова и еще не вполне воротивший то, что ему лично принадлежало по праву, Скорняков-Писарев теперь уже оказывался врагом светлейшего, готовым соединиться с бывшею своею жертвою – Шафировым на пагубу покровителя. Таков был он и в частном быту. Сначала умолил Петра сосватать ему девушку, которую любил, а когда свадьба состоялась, своим необузданным характером заставил ее постричься в монахини. Когда же пострижение совершилось, стал томиться и мучиться, нигде не находя покоя и умоляя духовные власти снять с жены обет. Обещано было это ему неохотно, но он от одного обещания повеселел и сделался покорным орудием Толстого и Мусина-Пушкина. Их поддержкою он надеялся достигнуть желаемого.
– Что нового слышно? – крикнул Писарев, входя к Толстому, который в ожидании гостей слегка задремал.
– Много, и самого неприглядного, – ответил старик, потирая глаза.
– Затем и сзываешь, чтобы неприглядное порассказать?
– Да!
– А нельзя узнать попрежде? Чтобы подумать, какие меры принять.
– Почему не так? Можно… Слушай. Я готов и тебе одному все пересказать.
Писарев, уже севший на ту же лавку, где сидел хозяин, молча придвинулся к нему.
– Я прямо от герцога Голштинского, – начал Толстой. – Все мы на него сглупа возымели было большие надежды. Говорили, что и умный-то он, и русских-то любит, а он – немец был, немцем и останется, а русским совсем не под стать. Первое дело: никогда не возьмет в толк и наших порядков, и наших нужд… А другое дело, все его помышления клонятся к тому, как бы нашими руками жар загрести на свою сторону, да только немцам по вкусу, а уж никак не нам.
– И я то же предсказывал еще спервоначалу… Видел и я, что эти приятели мягко стелют, только жестко спать придется; да ведь не слушали… Что же теперь эти благодетели начинают?
– Да начинать они только сбираются, а наше дело этому помешать, коли добра себе желаем.
– Вестимо так… Знать бы только, когда и где мне дать им отпор.
– Ты сам поймешь, где и что делать. Вот кряду Петр Павлыч валит, да еще слышу два голоса, кажется… – молвил Толстой, начав прислушиваться. Слух у него был очень тонок.
Через несколько мгновений действительно ввалилась в комнату короткая, тучная фигура Шафирова и за ним граф Мусин-Пушкин, прихрамывающий, по обыкновению, от подагры. На лице его, еще совсем свежем, только тронутом морщинами, светилась тонкая улыбка, и левый глаз, подергиваемый по временам судорогою, придавал этой улыбке что-то особенное. С первого взгляда можно было видеть, что Мусин-Пушкин в прекрасном настроении.
Зато Шафиров редко бывал так нахмурен и недоволен, как теперь, и все что-то ворчал себе под нос.
За Шафировым же выступал холодный на вид, вечно бдительный и готовый недоверчиво отнестись ко всякого рода слухам, бравый генерал-полицеймейстер Дивиер. Теперь он, кажется, был уже предупрежден насчет прямого повода приглашения Толстого и казался сильно сосредоточенным и более бледным, чем обыкновенно.
Поздоровавшись с хозяином, все сели вокруг стола; но Толстой обратился к своим гостям с предложением:
– Не лучше ли нам перейти в повалушку[19 - Повалушка (повалуха) – жилое помещение вроде горницы, обычно холодное.]? Там, кажись, будет нам повольготнее и попивать, и речи вести?
– Как угодно, – ответил за всех Шафиров, и все последовали во внутреннюю часть дома через два перехода. Оказалась эта повалушка – светлицей в три окна в сад, совсем на другой половине дома. Может быть, приглашая сюда, престарелый дипломат припомнил свою беседу с Лакостой да легкость, с которою прокрался к нему на вышку Ушаков. Здесь было совсем другое положение, и подойти врасплох не представлялось ни малейшей возможности.
В этой самой повалушке, на мягких полавочниках, расселись теперь гости графа Петра Андреевича. При входе сюда они были встречены по старому русскому обычаю – радушною хозяйкою с подносом в руках, уставленным чарками, среди которых красовалась увесистая братина[20 - Братина – сосуд, в котором разносят питье или пиво «на всю братию» и разливают по чашкам и стаканам.], наполненная токайским.
Когда гости взяли чарки, хозяин произнес с одушевлением:
– Выпьем, братцы, теперь за дружбу и единодушие! Чтобы не продавать свое родное, а по совести твердо держать слово и не сдаваться ни на льстивые речи, ни на посулы, ни на угрозы… да и не давать себя подкупить ни женской красой, ни житейской выгодой! Аминь! Поцелуемся!
Все казались проникнутыми горячим чувством и поцеловались. Затем Скорняков начал речь, показавшую, что он допускает для достижения цели два противоположных пути.
– Согласимся же, братцы, немцев – будь они голштинские или цесарские – брать в помощь осмотрительно: пусть выполняют, что нам нужно, коли хотят с нами заодно на наших ворогов… Пусть не мешают нам с ними расправиться, а тогда мы посмотрим, какую им дать работу.
– Зачем же тебе, Григорий, немцы-то могут потребоваться? – вдруг осадил его вопросом хозяин.
– Как же без них?! Только им воли не давать…
– Удружил… нечего сказать! – вставил Шафиров.
– Не надо нам немцев ни с волей, ни без воли! – еще идя к собеседникам, крикнул князь Василий Владимирович Долгоруков, отвечая Скорнякову и приведя его в полную невозможность как-нибудь вывернуться.
– Спасибо, князь Василий, что недолго думал да хорошо сказал, – поощрительно, качнув головою и протягивая руку, отозвался Толстой. – Я ведь думаю, что и сам Гриша теперь смекает, что без немцев обойдется?.. А у него это просто с языка сорвалось – от спешки…
– Конечно, можно и совсем… без немцев, коли вы не хотите… – вздумал поправиться Скорняков, – но…
– Никакого «но» тут нет, а одни мы, русские люди, норовим для себя подумать о добром порядке. А согласись, Гриша, кому же свой дом устраивать, как не хозяину? Ведь немцы гости у нас, – еще раз возразил князь Василий Владимирович, и противник не нашелся что сказать, а только развел руками.
На всех лицах, кроме Писарева, появились улыбки. Воцарилось молчание, все предались раздумью. Пользуясь паузою, Толстой поднялся с места и, озирая всех гостей своих, сказал:
– Вот с чего я хотел бы начать нашу беседу – послушайте. Был я у Голштинского и узнал невольно его затеи: женить своего двоюродного брата на Елизавете Петровне и за ней дать в приданое ему Курляндию, да еще с одним нашим островом на море. Владея островом Эзелем как приданым за женой, герцог Фридрих Голштинский, при устройстве союза своего брата с младшей цесаревной, намерен выпросить себе всю Эстляндию, если еще не Лифляндию, да нашим войском завоевать и все свое родовое наследство от датчан на первый случай. На счастье наше, Елизавета Петровна терпеть не может голштинца, что прочат ей в женихи. Поэтому есть еще для нас возможность, коли вступимся теперь же да умно поведем дело, эти голштинские затеи совсем подсечь. Нужно умно начать и не разрознивать нам сил своих. Я даже готов с злейшим своим недругом сойтись, только бы отрубить хвосты голштинским лисичкам да зайчикам. Вот пусть каждый из вас, братцы, теперь же и выскажет, что представляется его разуму годным при настоящих обстоятельствах… Предоставляю речь тебе первому, Петр Павлыч, как дельцу опытному и осторожному…
– Благодарю за честь, – отозвался Шафиров. – Я могу одно сказать: коли покуда это только одни голштинские похвальбы, так очень хорошо знать их и на ус нам намотать, а дело начинать нам рано. Прежде бы посмотреть, что дальше будет. Представляется мне как-то невероятным, чтобы не было обещания, коли уже расхвастался голштинский павлин, что он и то и то поделает. Если Головкин неподатлив на обещания, зато Остерман для немцев на все готов – и сделать, и надоумить, нашему народу во вред. Прежде дела поэтому нужно эту змею – Остермана лишить возможности вредить. Не допускать его в дела иностранные, а из русской службы совсем уволить! И если это удастся, тогда только можно надеяться, что отнимется главная рука и поддержка этому нахальному у нас хозяйничанью. Вот чем нам, русским, и Меншиков больше всего противен, что он этому аспиду – главная поддержка! И ты, граф Петр Андреич, должен прежде решить вопрос: можешь ли ты вытолкать отсюда Остермана?
– Сразу нельзя… а постепенно, полагаю, можно: прибравши в руки как следует власть, и этого немца спровадить можно.
– Да власть-то тебе забрать не придется, при его наветах. Ты знай, что он поймет с первого же шага твою игру и примет свои меры. Головкин пробовал столкнуть его, да не смог!
– Если Головкин, как ты говоришь, Петр Павлыч, пробовал при лучших обстоятельствах, то теперь и подавно не придется, – ответил Дивиер. – Шурин мой ему поручает воспитание внука ее императорского величества… и теперь его садят в совет.
– Вот, первое дело, и надо нам не допустить Остермана быть воспитателем, – сказал князь Василий Владимирович Долгоруков. – И это, я думаю, легче всего удастся, если внушить императрице, что никак нельзя воспитывать государя для русского народа нерусскому… Да и подметные письма можно пустить по этому поводу. А там пусть Сенат и Синод сделают общее представление и прямо скажут, что ее величеству нет выгоды противиться общенародной пользе и общему требованию.
– Я охотно присоединяюсь к этому мнению князя Василия Владимировича и берусь поддерживать в собраниях наших, по Сенату, этот дух, да и в Синоде могу присоветовать призвать к Георгию Дашкову еще других русских архиереев, которые бы сторонника немцев Феофана, в свою очередь, скрутили понадежнее…
– Это само собой, а еще лучше для усиления русского влияния в делах в это царствование – восстановить патриаршество, в лице русского… Тогда Георгия, например, можно в патриархи, – высказался Скорняков-Писарев.
Этот вывод всех поразил и заставил задуматься.
– Только восстановить патриарха надо без прошлой страшной силы, какая была при Филарете. В светские дела правительства пусть он не суется, а тогда только высказывает мнение, когда его спросят. А по владению монастырскими вотчинами мы сообща поставим управителей – стряпчих; он – со своей стороны, мы – со своей; игумнам же, архимандритам и архиереям в имущество и владенье им не вступаться. Им на содержанье всем можно назначить достаточно…
– И я так же думаю! – воскликнул граф Мусин-Пушкин, прибавив с самодовольством: – Мы уж кое-какой завели, кажется, порядок… чернецы уже попривыкли к надзору… потакать им нечего…
– Н-ну! Коли патриарха-то поставите вновь, он, чего доброго, и упираться станет, где представится возможность, – заметил как бы вскользь Шафиров, поглядев на Мусина воспросительно.
– Да горюшко-то мое больно донимает. Сердце ныть принялось, так что не уймешь не переплакавши…
– Ну и плачь у меня. И я с тобою заплачу, что хотят насильно замуж отдавать.
– Тебе бы все зубы точить… А мне так Дунька истинно горе устроила и заботу. И об ней-то подумать надо да голову поломать, что только с ней сталось? Иванушку мне истинно до смерти жаль! Первое – парень хороший; второе дело – надежная подпора старости был бы да в делах помощником. – И Ильинична, махнув рукой и скрывая слезы, зашагала в свою сторону.
Цесаревна с участием посмотрела на свою старую няньку и покачала головой, вступая на крыльцо.
Между тем Толстой, возвратившись домой, послал за своими приятелями заговорщиками. Первым явился Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев. Это был человек во многих отношениях замечательный и, если угодно, с большими способностями, которые, однако, не могли умерить в нем необыкновенного оживления, внезапно сменявшегося апатией и беззаботностью. Самая наружность его была непривлекательна. Он отличался угловатыми движениями и дребезжащим голосишком. Вообще он был человек непоследовательный, порывистый и поверхностного образования.
Только что прощенный при содействии и ходатайстве Меншикова и еще не вполне воротивший то, что ему лично принадлежало по праву, Скорняков-Писарев теперь уже оказывался врагом светлейшего, готовым соединиться с бывшею своею жертвою – Шафировым на пагубу покровителя. Таков был он и в частном быту. Сначала умолил Петра сосватать ему девушку, которую любил, а когда свадьба состоялась, своим необузданным характером заставил ее постричься в монахини. Когда же пострижение совершилось, стал томиться и мучиться, нигде не находя покоя и умоляя духовные власти снять с жены обет. Обещано было это ему неохотно, но он от одного обещания повеселел и сделался покорным орудием Толстого и Мусина-Пушкина. Их поддержкою он надеялся достигнуть желаемого.
– Что нового слышно? – крикнул Писарев, входя к Толстому, который в ожидании гостей слегка задремал.
– Много, и самого неприглядного, – ответил старик, потирая глаза.
– Затем и сзываешь, чтобы неприглядное порассказать?
– Да!
– А нельзя узнать попрежде? Чтобы подумать, какие меры принять.
– Почему не так? Можно… Слушай. Я готов и тебе одному все пересказать.
Писарев, уже севший на ту же лавку, где сидел хозяин, молча придвинулся к нему.
– Я прямо от герцога Голштинского, – начал Толстой. – Все мы на него сглупа возымели было большие надежды. Говорили, что и умный-то он, и русских-то любит, а он – немец был, немцем и останется, а русским совсем не под стать. Первое дело: никогда не возьмет в толк и наших порядков, и наших нужд… А другое дело, все его помышления клонятся к тому, как бы нашими руками жар загрести на свою сторону, да только немцам по вкусу, а уж никак не нам.
– И я то же предсказывал еще спервоначалу… Видел и я, что эти приятели мягко стелют, только жестко спать придется; да ведь не слушали… Что же теперь эти благодетели начинают?
– Да начинать они только сбираются, а наше дело этому помешать, коли добра себе желаем.
– Вестимо так… Знать бы только, когда и где мне дать им отпор.
– Ты сам поймешь, где и что делать. Вот кряду Петр Павлыч валит, да еще слышу два голоса, кажется… – молвил Толстой, начав прислушиваться. Слух у него был очень тонок.
Через несколько мгновений действительно ввалилась в комнату короткая, тучная фигура Шафирова и за ним граф Мусин-Пушкин, прихрамывающий, по обыкновению, от подагры. На лице его, еще совсем свежем, только тронутом морщинами, светилась тонкая улыбка, и левый глаз, подергиваемый по временам судорогою, придавал этой улыбке что-то особенное. С первого взгляда можно было видеть, что Мусин-Пушкин в прекрасном настроении.
Зато Шафиров редко бывал так нахмурен и недоволен, как теперь, и все что-то ворчал себе под нос.
За Шафировым же выступал холодный на вид, вечно бдительный и готовый недоверчиво отнестись ко всякого рода слухам, бравый генерал-полицеймейстер Дивиер. Теперь он, кажется, был уже предупрежден насчет прямого повода приглашения Толстого и казался сильно сосредоточенным и более бледным, чем обыкновенно.
Поздоровавшись с хозяином, все сели вокруг стола; но Толстой обратился к своим гостям с предложением:
– Не лучше ли нам перейти в повалушку[19 - Повалушка (повалуха) – жилое помещение вроде горницы, обычно холодное.]? Там, кажись, будет нам повольготнее и попивать, и речи вести?
– Как угодно, – ответил за всех Шафиров, и все последовали во внутреннюю часть дома через два перехода. Оказалась эта повалушка – светлицей в три окна в сад, совсем на другой половине дома. Может быть, приглашая сюда, престарелый дипломат припомнил свою беседу с Лакостой да легкость, с которою прокрался к нему на вышку Ушаков. Здесь было совсем другое положение, и подойти врасплох не представлялось ни малейшей возможности.
В этой самой повалушке, на мягких полавочниках, расселись теперь гости графа Петра Андреевича. При входе сюда они были встречены по старому русскому обычаю – радушною хозяйкою с подносом в руках, уставленным чарками, среди которых красовалась увесистая братина[20 - Братина – сосуд, в котором разносят питье или пиво «на всю братию» и разливают по чашкам и стаканам.], наполненная токайским.
Когда гости взяли чарки, хозяин произнес с одушевлением:
– Выпьем, братцы, теперь за дружбу и единодушие! Чтобы не продавать свое родное, а по совести твердо держать слово и не сдаваться ни на льстивые речи, ни на посулы, ни на угрозы… да и не давать себя подкупить ни женской красой, ни житейской выгодой! Аминь! Поцелуемся!
Все казались проникнутыми горячим чувством и поцеловались. Затем Скорняков начал речь, показавшую, что он допускает для достижения цели два противоположных пути.
– Согласимся же, братцы, немцев – будь они голштинские или цесарские – брать в помощь осмотрительно: пусть выполняют, что нам нужно, коли хотят с нами заодно на наших ворогов… Пусть не мешают нам с ними расправиться, а тогда мы посмотрим, какую им дать работу.
– Зачем же тебе, Григорий, немцы-то могут потребоваться? – вдруг осадил его вопросом хозяин.
– Как же без них?! Только им воли не давать…
– Удружил… нечего сказать! – вставил Шафиров.
– Не надо нам немцев ни с волей, ни без воли! – еще идя к собеседникам, крикнул князь Василий Владимирович Долгоруков, отвечая Скорнякову и приведя его в полную невозможность как-нибудь вывернуться.
– Спасибо, князь Василий, что недолго думал да хорошо сказал, – поощрительно, качнув головою и протягивая руку, отозвался Толстой. – Я ведь думаю, что и сам Гриша теперь смекает, что без немцев обойдется?.. А у него это просто с языка сорвалось – от спешки…
– Конечно, можно и совсем… без немцев, коли вы не хотите… – вздумал поправиться Скорняков, – но…
– Никакого «но» тут нет, а одни мы, русские люди, норовим для себя подумать о добром порядке. А согласись, Гриша, кому же свой дом устраивать, как не хозяину? Ведь немцы гости у нас, – еще раз возразил князь Василий Владимирович, и противник не нашелся что сказать, а только развел руками.
На всех лицах, кроме Писарева, появились улыбки. Воцарилось молчание, все предались раздумью. Пользуясь паузою, Толстой поднялся с места и, озирая всех гостей своих, сказал:
– Вот с чего я хотел бы начать нашу беседу – послушайте. Был я у Голштинского и узнал невольно его затеи: женить своего двоюродного брата на Елизавете Петровне и за ней дать в приданое ему Курляндию, да еще с одним нашим островом на море. Владея островом Эзелем как приданым за женой, герцог Фридрих Голштинский, при устройстве союза своего брата с младшей цесаревной, намерен выпросить себе всю Эстляндию, если еще не Лифляндию, да нашим войском завоевать и все свое родовое наследство от датчан на первый случай. На счастье наше, Елизавета Петровна терпеть не может голштинца, что прочат ей в женихи. Поэтому есть еще для нас возможность, коли вступимся теперь же да умно поведем дело, эти голштинские затеи совсем подсечь. Нужно умно начать и не разрознивать нам сил своих. Я даже готов с злейшим своим недругом сойтись, только бы отрубить хвосты голштинским лисичкам да зайчикам. Вот пусть каждый из вас, братцы, теперь же и выскажет, что представляется его разуму годным при настоящих обстоятельствах… Предоставляю речь тебе первому, Петр Павлыч, как дельцу опытному и осторожному…
– Благодарю за честь, – отозвался Шафиров. – Я могу одно сказать: коли покуда это только одни голштинские похвальбы, так очень хорошо знать их и на ус нам намотать, а дело начинать нам рано. Прежде бы посмотреть, что дальше будет. Представляется мне как-то невероятным, чтобы не было обещания, коли уже расхвастался голштинский павлин, что он и то и то поделает. Если Головкин неподатлив на обещания, зато Остерман для немцев на все готов – и сделать, и надоумить, нашему народу во вред. Прежде дела поэтому нужно эту змею – Остермана лишить возможности вредить. Не допускать его в дела иностранные, а из русской службы совсем уволить! И если это удастся, тогда только можно надеяться, что отнимется главная рука и поддержка этому нахальному у нас хозяйничанью. Вот чем нам, русским, и Меншиков больше всего противен, что он этому аспиду – главная поддержка! И ты, граф Петр Андреич, должен прежде решить вопрос: можешь ли ты вытолкать отсюда Остермана?
– Сразу нельзя… а постепенно, полагаю, можно: прибравши в руки как следует власть, и этого немца спровадить можно.
– Да власть-то тебе забрать не придется, при его наветах. Ты знай, что он поймет с первого же шага твою игру и примет свои меры. Головкин пробовал столкнуть его, да не смог!
– Если Головкин, как ты говоришь, Петр Павлыч, пробовал при лучших обстоятельствах, то теперь и подавно не придется, – ответил Дивиер. – Шурин мой ему поручает воспитание внука ее императорского величества… и теперь его садят в совет.
– Вот, первое дело, и надо нам не допустить Остермана быть воспитателем, – сказал князь Василий Владимирович Долгоруков. – И это, я думаю, легче всего удастся, если внушить императрице, что никак нельзя воспитывать государя для русского народа нерусскому… Да и подметные письма можно пустить по этому поводу. А там пусть Сенат и Синод сделают общее представление и прямо скажут, что ее величеству нет выгоды противиться общенародной пользе и общему требованию.
– Я охотно присоединяюсь к этому мнению князя Василия Владимировича и берусь поддерживать в собраниях наших, по Сенату, этот дух, да и в Синоде могу присоветовать призвать к Георгию Дашкову еще других русских архиереев, которые бы сторонника немцев Феофана, в свою очередь, скрутили понадежнее…
– Это само собой, а еще лучше для усиления русского влияния в делах в это царствование – восстановить патриаршество, в лице русского… Тогда Георгия, например, можно в патриархи, – высказался Скорняков-Писарев.
Этот вывод всех поразил и заставил задуматься.
– Только восстановить патриарха надо без прошлой страшной силы, какая была при Филарете. В светские дела правительства пусть он не суется, а тогда только высказывает мнение, когда его спросят. А по владению монастырскими вотчинами мы сообща поставим управителей – стряпчих; он – со своей стороны, мы – со своей; игумнам же, архимандритам и архиереям в имущество и владенье им не вступаться. Им на содержанье всем можно назначить достаточно…
– И я так же думаю! – воскликнул граф Мусин-Пушкин, прибавив с самодовольством: – Мы уж кое-какой завели, кажется, порядок… чернецы уже попривыкли к надзору… потакать им нечего…
– Н-ну! Коли патриарха-то поставите вновь, он, чего доброго, и упираться станет, где представится возможность, – заметил как бы вскользь Шафиров, поглядев на Мусина воспросительно.