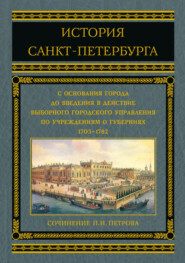По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Белые и черные
Автор
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вместо него ответил Толстой:
– Я не стою за патриарха, но, думаю, обуздывать его можно будет, когда он один с нами будет сидеть в совете и крепить своею рукою определения… Тогда только Синод следует подчинить совету, как и Сенат.
– Да согласятся ли сенаторы-то стать из правителей полноправных в подчиненные совету? Тут выйдет немалая рознь и пререкания, – заметил Шафиров.
– Конечно, своей волей они этим правом в пользу совета не поступятся, так же как и синодские; нужно властью государыни установить это подчиненье. Сенат надо разделить на коллегии и к коллегиям расписать по сенатору или по два, – также и духовное управление, разделить на департаменты. Кому придется в котором сидеть, тот за ход дела и отвечает, как президент или вице-президент коллегии. А не то – быть синодским и сенатским членам относительно выполнения предписаний совета как членам коллежским: и самим дело вести, и ревизии подвергаться, и отчеты подавать… все как следует.
– Важно бы все это, конечно, граф Петр Андреевич, что говорить… только трудное это дело! – сказал Мусин. – Особенно при женской руке, коли оставить ей вожжи держать, а махину эту в ход пустить. Тут со всех сторон начнутся подкопы под вас, воротил, и удержаться вам будет очень трудно. Скатитесь.
– Всех не скатят. На место скаченного другой явится, а опасность потерять место заставит усидевших плотнее соединиться… действовать заодно…
– Да, найдешь ты у наших бояр единодушие, держи карман… Коли кого скатят, на его место десять примутся ухаживать, торгуя совестью. И для удержки у тех же немцев придется помощи просить, – выговорил не без самодовольства Скорняков-Писарев.
Настала новая, довольно продолжительная пауза. Прервал ее опять Толстой, вопросом Скорнякову:
– Скажи, однако, Григорий Григорьич, что это тебе дались одни немцы да немцы? Почему это ты без их участия не допускаешь у нас ничего путного и с чего это ты думаешь, что они могут быть поддержкою, а мы сами друг друга способны только съедать и продавать? Другой со стороны, не зная тебя, невольно ведь подумает, что ты словно подослан их нам навязывать да выхваливать их содействие.
Скорняков обиделся.
На остальных присутствующих это пререкание произвело неприятное впечатление.
К счастью, Шафирову удалось прекратить распрю. Обратившись к Григорию Григорьевичу, он сказал ему:
– В моем деле ты оказал такую же медвежью услугу сразу нескольким. О себе я не говорю… Вину свою признаю и не отпирался от ней. Но ее бы не было без твоей подслужливости Сашке Меншикову. Ведь и ему ты теперь не верен, находясь между нами. Стоило ли губить тебе меня за мнимую вину мою, когда я заботился, по родству, чтобы брату дали заслуженное? Я на тебя не гневаюсь за прошлое, но прошу тебя дружески пожалеть сколько-нибудь нас и не продолжать больше ничего такого, что может тебе представиться годным для отомщенья за свою мнимую обиду, когда здесь ты один и есть зачинщик.
Тон сказанного Шафировым был самый дружелюбный и миролюбивый, так что Скорняков, совсем усмирившись, тихим голосом продолжал:
– Прости меня: кругом виноват… Никто бы так не вразумил меня в вине моей, как ты, Петр Павлыч… – И затем, обратившись к другим, прибавил:
– Простите, господа честные…
Когда все успокоились, князь Долгоруков заметил шутя:
– Дальше Сената – в качестве правления дел сообща по коллегии – такого горячку, как Скорняков, и садить нельзя…
– Я того же мнения, – вступил Дивиер. – Насколько, господа енералы, удалось мне понять из сказанного, нас, сенаторов, вы думаете засадить за слушанье текущих дел – не более. И в этом я нахожу, при второстепенной роли Сената, пожалуй, самое подходящее отправление. Думаю, что если мне удалось кое-что сделать не совсем дурное по заведованию порядком в столице, это именно потому, что отдавался делу с охотою и вникал в него. Поэтому за разделение дел я готов стоять убеждением в проке, могущем от того быть. Особенно когда видишь, с каким малым вниманием слушаются дела в общем-то присутствии Сената… Каждый надеется услышать мнение другого и, надеясь, ленится вникнуть сам. А если отвечать за решение придется самому судье-докладчику, так и иначе возьмешься за него и не раз прочитаешь да сообразишь: как бы и так и так повернуть, не лучше ли выйдет? Вот, к примеру сказать, простое дело – данные на землю! К чему бы они? Благо есть что давать! А вот с тех пор, как начал я выдавать их, сколько уж открывается споров, с которыми еще покуда можно разобраться, а если запустить год-другой, то и выйдет путаница. То же и с сенатскими решениями.
– Я так и знал, что из тебя и сенатор выйдет каких немного, – поддержал Шафиров генерал-полицеймейстера. – Человек как ты, Антон Мануилыч, всюду будет пользу приносить. А что касается до твоего прямого художества – это, конечно, исполняемая тобою должность генерал-полицеймейстера! Тут уж никто тебя не заменит, говорю тебе истинную правду, не думая нисколько льстить.
– Очень благодарен тебе, Петр Павлыч, но, к несчастью, далеко не все умные люди так думают, как ты! Вот мой светлейший шурин не признает за мной никакой заслуги и идет против всякой предлагаемой мною меры.
– У светлейшего шурина твоего, – сказал князь Долгоруков, – Антон Мануилович, свои расчеты. Он боится, чтобы ты ему ножку не подставил.
– При настоящей владычице нашей ему нечего бояться такой напасти. Всех, кто перегонит его на шаг, он столкнет с дороги.
– Так, конечно, выходит! – озирая гостей своих, решил Толстой. – Плетью обуха не перешибешь… надо посмотреть, да побольше присмотреться к тому, как пойдут дела с советом. А теперь довольно морить нам себя толками о делах… И вправду иной думает, что мы собрались ковы строить другим, а не провести сами приятно время, свидевшись так кстати.
– И в разговорах приятно время делить, – заметил серьезный Шафиров.
– А лучше пить да потчевать друг друга! Утро вечера мудренее! – отшутился хозяин, завидев показавшийся в растворенных дверях поднос с наливками и закусками. Поднос был поставлен на средину стола, и хозяин ласково произнес, встав и поклонясь в пояс:
– Милости просим, не обессудьте, братцы. Берите чарки сами… Холопов долго я не терплю в своем кружке, за разносом…
И началась непринужденная пирушка с чоканьем, шутками и песнями, кончившаяся за полночь.
Светлейший князь счастливо покончил свои разъезды и воротился совершенно успокоенный. В Почепе он сам пересмотрел все собранные у управителя грамотки и записки, на которые как на улики указывал доноситель-противник. Взяв с собою самые опасные, князь сжег остальные и проехал по рубежу, разыгрывая роль попечительного о государстве военного администратора. Появление его светлости в Риге наделало толков, но все вестовщики гнули в сторону совершенно противоположную истинным побуждениям и планам герцога Ингрии. Ближе к истине был только Петр Михайлович Бестужев, и он высказал свои опасения герцогине Курляндской. Но на этот раз дело обошлось благополучно, и на другой день получилось известие, что князь уехал на Псков, а оттуда в Петербург, где его не ожидали так скоро.
– Слышал, что наш чудотвор, светлейший, дома уж и завтра нас соберут в совет? – молвил, входя к Мусину-Пушкину, граф Петр Андреевич Толстой.
– Нет, а видел Макарова… летит сломя голову, никого, надо полагать, не видит и под собой земли не слышит. Ну, думаю, не воротился ли?
– Отгадал… А меня так изумил сам странник. Благоволил он своею высокой персоной ко мне прикатить. Да с чем бы ты подумал? С повинной! Как завидел меня, так прямо и кричит: «На мировую идем! Полно нам с тобой щетиниться… не та пора!» Я не мог прийти в себя от удивления. Протираю глаза: не грежу ли, что он сам руку протягивает? Спрашиваю: «Что с тобой, князь?» – «Не насмехаюсь, – говорит, – а воистину прошу забыть прошлое и помириться. Мы ссоримся, а дела стоят… везде неустройства… Полячишки дерзость берут больше; немцы – еще того пуще… Коли оскорбил – готов удовлетворение дать, только не суди обо мне превратно: не самовластвовать я хочу, а хочу разумного дела да толку. В совете тебе я, – говорит, – готов первенство дать, только стой ты за наше, русское, а не за немецкое дело. Меня обносил Головкин на свадьбе, что я заговорил о заступлении государыни за Голштинию, а теперь сам с голштинцами шушукает и ладит, как бы и второго зятя навязать государыне, чтобы плотнее скрутить нас, русских людей». Я, знаешь, вытаращил глаза на Сашку, думаю: не рехнулся ли он? Он заметил мое недоверие и говорит: «Я тебе словно повесть несбыточную рассказываю – так ты глядишь на меня. Завтра услышишь в совете… Убедишься, что я добра желаю и на тебя надеюсь… А теперь прощай». Опять протянул руку, и я невольно дал ему свою. Что-то, видно, впрямь сладили наши приятные люди, господа голштинцы. Уж ни с того ни с сего Меншиков бы не полез ко мне мириться?
– Дивное дело! – в раздумье молвил Мусин-Пушкин. – Смотри, Петруха, не с подвохом ли только Сашка комедию таку перед тобой отломал? Он ведь величайший хитрец и сыграть в друзья и в раскаянье ему ничего не стоит!
Толстой насмешливо улыбнулся и ответил:
– Провести нас, как сам ты ведаешь, нелегко. А не только я, но и Фома неверующий поверил бы, что, стало быть, Меншикову теперь большая нужда во мне, если он, не глядя ни на что, предлагает стоять вместе за то самое, что я и без него стал бы поддерживать. Он ведь не навязывался мне в дружбу и мелким бесом не увивался около меня, как делают все надувалы. Высказал и ушел. Просил только подумать. Да недолго и думать придется: завтра ведь узнаю все доподлинно… Одно из двух: или Сашка совсем с ума спятил, или он говорил мне всю истинную правду, зная, что за родное я готов стоять, не разбирая, кто союзник мне: друг или враг. Подумай, однако, что я вам говорил – помнишь, как просил к себе? – про затеи Голштинского? Как приехал Меншиков да увидел, что без него сделано, так и бросился ко мне, видя, что времени мало для расстройства подвоха.
– Как ты-то баешь, ладно выходит, и я тотчас все припомнил. Сдается, ты прав! И Сашка – молодец! Спасибо ему, что за свое стоит. Сильны, одначе, и те-то, коли заставили его в тебе искать поддержки. Вот и узнай тогда, кто ворог, кто друг? Дай Бог, чтобы у вас с Меншиковым дело пошло на пользу всем. А если он вздумал тебя провести, в издевку пускаясь, тогда что?
– Тогда я уже непримиримый враг… либо мне, либо ему… Беру тебя, граф Иван Алексеич, в свидетели и считаю таким союзником, который не побоится и сладкое распивать вместе, и горькое делить по-братски. Увижу, что надул Сашка, – с ним больше ни полслова никому из нас. Одна тогда нам дорога – топить его, не свертываясь и не щадя себя… Пощады от изверга нечего ждать, разумеется…
– Я, граф Петр Андреич, так же как и ты, пожил довольно на свете. Коли впрямь Меншиков хочет стоять за своих верно и честно – готов последние силы не щадить, идя с ним заодно. Если же нет, то заодно с тобой будем стараться его стереть; не удастся – что Бог даст, то и будет…
Оба друга были сильно растроганы; но пришел сын Мусина, и прерванный разговор не возобновился. Подошли гости, и началось обыкновенное каляканье, а через час Толстой, жалуясь на боль в пояснице, распростился с приятелями. Вскоре стали расходиться и гости. Простившись с ними, Мусин-Пушкин отправился в опочивальню, но долго не мог заснуть, волнуемый мыслями о завтрашнем дне.
Такие же заботы отгоняли сон и от светлейшего.
– Посмотрим, что они намерены на первый случай потребовать, – говорил он жене. – Я виделся с Елизаветой Петровной и сам нарочно ее спросил: «Как находите, ваше высочество, своего будущего супруга?» – «Какого такого?» – ответила она со своим обычным смехом. «Принца Карла, – говорю. – Ваш зятек решил непременно справить вашу свадебку по весне, вероятно заручившись высоким согласием вашим?» – «Оставьте, князь, пустяки эти… Этого противного Карла я видеть не могу, как и самого Фридриха… Я уж маменьке говорила, чтобы не поминала мне про этот союз. Довольно, что Аннушка грустит со своим ненаглядным». Такое ее решение нам на руку! Вот мы и посмотрим, как поможет голштинцам Головкин. А я уж знаю, что и как делать с курляндчиками. В Ригу мне из Митавы вызывали одного нужного человека. Он при Анне Ивановне, хотя не на видном месте, да все знает и способен все поворотить куда захочет. Сторговались сносно. По шестисот талеров в год да десяток гаков в Лифляндии, по соседству с курляндской границей. Да и то тогда, когда все справит, что я наказал. А малый ловкий и на все горазд! Бестужева не хвалит и советует его паче всех опасаться. «Всего бы, – говорит, – удобнее его совсем в Питер удержать». Тогда махину подвести берется, а при нем не обещается. «Очень, – говорит, – Петр Михайлыч глазаст, и оторвать его от вдовы, по собственному желанию, ни за что не удастся». А с ней я и видеться не хотел. Одно дело – спешил, а другое дело – боялся проболтаться, да и незачем. Что она думает – это мы знаем, а что предпринимать намеревается – тоже узнаем. Вот уж прислал друг сердечный и первое извещение, что Анна Ивановна сюда едет. Прибудет ее высочество в самое выгодное для нас время, пока ершиться станут голштинцы и делать ей предложение: отказаться от мужнина наследства. Она, разумеется, будет некаться, а они сильнее настаивать. Я разыграю здесь ее друга и покровителя, расстанемся мы друзьями. В Митаву же я нагряну, как получу от приятеля успокоительные и покладные на нашу руку вести. А не то, может быть, и так смастерим. Здесь ее высочество встретим и уверим, что для полного укрепления ее прав мы войско введем. Сами туда – шасть и, пользуясь страхом безмозглых курляндчиков, договоримся с ними начистоту: берите нас, и все будет спокойно, и нечего вам бояться!
– Смотри, Саша, не ошибись! Теперь особенно, друг мой, не время тебе на даль глаза пялить, когда у самого под ногами колышется, чего доброго…
– Не беспокойся… Прием, который нам сделан, дает надежду, что короткие отъезды выправляют прекрасно наши дела и роняют друзей наших наповал. Когда я ехал назад, правда, думал и задумывался даже: что-то здесь встретит? Приехал – и отлегло от сердца. Верно, и впрямь я в сорочке родился!
– Смотри, Саша, не съешь блин непомасленный! Как ты станешь заноситься, веришь, на меня такая грусть находит, что я просто сама делаюсь не своя. Ни с того ни с сего защемит-защемит сердце, голова закружится, я холодею и сил лишаюсь.
– Ты просто-напросто больна. Ужо я Блументроста на тебя напущу. Смотри, пей у меня все, что пропишет… шутить нечего головой…
– Да я знаю, в чем болезнь моя. Ей лекарства не дадут облегчения. Болит в сердце, друг мой, хочет ретивое вырваться, так бьется и трепещет…
– Вестимо, болезнь… что ты мне ни рассказывай! Ни с того ни с сего вещун, как называют бабы, без порчи не приходит, и люди умные говорят: не порча то, а болесть; и врачевание отыщется у искусного лекаря, хоша бы и позапущено было… Все же облегчение даст архиятер, коли наш Шульц не смыслит. Непременно завтра же пошлю за Блументростом!
– Оставь, пожалуйста, говорю тебе; недуг у меня в сердце. Коли не любила бы я тебя, не мучилась бы, слыша, как вороги подкапываются.
– Все пустяки… Видела, что Сапега уж хвост поджимает. А Левенвольд сам заискивает, да я еще не гораздо смотрю. Проучить надо. Головкину я уже шиш показал, подняв немца Остермана. С ним и за его спиной спать я могу спокойно: усерден и честен… а уж как дело знает! Первый человек – коли придется отписываться. Умница и как покорен, почтителен, сама ведь ты знаешь, что тут говорить…
– А мне эта угодливость, Саша, веришь ли, очень подозрительна. Вспомни, что так же он ухаживал, недавно еще, за Головкиным и за Брюсом… да и провел того и другого… А Яков Вилимыч попрозорливее тебя, Саша, не обижайся за правду… очень тонкий человек!
– Я не стою за патриарха, но, думаю, обуздывать его можно будет, когда он один с нами будет сидеть в совете и крепить своею рукою определения… Тогда только Синод следует подчинить совету, как и Сенат.
– Да согласятся ли сенаторы-то стать из правителей полноправных в подчиненные совету? Тут выйдет немалая рознь и пререкания, – заметил Шафиров.
– Конечно, своей волей они этим правом в пользу совета не поступятся, так же как и синодские; нужно властью государыни установить это подчиненье. Сенат надо разделить на коллегии и к коллегиям расписать по сенатору или по два, – также и духовное управление, разделить на департаменты. Кому придется в котором сидеть, тот за ход дела и отвечает, как президент или вице-президент коллегии. А не то – быть синодским и сенатским членам относительно выполнения предписаний совета как членам коллежским: и самим дело вести, и ревизии подвергаться, и отчеты подавать… все как следует.
– Важно бы все это, конечно, граф Петр Андреевич, что говорить… только трудное это дело! – сказал Мусин. – Особенно при женской руке, коли оставить ей вожжи держать, а махину эту в ход пустить. Тут со всех сторон начнутся подкопы под вас, воротил, и удержаться вам будет очень трудно. Скатитесь.
– Всех не скатят. На место скаченного другой явится, а опасность потерять место заставит усидевших плотнее соединиться… действовать заодно…
– Да, найдешь ты у наших бояр единодушие, держи карман… Коли кого скатят, на его место десять примутся ухаживать, торгуя совестью. И для удержки у тех же немцев придется помощи просить, – выговорил не без самодовольства Скорняков-Писарев.
Настала новая, довольно продолжительная пауза. Прервал ее опять Толстой, вопросом Скорнякову:
– Скажи, однако, Григорий Григорьич, что это тебе дались одни немцы да немцы? Почему это ты без их участия не допускаешь у нас ничего путного и с чего это ты думаешь, что они могут быть поддержкою, а мы сами друг друга способны только съедать и продавать? Другой со стороны, не зная тебя, невольно ведь подумает, что ты словно подослан их нам навязывать да выхваливать их содействие.
Скорняков обиделся.
На остальных присутствующих это пререкание произвело неприятное впечатление.
К счастью, Шафирову удалось прекратить распрю. Обратившись к Григорию Григорьевичу, он сказал ему:
– В моем деле ты оказал такую же медвежью услугу сразу нескольким. О себе я не говорю… Вину свою признаю и не отпирался от ней. Но ее бы не было без твоей подслужливости Сашке Меншикову. Ведь и ему ты теперь не верен, находясь между нами. Стоило ли губить тебе меня за мнимую вину мою, когда я заботился, по родству, чтобы брату дали заслуженное? Я на тебя не гневаюсь за прошлое, но прошу тебя дружески пожалеть сколько-нибудь нас и не продолжать больше ничего такого, что может тебе представиться годным для отомщенья за свою мнимую обиду, когда здесь ты один и есть зачинщик.
Тон сказанного Шафировым был самый дружелюбный и миролюбивый, так что Скорняков, совсем усмирившись, тихим голосом продолжал:
– Прости меня: кругом виноват… Никто бы так не вразумил меня в вине моей, как ты, Петр Павлыч… – И затем, обратившись к другим, прибавил:
– Простите, господа честные…
Когда все успокоились, князь Долгоруков заметил шутя:
– Дальше Сената – в качестве правления дел сообща по коллегии – такого горячку, как Скорняков, и садить нельзя…
– Я того же мнения, – вступил Дивиер. – Насколько, господа енералы, удалось мне понять из сказанного, нас, сенаторов, вы думаете засадить за слушанье текущих дел – не более. И в этом я нахожу, при второстепенной роли Сената, пожалуй, самое подходящее отправление. Думаю, что если мне удалось кое-что сделать не совсем дурное по заведованию порядком в столице, это именно потому, что отдавался делу с охотою и вникал в него. Поэтому за разделение дел я готов стоять убеждением в проке, могущем от того быть. Особенно когда видишь, с каким малым вниманием слушаются дела в общем-то присутствии Сената… Каждый надеется услышать мнение другого и, надеясь, ленится вникнуть сам. А если отвечать за решение придется самому судье-докладчику, так и иначе возьмешься за него и не раз прочитаешь да сообразишь: как бы и так и так повернуть, не лучше ли выйдет? Вот, к примеру сказать, простое дело – данные на землю! К чему бы они? Благо есть что давать! А вот с тех пор, как начал я выдавать их, сколько уж открывается споров, с которыми еще покуда можно разобраться, а если запустить год-другой, то и выйдет путаница. То же и с сенатскими решениями.
– Я так и знал, что из тебя и сенатор выйдет каких немного, – поддержал Шафиров генерал-полицеймейстера. – Человек как ты, Антон Мануилыч, всюду будет пользу приносить. А что касается до твоего прямого художества – это, конечно, исполняемая тобою должность генерал-полицеймейстера! Тут уж никто тебя не заменит, говорю тебе истинную правду, не думая нисколько льстить.
– Очень благодарен тебе, Петр Павлыч, но, к несчастью, далеко не все умные люди так думают, как ты! Вот мой светлейший шурин не признает за мной никакой заслуги и идет против всякой предлагаемой мною меры.
– У светлейшего шурина твоего, – сказал князь Долгоруков, – Антон Мануилович, свои расчеты. Он боится, чтобы ты ему ножку не подставил.
– При настоящей владычице нашей ему нечего бояться такой напасти. Всех, кто перегонит его на шаг, он столкнет с дороги.
– Так, конечно, выходит! – озирая гостей своих, решил Толстой. – Плетью обуха не перешибешь… надо посмотреть, да побольше присмотреться к тому, как пойдут дела с советом. А теперь довольно морить нам себя толками о делах… И вправду иной думает, что мы собрались ковы строить другим, а не провести сами приятно время, свидевшись так кстати.
– И в разговорах приятно время делить, – заметил серьезный Шафиров.
– А лучше пить да потчевать друг друга! Утро вечера мудренее! – отшутился хозяин, завидев показавшийся в растворенных дверях поднос с наливками и закусками. Поднос был поставлен на средину стола, и хозяин ласково произнес, встав и поклонясь в пояс:
– Милости просим, не обессудьте, братцы. Берите чарки сами… Холопов долго я не терплю в своем кружке, за разносом…
И началась непринужденная пирушка с чоканьем, шутками и песнями, кончившаяся за полночь.
Светлейший князь счастливо покончил свои разъезды и воротился совершенно успокоенный. В Почепе он сам пересмотрел все собранные у управителя грамотки и записки, на которые как на улики указывал доноситель-противник. Взяв с собою самые опасные, князь сжег остальные и проехал по рубежу, разыгрывая роль попечительного о государстве военного администратора. Появление его светлости в Риге наделало толков, но все вестовщики гнули в сторону совершенно противоположную истинным побуждениям и планам герцога Ингрии. Ближе к истине был только Петр Михайлович Бестужев, и он высказал свои опасения герцогине Курляндской. Но на этот раз дело обошлось благополучно, и на другой день получилось известие, что князь уехал на Псков, а оттуда в Петербург, где его не ожидали так скоро.
– Слышал, что наш чудотвор, светлейший, дома уж и завтра нас соберут в совет? – молвил, входя к Мусину-Пушкину, граф Петр Андреевич Толстой.
– Нет, а видел Макарова… летит сломя голову, никого, надо полагать, не видит и под собой земли не слышит. Ну, думаю, не воротился ли?
– Отгадал… А меня так изумил сам странник. Благоволил он своею высокой персоной ко мне прикатить. Да с чем бы ты подумал? С повинной! Как завидел меня, так прямо и кричит: «На мировую идем! Полно нам с тобой щетиниться… не та пора!» Я не мог прийти в себя от удивления. Протираю глаза: не грежу ли, что он сам руку протягивает? Спрашиваю: «Что с тобой, князь?» – «Не насмехаюсь, – говорит, – а воистину прошу забыть прошлое и помириться. Мы ссоримся, а дела стоят… везде неустройства… Полячишки дерзость берут больше; немцы – еще того пуще… Коли оскорбил – готов удовлетворение дать, только не суди обо мне превратно: не самовластвовать я хочу, а хочу разумного дела да толку. В совете тебе я, – говорит, – готов первенство дать, только стой ты за наше, русское, а не за немецкое дело. Меня обносил Головкин на свадьбе, что я заговорил о заступлении государыни за Голштинию, а теперь сам с голштинцами шушукает и ладит, как бы и второго зятя навязать государыне, чтобы плотнее скрутить нас, русских людей». Я, знаешь, вытаращил глаза на Сашку, думаю: не рехнулся ли он? Он заметил мое недоверие и говорит: «Я тебе словно повесть несбыточную рассказываю – так ты глядишь на меня. Завтра услышишь в совете… Убедишься, что я добра желаю и на тебя надеюсь… А теперь прощай». Опять протянул руку, и я невольно дал ему свою. Что-то, видно, впрямь сладили наши приятные люди, господа голштинцы. Уж ни с того ни с сего Меншиков бы не полез ко мне мириться?
– Дивное дело! – в раздумье молвил Мусин-Пушкин. – Смотри, Петруха, не с подвохом ли только Сашка комедию таку перед тобой отломал? Он ведь величайший хитрец и сыграть в друзья и в раскаянье ему ничего не стоит!
Толстой насмешливо улыбнулся и ответил:
– Провести нас, как сам ты ведаешь, нелегко. А не только я, но и Фома неверующий поверил бы, что, стало быть, Меншикову теперь большая нужда во мне, если он, не глядя ни на что, предлагает стоять вместе за то самое, что я и без него стал бы поддерживать. Он ведь не навязывался мне в дружбу и мелким бесом не увивался около меня, как делают все надувалы. Высказал и ушел. Просил только подумать. Да недолго и думать придется: завтра ведь узнаю все доподлинно… Одно из двух: или Сашка совсем с ума спятил, или он говорил мне всю истинную правду, зная, что за родное я готов стоять, не разбирая, кто союзник мне: друг или враг. Подумай, однако, что я вам говорил – помнишь, как просил к себе? – про затеи Голштинского? Как приехал Меншиков да увидел, что без него сделано, так и бросился ко мне, видя, что времени мало для расстройства подвоха.
– Как ты-то баешь, ладно выходит, и я тотчас все припомнил. Сдается, ты прав! И Сашка – молодец! Спасибо ему, что за свое стоит. Сильны, одначе, и те-то, коли заставили его в тебе искать поддержки. Вот и узнай тогда, кто ворог, кто друг? Дай Бог, чтобы у вас с Меншиковым дело пошло на пользу всем. А если он вздумал тебя провести, в издевку пускаясь, тогда что?
– Тогда я уже непримиримый враг… либо мне, либо ему… Беру тебя, граф Иван Алексеич, в свидетели и считаю таким союзником, который не побоится и сладкое распивать вместе, и горькое делить по-братски. Увижу, что надул Сашка, – с ним больше ни полслова никому из нас. Одна тогда нам дорога – топить его, не свертываясь и не щадя себя… Пощады от изверга нечего ждать, разумеется…
– Я, граф Петр Андреич, так же как и ты, пожил довольно на свете. Коли впрямь Меншиков хочет стоять за своих верно и честно – готов последние силы не щадить, идя с ним заодно. Если же нет, то заодно с тобой будем стараться его стереть; не удастся – что Бог даст, то и будет…
Оба друга были сильно растроганы; но пришел сын Мусина, и прерванный разговор не возобновился. Подошли гости, и началось обыкновенное каляканье, а через час Толстой, жалуясь на боль в пояснице, распростился с приятелями. Вскоре стали расходиться и гости. Простившись с ними, Мусин-Пушкин отправился в опочивальню, но долго не мог заснуть, волнуемый мыслями о завтрашнем дне.
Такие же заботы отгоняли сон и от светлейшего.
– Посмотрим, что они намерены на первый случай потребовать, – говорил он жене. – Я виделся с Елизаветой Петровной и сам нарочно ее спросил: «Как находите, ваше высочество, своего будущего супруга?» – «Какого такого?» – ответила она со своим обычным смехом. «Принца Карла, – говорю. – Ваш зятек решил непременно справить вашу свадебку по весне, вероятно заручившись высоким согласием вашим?» – «Оставьте, князь, пустяки эти… Этого противного Карла я видеть не могу, как и самого Фридриха… Я уж маменьке говорила, чтобы не поминала мне про этот союз. Довольно, что Аннушка грустит со своим ненаглядным». Такое ее решение нам на руку! Вот мы и посмотрим, как поможет голштинцам Головкин. А я уж знаю, что и как делать с курляндчиками. В Ригу мне из Митавы вызывали одного нужного человека. Он при Анне Ивановне, хотя не на видном месте, да все знает и способен все поворотить куда захочет. Сторговались сносно. По шестисот талеров в год да десяток гаков в Лифляндии, по соседству с курляндской границей. Да и то тогда, когда все справит, что я наказал. А малый ловкий и на все горазд! Бестужева не хвалит и советует его паче всех опасаться. «Всего бы, – говорит, – удобнее его совсем в Питер удержать». Тогда махину подвести берется, а при нем не обещается. «Очень, – говорит, – Петр Михайлыч глазаст, и оторвать его от вдовы, по собственному желанию, ни за что не удастся». А с ней я и видеться не хотел. Одно дело – спешил, а другое дело – боялся проболтаться, да и незачем. Что она думает – это мы знаем, а что предпринимать намеревается – тоже узнаем. Вот уж прислал друг сердечный и первое извещение, что Анна Ивановна сюда едет. Прибудет ее высочество в самое выгодное для нас время, пока ершиться станут голштинцы и делать ей предложение: отказаться от мужнина наследства. Она, разумеется, будет некаться, а они сильнее настаивать. Я разыграю здесь ее друга и покровителя, расстанемся мы друзьями. В Митаву же я нагряну, как получу от приятеля успокоительные и покладные на нашу руку вести. А не то, может быть, и так смастерим. Здесь ее высочество встретим и уверим, что для полного укрепления ее прав мы войско введем. Сами туда – шасть и, пользуясь страхом безмозглых курляндчиков, договоримся с ними начистоту: берите нас, и все будет спокойно, и нечего вам бояться!
– Смотри, Саша, не ошибись! Теперь особенно, друг мой, не время тебе на даль глаза пялить, когда у самого под ногами колышется, чего доброго…
– Не беспокойся… Прием, который нам сделан, дает надежду, что короткие отъезды выправляют прекрасно наши дела и роняют друзей наших наповал. Когда я ехал назад, правда, думал и задумывался даже: что-то здесь встретит? Приехал – и отлегло от сердца. Верно, и впрямь я в сорочке родился!
– Смотри, Саша, не съешь блин непомасленный! Как ты станешь заноситься, веришь, на меня такая грусть находит, что я просто сама делаюсь не своя. Ни с того ни с сего защемит-защемит сердце, голова закружится, я холодею и сил лишаюсь.
– Ты просто-напросто больна. Ужо я Блументроста на тебя напущу. Смотри, пей у меня все, что пропишет… шутить нечего головой…
– Да я знаю, в чем болезнь моя. Ей лекарства не дадут облегчения. Болит в сердце, друг мой, хочет ретивое вырваться, так бьется и трепещет…
– Вестимо, болезнь… что ты мне ни рассказывай! Ни с того ни с сего вещун, как называют бабы, без порчи не приходит, и люди умные говорят: не порча то, а болесть; и врачевание отыщется у искусного лекаря, хоша бы и позапущено было… Все же облегчение даст архиятер, коли наш Шульц не смыслит. Непременно завтра же пошлю за Блументростом!
– Оставь, пожалуйста, говорю тебе; недуг у меня в сердце. Коли не любила бы я тебя, не мучилась бы, слыша, как вороги подкапываются.
– Все пустяки… Видела, что Сапега уж хвост поджимает. А Левенвольд сам заискивает, да я еще не гораздо смотрю. Проучить надо. Головкину я уже шиш показал, подняв немца Остермана. С ним и за его спиной спать я могу спокойно: усерден и честен… а уж как дело знает! Первый человек – коли придется отписываться. Умница и как покорен, почтителен, сама ведь ты знаешь, что тут говорить…
– А мне эта угодливость, Саша, веришь ли, очень подозрительна. Вспомни, что так же он ухаживал, недавно еще, за Головкиным и за Брюсом… да и провел того и другого… А Яков Вилимыч попрозорливее тебя, Саша, не обижайся за правду… очень тонкий человек!