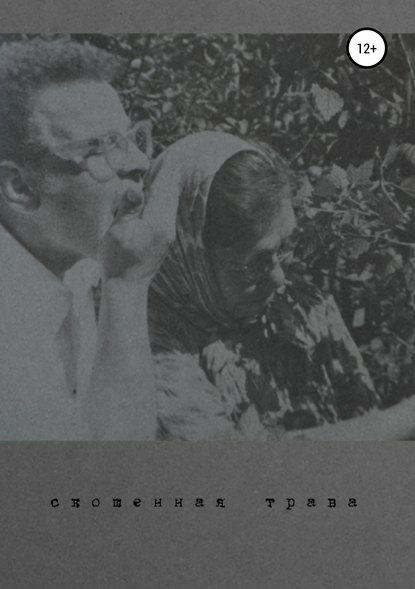По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Скошенная трава
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Скошенная трава
Полина Апрелева
Книга о том, как все связано. Связано через время и дела. И о том прочна эта связь или не очень, нужно ли её сохранять или можно разбить. О разных людях, которые, не замечая этого, составляют собой единое целое. И о том, что жизнь – это что-то большее, чем толпа в метро.
деду, который воспитал меня тем, что умер
… нет поворота назад, заросла дорожка.
А.П. Чехов «Вишневый сад».
СКОШЕННАЯ ТРАВА
Иван Ефимович грудным вздохом проснулся. Воды в рукомойнике не было, и он решил, что умоется после, на озере. За окном рассвело, небо покрылось бело-розовой испариной, солнце еле-еле освещало спящие за окошками занавески.
Иван Ефимович, ступая босиком, вывалился на улицу. От свежего воздуха закружило всё ещё болевшую с вечера голову. Он вздохнул, взял литовку и пошел по не остывшей за ночь земле.
Дверь глухо хлопнула – деревянная и вымокшая под дождями – она уже не была способна на большее. Сквозь себя она пропускала притупленные, будто фильтрованные запахи утра, резной свет солнца и петушиные крики. Но внутри дом ещё спал.
Пахло сыростью половиц и землей, молоком и земляникой, навозными кучами, сеном – тянувшийся с улицы воздух целовался в засос с воздухом в доме, и оттого получались такие чудаковатые переливы.
Солнце крестило своими тонкими пальцами плетеные половики, вязаные салфетки на комоде, грузный шкаф с самошитой одеждой, стулья с кривыми ножками, стоявшие отрядом иконки, где переливающиеся от бликов головы смазывались, плача взглядом, железную кровать с крахмальными подушками, на которых рассыпались волосы Нины, уже немного оккупированные сединой. Её босые пятки торчали из цветастого одеяла, и солнце как-то неаккуратно окрестило их —
Нина проснулась резко.
Как будто кто-то выдернул её из сна за ноги. Она в страхе ощупала кровать и поняла, что он уже ушёл. Рывком села и уставилась на рукомойник – ничего. Она как-то по-девчачьи вздрогнула, это сухая пятидесятилетняя женщина. Вчера перед сном она специально вылила воду из рукомойника, зная, что её муж не может без утреннего ритуала, думала, что он не уйдет, что это его остановит. Но он ушёл. Она глянула на часы – опять те же злосчастные полпятого утра.
Она сидела так какое-то время, как будто не веря, что опять наступило утро, очередное утро, без перемен, такое же, как и месяц назад. Утро-без-перемен. Обычное, жизненное – её утро.
Ну вот, сказала она как-то глухо, глядя на иконки, уже и утро для него не утро, уже и на умыться всё равно!
Она постоянно разговаривала с одним святым, который изображен был на какой-то дореволюционной иконе, она осталась в их доме – от кого, Нина не помнила. Но ей казалось всегда, будто это её отец. Она и говорила с ним, как со своим отцом – просто, по-свойски.
Иван-то опять ушел, сказала она, и её взгляд упал на гвоздь возле комода – там висел его крестик, маленький, серебристый, отливал на солнце зайчиков, качаясь на нитке. Она бросилась как-то неестественно в подушку. У неё уже не было сил его останавливать. Она просто боялась, очень боялась, но ничего не могла уже делать.
Иван Ефимович шел медленно к озеру, держа в своей жилистой руке литовку, шел босиком, как заколдованный, посреди росы и солнца, перемешанного с туманом. Он шел так, как будто точно знал, что это единственная цель его теперь, как будто был уверен, что они ему не врут.
Они-то мне точно не врут, не обманывают, говорил он потом Нине. Кто, они-то? – дрожа глазами спрашивала Нина. Хитки, отвечал Иван Ефимович. Русалки то бишь, объясняла потом Нина приезжавшему в гости сыну – боясь и почти шепотом – пока Иван Ефимович в другом углу дома читал какую-то «литературную дрянь».
Иван Ефимович каждое утро приходил и садился возле Черного озера, которое в их деревне почему-то носило дурную славу. Боялись к нему ходить даже старожилы – особенно старожилы. Как будто что-то знали и не договаривали. Он сидел там, в заросших берегах, и что-то бессвязно бормотал. Потом видел, как вода немного расходиться, становится светлее, и какой-то красивый приятный голос снова и снова говорит, желая ему доброго утра: давно никто так рано не приходил, давно никто так рано и постоянно не приходил, скоси траву, убери траву, дай нам берег, мы дадим тебе твое детство, мы дадим тебе твои спокойные мысли, твои радостные глаза, твою печальную жену, только жена печальная, а ты добрый, ты хороший, ты спокойный.
Это была его цена – он косил высоченную полынь возле озера, чтобы русалкам можно было выбираться, а они взамен забирали его тяжелые мысли. Весь в поту, посреди травы он очень ожесточенно работал – каждое утро, подолгу.
Умрешь ты, Ваня, всё равно, этого не избежать, но мы облегчим, облегчим, коси только, коси… Озеро проклятое, зарастет травой-полынью, никто и не вспомнит про нас, коси, Ваня, коси… Это дьячок-дурачок посадил когда-то, изжить нас хотел… дьячок-дурачок дьячок-дурачок дьячок-дурачок…
Под эту песню Иван Ефимович и косил. Но трава вырастала за день заново, и потому, когда Иван Ефимович приходил на следующее утро – опять оказывался чуть ли не с головой в траве, и опять садился ненадолго в ней, прямо у берега и слушал: здравствуй, Ваня, давно никто так рано не приходил, не уважил никто, коси, Ваня, коси поскорее, мы вчера нагулялись на берегу, коси, Ваня, коси, под корень коси…
Иван Ефимович поджигал ботву, ложился на землю, а они медленно выползали из воды и окружали его, слизывали его слезы, стирали его печали, проводя рукой по лицу – и он забывал все ужасы, которые видел на войне, он забывал всё, что случилось с ним после, он забывал своих умерших детей, он забывал всё на свете – и чувствовал только себя-мальчика, валяющегося в траве, где-то ещё в дореволюционной России, где-то в деревне его отца, недалеко от пшеничного поля, и облака летели над ним так же беззаботно, как тогда, он воображал, кто из них кто, представлял лицо матери, спокойное, как на иконе, он чувствовал, как они гладят его по голове, и это была его молодая Нина, которая ещё такая шешнадцатилетняя девчонка, смеется и не умеет плакать, хотя много работает, он чувствовал это всё сейчас, и хотя слезы лились по его загорелому, измученному алкоголем и солнцем лицу, плакал он от радости, потому что когда они окружали его, ложась рядом, он чувствовал себя ребенком, маленьким, как будто ещё до крещения, не принадлежавшим никому на свете, и ему никто не принадлежал, и ничего не было, кроме этой радости. Кроме запаха молока, подросткового пота в поле, когда он такой молодой и сильный бегал из одной деревни в другую, чтобы попасть на уроки. Ничего не было, как будто он первородный, самый-самый начальный он, до всего того, что случилось. А случилось многое. Но что именно, он уже не помнил. И шел так домой, оставляя их чесать волосы и плести камышовые венки. Шел радостный, заколдованный как будто, как-то весело махая на ходу литовкой – так, что его боялись уже проснувшиеся местные. Но они не понимали, они боялись его безумных глаз – они были наполнены детством и пустотой, незнанием горя, знанием облегчения, простой вездесущей небесной радостью. И он не слышал окликов, он вообще шел будто не по деревне своей, а по какой-то старой тропинке из своих глубоких воспоминаний.
Он
никого
не
замечал.
Иван Ефимович свернул к своему дому как будто по наитию. Нина с убранными волосами и серьёзно-грустным лицом готовила что-то в кухне. Он прошел мимо неё – прямиком в комнату, уселся на кровати и смотрел ещё долго прямо перед собой.
Есть-то будешь? – спросила она его, заглянув через висящую на дверном косяке шторку. Да и что есть-то теперь зачем, Ниночка? – спросил он, расплываясь в странной улыбке. Она вздрогнула, не выдержав его взгляда, его выгнутой на углы лица улыбки, и спряталась в кухне уже на целый день.
Надо бы пойти дров наколоть, Ваня, – сказала она погодя, оправившись немного от сковавшего её страха, уже где-то вечером.
Надо так надо, – ответил он ей, уже какой-то спокойный, будто пришел в себя. Будто и совсем как всегда, – думала Нина. Как вдруг он обернулся уже на пороге и сказал ей опять: а ведь они-то мне не врут! Почему тогда их боятся?
И вышел во двор.
На следующее утро она не спала. Она слышала, как он медленно сел в кровати, когда ещё только-только петухи начинали драть горло. Еле слышно простонал что-то. Опять голова болит, – подумала Нина про себя. Потом подошел к комоду, оделся, снял крестик, повесил его на гвоздь, и вышел. Она перевернулась на другой бок, глядя в опустевшую комнату, и ей стало уже страшно, как никогда. Она вылетела во двор в одной своей сорочке и закричала: Ваня, брось их, чего ты к ним таскаешься, уже все думают, что ты сумасшедший! Ваня, останемся дома сегодня утром! А он обернулся, глядя на неё пустыми глазами, смотрел долго, так что её в дрожь бросило, развернулся и пошел, напевая себе под нос: не твоии ли это сле-е-зы по миру текли…
Не твои, Ваня, – услышал он возле берега и начал с судорогой косить. Полынь текла соком под его литовкой, он чувствовал утренних мошек, начинающийся солнцепек, путаясь в траве, высокой как он сам, он косил очень зло, пытаясь этим унять свою голову, которая теперь уже как будто раскалывалась. Постоянно в ней проносились обрывки того, чего он не хотел помнить, казалось, что это разрывает его постоянно, ночью сниться, и не дает покою. Так он косил, да как закричит: Успокойте уже навсегда!
Навсегда только могила, Ваня, – слышит он, – услуга за услугу, коси, Ваня, коси, и всё пройдет..
Он сел снова на скошенный берег, глядя в глубокую воду, желая перестать что-либо чувствовать, кроме усталости в руках и ногах – физической, такой простой боли – она ведь простая, думал он, такая простая, знаешь, где болит, знаешь, как вылечить. Почти всегда. Господи, оставьте мне только мою физическую простую боль..
Твои глаза, Ваня, такие же как наше озеро, такие же, как наша радость и наш страх, улыбнись, Ваня, всё пройдет, закрывай глаза, закрывай.. – они обступали его кругом, садились рядом, ластились, кутали в волосах, плели из них венки и надевали на него, он падал в сон, назад, в глубь земли, казалось, что он уже умер, он был прост и чист, как в самом далеком детстве. Ещё до крещения. Он был ничем.
– Иван Ефимович, похоже, совсем поехал, – говорили деревенские.
– Смотри, опять сидит там, – слышались ответы, – каждое утро ходит туда с литовкой, только это не поможет, это проклятое место!
– Озеро еле видно..
– Да, и заросло травой почти, полынью, это один дьячок, Шустрин, посадил, чтобы от нечисти нас спасти.
– Тогда говорят ужас что было, половина мужиков утопилось..
– А чего он там сидит всё время? Будто делать больше нечего!
– Он как вышел из тюрьмы, постоянно туда таскается.
– Нинку жалко.
Они разбежались – пошел ливень. Иван Ефимович, разгорячённый от утреннего солнца и духоты, весь в поту, плелся домой. Он еле передвигал ноги, оставаясь ещё бессмысленным, пустым, оставаясь мысленно где-то в земле, в скошенной траве, в охлаждающих, дарящих забвение объятиях. Пот лил градом теперь не столько от усталости, сколько от волнения, какого-то непонятного предчувствия, что даже в груди кололо; казалось даже (казалось ли?), что дождь прекратился, и тучи заволокли небо, стало вдруг туманно – ничего не разглядеть; от влажности и ветра – легкого, но холодного, пот будто стал сворачиваться и мурашки поползли маленькими блошками по телу. Он вдруг совершенно потерял ориентир, вокруг зашумело, как листва от ветра, обильно и по-осеннему, но Иван Ефимович точно знал, что шел по полю. Со всех сторон, будто откуда-то сверху, он услышал: Ваня, не ищи выхода из тумана, Ваня, там погибель, мы спрячем – стой, Ваня…
Но Иван Ефимович не мог остановиться – что-то заставляло его вертеться из стороны в сторону – словно какой-то неаккуратный великан вертел его в ладонях – любопытно – как глиняную фигурку.
Остановись же, Ваня – летело вокруг эхом – останься неподвижен в тумане…
Но Иван Ефимович ничего не мог поделать, и вдруг где-то совсем рядом услышал слабый голос своего сына, а потом будто над самой его головой, отчетливый голос его жены, его Ниночки, голос, готовый поцеловать его в макушку, как мать целует маленького, ничего не понимающего младенца.
Полина Апрелева
Книга о том, как все связано. Связано через время и дела. И о том прочна эта связь или не очень, нужно ли её сохранять или можно разбить. О разных людях, которые, не замечая этого, составляют собой единое целое. И о том, что жизнь – это что-то большее, чем толпа в метро.
деду, который воспитал меня тем, что умер
… нет поворота назад, заросла дорожка.
А.П. Чехов «Вишневый сад».
СКОШЕННАЯ ТРАВА
Иван Ефимович грудным вздохом проснулся. Воды в рукомойнике не было, и он решил, что умоется после, на озере. За окном рассвело, небо покрылось бело-розовой испариной, солнце еле-еле освещало спящие за окошками занавески.
Иван Ефимович, ступая босиком, вывалился на улицу. От свежего воздуха закружило всё ещё болевшую с вечера голову. Он вздохнул, взял литовку и пошел по не остывшей за ночь земле.
Дверь глухо хлопнула – деревянная и вымокшая под дождями – она уже не была способна на большее. Сквозь себя она пропускала притупленные, будто фильтрованные запахи утра, резной свет солнца и петушиные крики. Но внутри дом ещё спал.
Пахло сыростью половиц и землей, молоком и земляникой, навозными кучами, сеном – тянувшийся с улицы воздух целовался в засос с воздухом в доме, и оттого получались такие чудаковатые переливы.
Солнце крестило своими тонкими пальцами плетеные половики, вязаные салфетки на комоде, грузный шкаф с самошитой одеждой, стулья с кривыми ножками, стоявшие отрядом иконки, где переливающиеся от бликов головы смазывались, плача взглядом, железную кровать с крахмальными подушками, на которых рассыпались волосы Нины, уже немного оккупированные сединой. Её босые пятки торчали из цветастого одеяла, и солнце как-то неаккуратно окрестило их —
Нина проснулась резко.
Как будто кто-то выдернул её из сна за ноги. Она в страхе ощупала кровать и поняла, что он уже ушёл. Рывком села и уставилась на рукомойник – ничего. Она как-то по-девчачьи вздрогнула, это сухая пятидесятилетняя женщина. Вчера перед сном она специально вылила воду из рукомойника, зная, что её муж не может без утреннего ритуала, думала, что он не уйдет, что это его остановит. Но он ушёл. Она глянула на часы – опять те же злосчастные полпятого утра.
Она сидела так какое-то время, как будто не веря, что опять наступило утро, очередное утро, без перемен, такое же, как и месяц назад. Утро-без-перемен. Обычное, жизненное – её утро.
Ну вот, сказала она как-то глухо, глядя на иконки, уже и утро для него не утро, уже и на умыться всё равно!
Она постоянно разговаривала с одним святым, который изображен был на какой-то дореволюционной иконе, она осталась в их доме – от кого, Нина не помнила. Но ей казалось всегда, будто это её отец. Она и говорила с ним, как со своим отцом – просто, по-свойски.
Иван-то опять ушел, сказала она, и её взгляд упал на гвоздь возле комода – там висел его крестик, маленький, серебристый, отливал на солнце зайчиков, качаясь на нитке. Она бросилась как-то неестественно в подушку. У неё уже не было сил его останавливать. Она просто боялась, очень боялась, но ничего не могла уже делать.
Иван Ефимович шел медленно к озеру, держа в своей жилистой руке литовку, шел босиком, как заколдованный, посреди росы и солнца, перемешанного с туманом. Он шел так, как будто точно знал, что это единственная цель его теперь, как будто был уверен, что они ему не врут.
Они-то мне точно не врут, не обманывают, говорил он потом Нине. Кто, они-то? – дрожа глазами спрашивала Нина. Хитки, отвечал Иван Ефимович. Русалки то бишь, объясняла потом Нина приезжавшему в гости сыну – боясь и почти шепотом – пока Иван Ефимович в другом углу дома читал какую-то «литературную дрянь».
Иван Ефимович каждое утро приходил и садился возле Черного озера, которое в их деревне почему-то носило дурную славу. Боялись к нему ходить даже старожилы – особенно старожилы. Как будто что-то знали и не договаривали. Он сидел там, в заросших берегах, и что-то бессвязно бормотал. Потом видел, как вода немного расходиться, становится светлее, и какой-то красивый приятный голос снова и снова говорит, желая ему доброго утра: давно никто так рано не приходил, давно никто так рано и постоянно не приходил, скоси траву, убери траву, дай нам берег, мы дадим тебе твое детство, мы дадим тебе твои спокойные мысли, твои радостные глаза, твою печальную жену, только жена печальная, а ты добрый, ты хороший, ты спокойный.
Это была его цена – он косил высоченную полынь возле озера, чтобы русалкам можно было выбираться, а они взамен забирали его тяжелые мысли. Весь в поту, посреди травы он очень ожесточенно работал – каждое утро, подолгу.
Умрешь ты, Ваня, всё равно, этого не избежать, но мы облегчим, облегчим, коси только, коси… Озеро проклятое, зарастет травой-полынью, никто и не вспомнит про нас, коси, Ваня, коси… Это дьячок-дурачок посадил когда-то, изжить нас хотел… дьячок-дурачок дьячок-дурачок дьячок-дурачок…
Под эту песню Иван Ефимович и косил. Но трава вырастала за день заново, и потому, когда Иван Ефимович приходил на следующее утро – опять оказывался чуть ли не с головой в траве, и опять садился ненадолго в ней, прямо у берега и слушал: здравствуй, Ваня, давно никто так рано не приходил, не уважил никто, коси, Ваня, коси поскорее, мы вчера нагулялись на берегу, коси, Ваня, коси, под корень коси…
Иван Ефимович поджигал ботву, ложился на землю, а они медленно выползали из воды и окружали его, слизывали его слезы, стирали его печали, проводя рукой по лицу – и он забывал все ужасы, которые видел на войне, он забывал всё, что случилось с ним после, он забывал своих умерших детей, он забывал всё на свете – и чувствовал только себя-мальчика, валяющегося в траве, где-то ещё в дореволюционной России, где-то в деревне его отца, недалеко от пшеничного поля, и облака летели над ним так же беззаботно, как тогда, он воображал, кто из них кто, представлял лицо матери, спокойное, как на иконе, он чувствовал, как они гладят его по голове, и это была его молодая Нина, которая ещё такая шешнадцатилетняя девчонка, смеется и не умеет плакать, хотя много работает, он чувствовал это всё сейчас, и хотя слезы лились по его загорелому, измученному алкоголем и солнцем лицу, плакал он от радости, потому что когда они окружали его, ложась рядом, он чувствовал себя ребенком, маленьким, как будто ещё до крещения, не принадлежавшим никому на свете, и ему никто не принадлежал, и ничего не было, кроме этой радости. Кроме запаха молока, подросткового пота в поле, когда он такой молодой и сильный бегал из одной деревни в другую, чтобы попасть на уроки. Ничего не было, как будто он первородный, самый-самый начальный он, до всего того, что случилось. А случилось многое. Но что именно, он уже не помнил. И шел так домой, оставляя их чесать волосы и плести камышовые венки. Шел радостный, заколдованный как будто, как-то весело махая на ходу литовкой – так, что его боялись уже проснувшиеся местные. Но они не понимали, они боялись его безумных глаз – они были наполнены детством и пустотой, незнанием горя, знанием облегчения, простой вездесущей небесной радостью. И он не слышал окликов, он вообще шел будто не по деревне своей, а по какой-то старой тропинке из своих глубоких воспоминаний.
Он
никого
не
замечал.
Иван Ефимович свернул к своему дому как будто по наитию. Нина с убранными волосами и серьёзно-грустным лицом готовила что-то в кухне. Он прошел мимо неё – прямиком в комнату, уселся на кровати и смотрел ещё долго прямо перед собой.
Есть-то будешь? – спросила она его, заглянув через висящую на дверном косяке шторку. Да и что есть-то теперь зачем, Ниночка? – спросил он, расплываясь в странной улыбке. Она вздрогнула, не выдержав его взгляда, его выгнутой на углы лица улыбки, и спряталась в кухне уже на целый день.
Надо бы пойти дров наколоть, Ваня, – сказала она погодя, оправившись немного от сковавшего её страха, уже где-то вечером.
Надо так надо, – ответил он ей, уже какой-то спокойный, будто пришел в себя. Будто и совсем как всегда, – думала Нина. Как вдруг он обернулся уже на пороге и сказал ей опять: а ведь они-то мне не врут! Почему тогда их боятся?
И вышел во двор.
На следующее утро она не спала. Она слышала, как он медленно сел в кровати, когда ещё только-только петухи начинали драть горло. Еле слышно простонал что-то. Опять голова болит, – подумала Нина про себя. Потом подошел к комоду, оделся, снял крестик, повесил его на гвоздь, и вышел. Она перевернулась на другой бок, глядя в опустевшую комнату, и ей стало уже страшно, как никогда. Она вылетела во двор в одной своей сорочке и закричала: Ваня, брось их, чего ты к ним таскаешься, уже все думают, что ты сумасшедший! Ваня, останемся дома сегодня утром! А он обернулся, глядя на неё пустыми глазами, смотрел долго, так что её в дрожь бросило, развернулся и пошел, напевая себе под нос: не твоии ли это сле-е-зы по миру текли…
Не твои, Ваня, – услышал он возле берега и начал с судорогой косить. Полынь текла соком под его литовкой, он чувствовал утренних мошек, начинающийся солнцепек, путаясь в траве, высокой как он сам, он косил очень зло, пытаясь этим унять свою голову, которая теперь уже как будто раскалывалась. Постоянно в ней проносились обрывки того, чего он не хотел помнить, казалось, что это разрывает его постоянно, ночью сниться, и не дает покою. Так он косил, да как закричит: Успокойте уже навсегда!
Навсегда только могила, Ваня, – слышит он, – услуга за услугу, коси, Ваня, коси, и всё пройдет..
Он сел снова на скошенный берег, глядя в глубокую воду, желая перестать что-либо чувствовать, кроме усталости в руках и ногах – физической, такой простой боли – она ведь простая, думал он, такая простая, знаешь, где болит, знаешь, как вылечить. Почти всегда. Господи, оставьте мне только мою физическую простую боль..
Твои глаза, Ваня, такие же как наше озеро, такие же, как наша радость и наш страх, улыбнись, Ваня, всё пройдет, закрывай глаза, закрывай.. – они обступали его кругом, садились рядом, ластились, кутали в волосах, плели из них венки и надевали на него, он падал в сон, назад, в глубь земли, казалось, что он уже умер, он был прост и чист, как в самом далеком детстве. Ещё до крещения. Он был ничем.
– Иван Ефимович, похоже, совсем поехал, – говорили деревенские.
– Смотри, опять сидит там, – слышались ответы, – каждое утро ходит туда с литовкой, только это не поможет, это проклятое место!
– Озеро еле видно..
– Да, и заросло травой почти, полынью, это один дьячок, Шустрин, посадил, чтобы от нечисти нас спасти.
– Тогда говорят ужас что было, половина мужиков утопилось..
– А чего он там сидит всё время? Будто делать больше нечего!
– Он как вышел из тюрьмы, постоянно туда таскается.
– Нинку жалко.
Они разбежались – пошел ливень. Иван Ефимович, разгорячённый от утреннего солнца и духоты, весь в поту, плелся домой. Он еле передвигал ноги, оставаясь ещё бессмысленным, пустым, оставаясь мысленно где-то в земле, в скошенной траве, в охлаждающих, дарящих забвение объятиях. Пот лил градом теперь не столько от усталости, сколько от волнения, какого-то непонятного предчувствия, что даже в груди кололо; казалось даже (казалось ли?), что дождь прекратился, и тучи заволокли небо, стало вдруг туманно – ничего не разглядеть; от влажности и ветра – легкого, но холодного, пот будто стал сворачиваться и мурашки поползли маленькими блошками по телу. Он вдруг совершенно потерял ориентир, вокруг зашумело, как листва от ветра, обильно и по-осеннему, но Иван Ефимович точно знал, что шел по полю. Со всех сторон, будто откуда-то сверху, он услышал: Ваня, не ищи выхода из тумана, Ваня, там погибель, мы спрячем – стой, Ваня…
Но Иван Ефимович не мог остановиться – что-то заставляло его вертеться из стороны в сторону – словно какой-то неаккуратный великан вертел его в ладонях – любопытно – как глиняную фигурку.
Остановись же, Ваня – летело вокруг эхом – останься неподвижен в тумане…
Но Иван Ефимович ничего не мог поделать, и вдруг где-то совсем рядом услышал слабый голос своего сына, а потом будто над самой его головой, отчетливый голос его жены, его Ниночки, голос, готовый поцеловать его в макушку, как мать целует маленького, ничего не понимающего младенца.