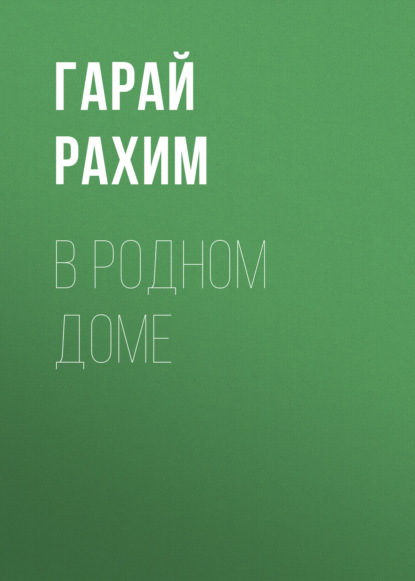По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В родном доме
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А режим в школе был действительно строгий, даже суровый. Время стояло трудное, послевоенное. Страна залечивала раны. Суровость времени отражалась и на школах, где мало места оставалось веселью, шуткам и озорству. Поэтому проделки жизнерадостного Гумера приходились не по нраву не только учителям, но и многим школьникам. Тем не менее многое юноше сходило с рук, ибо во время праздников он был незаменим. Никто, кроме него, не мог так проникновенно читать стихи и так умело, искромётно вести концерт. Серьёзные стихи он читал так, что мог выдавить слезу даже из жестокосердного человека, а шутливые вирши декламировал так, что слушатели задыхались и хватались за животы от смеха. Во время концерта Гумер не просто объявлял номера, но в кратких перерывах между номерами успевал рассказать что-нибудь интересное, да ещё так тонко пародировал кого-нибудь из учеников или даже учителей, что это вызывало лишь добрый смех, и никогда досаду со стороны объектов пародий. Он мог оживить даже заведомо скучный и пресный концерт, подготовленный группой чересчур законопослушных и «примерных» учеников.
К сожалению, и после праздничных концертов он продолжал «оживлять» однообразную школьную жизнь, что, конечно, часто вызывало негодование учителей. Проделки Гумера не могли не сказаться и на его успеваемости, так что юный озорник вовсе не относился к числу отличников. Не проходило и недели, чтобы его не вызывал на проволочку директор школы, а остальные педагоги не знали, как образумить сорванца. Но во второй половине восьмого учебного года Гумер сам постепенно стал меняться: всё чаще задумывался, уходил в себя и к концу учебного года его было не узнать. Бесстрашный сорвиголова превратился в тихого мечтательного, грустного юношу.
Причиной такой метаморфозы стала, конечно, эта «пигалица» Фалина. Он влюбился в эту девушку. И эти чувства натолкнулись опять-таки на жёсткие, ханжеско аскетические нормы школьной нравственности. Дело в том, что дружба, а тем более нежные чувства между мальчиками и девочками в школе считались не просто признаком вопиющей невоспитанности и распущенности, и не только нарушением школьного режима, более того, нарождающееся, чистое, хрупкое, трогательное чувство любви безапелляционно объявлялось в школе самым страшным преступлением против нравственности, настоящим позором.
Вот в каких условиях угораздило Гумера влюбиться в Фалину. Правда, он ещё не знал, что это странное чувство нежности, томления и тоски, переполнявшее его душу, называется любовью, да и не надо было ему об этом знать. Но вот уже два месяца он считает Фалину «своей», то есть чуть ли не «личной собственностью», как, например, сумку, пиджак, ручку или парту. Фалина отличалась от вышеперечисленных неодухотворённых предметов лишь тем, что Гумер, например, мог при желании раскромсать перочинным ножиком парту, порвать пиджак, сломать ручку или швырнуть сумку в какую-нибудь грязную лужу, а к Фалине он относился так трепетно, что даже боялся коснуться её, а не то, чтобы толкнуть или нагрубить. Напротив, он готов был порвать на лоскуты каждого, кто обидит или хотя бы попытается обидеть Фалину.
Гумер и не помнил, когда и как зародилось в нём такое чувство. Впрочем, что-то в памяти, кажется, осталось…
Дом, где Фалина жила с другими квартирантками, стоял на расстоянии десяти – пятнадцати дворов от дома Гумера. На правах одноклассника он иногда наведывался к девушкам, и вскоре они вроде бы подружились. Однако юноша, конечно, предпочитал проводить время с мальчиками, а не с тремя девчонками. Однажды зимним вечером один десятиклассник попросил Гумера познакомить его с Фалиной. И не просто познакомить, а по пути домой задержать её, отделив от двух подружек-квартиранток, а самому вовремя смыться. Получить такое задание от одного из лидеров старшеклассников было, конечно, почётно, тем более что его мог выполнить только Гумер, хорошо знавший девушек. Дело в том, что подружки были до того пугливы, что при малейшем приближении к ним парней с испуганным ойканием стремглав мчались домой. А вот его они не только не боялись, но и доверяли ему, и после танцев или кино старались идти домой вместе с ним. Поэтому Гумеру ничего не стоило задержать и передать «старшему товарищу» любую из трёх подружек. В нем ещё не было ни искорки будущих горячих чувств к Фалине.
На их улицу нужно было идти через пустырь, в летнее время превращавшийся в болото из-за вытекающих там родничков. Если летом здесь люди протаптывали множество тропинок, то зимой оставалась одна-единственная и плотно утрамбованная дорожка, по которой и шёл Гумер с подружками после танцев в сельском клубе. Заранее было уговорено, что он задержит Фалину за банями, в том месте, где тропинка соединяется с главной сельской улицей, а её подружек прогонит прочь. Школьный «авторитет» хотел во что бы то ни стало уединиться с Фалиной, причём не показываясь никому на глаза.
Возле бань Гумер, недолго думая, крепко схватил Фалину за локоть и оттащил её от подружек, которые почему-то лишь прыснули от смеха.
– Чего смеётесь? Марш домой! – грубо приказал им Гумер, и девчонки испуганно упорхнули с глаз долой.
Фалина стояла растерянная, ничего не понимая.
– Что с тобой, Гумер? Что ты делаешь? Отпусти руку, больно…
Гумер то и дело оглядывался, поджидая «авторитета». «Чего он там телится? – раздражённо подумал он. – Что я тут буду делать с этой пигалицей?»
Догадавшись по его взглядам, что Гумер ждёт ещё кого-то, Фалина взмолилась:
– Пожалуйста, Гумерчик, миленький, не позорь меня…
И сквозь неверный, скупой лунный свет увидел Гумер полные мольбы огромные глаза девушки. Господи, как она на него смотрела… как тихо и тепло сказала она ему: «Миленький»… Гумеру стало стыдно, он как-то сразу обмяк под молящим взглядом перепуганной девчушки, но ему не хотелось нарушать слово, данное тому веризиле-десятикласснику.
– Подожди, не дёргайся и не шуми, – как можно мягче сказал Гумер, увидев на тропе приближающийся к ним тёмный силуэт. Фалина тоже увидела чью-то фигуру и снова взмолилась:
– Ну, Гумерчик, будь другом, отпусти меня, я побегу домой, перед тётей нехорошо, стыдно, подружки уже дома, а меня до сих пор нет.
Фу ты, чёрт!.. И с чего это Гумер вдруг так раскис? Каждое слово Фалины болью отдавалось в сердце. Но слово нужно держать, ведь он мужчина, у которого слово – что кремень.
Подоспел школьный «авторитет», ухватил Фалину за другой локоть, цыкнул на Гумера: «А теперь проваливай отсюда!» И стал лапать испуганную девчонку. Та отбивалась, сопротивлялась как могла, угрожая:
– Прекрати! Что ты делаешь? Завтра же скажу директору!
Горе-ловелас пыхтел, безуспешно пытаясь обнять свою жертву, сопротивление которой всё возрастало.
Ба! Что это Гумер стоит здесь? Чего он тут забыл? Его дело сделано, он здесь уже не нужен.
Юноша засунул руки в карманы пальто и пошёл по улице неспешной, важной походкой «настоящего мужчины».
Ну и что? Подумаешь, она его пару раз «миленьким» да «Гумерчиком» назвала. Ну, посмотрела на него жалостливо, так что понятно, что струхнула. Да, струхнула. «А-а… Чепуха всё это!» – силился успокоить себя Гумер и прогонял из памяти образ Фалины с её молящими, широко открытыми глазами. Ему вдруг стыдно стало за эти мысли. Он стыдился самого себя. Ему казалось, что настоящему мужчине стыдно всерьёз задумываться о каких-то девчонках…
…Да, вполне вероятно, что первые искры большого чувства зародились в душе Гумера там, возле чёрных бань, замёрзших родников, на перекрёстке сельских тропинок. Да, наверное, так оно и произошло! Значит, в девятом и десятом классах они с Фалиной уже самозабвенно любили друг друга, не могли жить друг без друга, а их любовь росла и крепла с каждым днём и каждым часом! А потом? Разве потом Фалина не следовала за ним всюду – в Казани, Москве, Ленинграде, Средней Азии? Разве не лежала она между Гумером и его женой, согревая и заполняя холодную пустоту их взаимоотношений? Наконец, разве она, грубо схваченная и переданная двадцать пять лет назад какому-то недоноску, не прилетела вслед за Гумером в благословенный тёплый Крым?
Господи, к чему эти вопросы? Зачем вновь бередить старые сердечные раны?
И Гумер старался отвлечь себя от мрачных мыслей, от всеобъемлющей тоски, налегая на сухое вино и весело болтая со своим новым приятелем – таким душевным, жизнерадостным и в то же время таким практичным якутским джигитом Юрой, который очень скоро оставил в покое сухое вино и с удовольствием перешёл на крымский коньяк. Гумер продолжал тянуть болгарский «Старый замок», а его новый знакомый с пеной у рта рассказывал о своей любимой Якутии, о своей высокооплачиваемой, но очень трудной и очень интересной работе геолога. Свои разглагольствования Юра не забывал сдабривать глотками крепкого коньяка, и постепенно всё больше и больше пьянел. Гумер пил немного и больше слушал, чем говорил. Вот разговор зашёл о литературе, о писателях. Сибиряк оказался любителем художественной литературы, но жаловался, что в Якутии очень трудно найти серьёзную литературу, да и те книги, которые всё-таки попадают на прилавки магазинов, распродаются, пока геологи в поте лица на протяжении девяти месяцев ищут месторождение золота и других полезных ископаемых.
– В Казани тоже непросто найти хорошие книги, – заметил Гумер, – но всё-таки легче, чем у вас в Якутии.
– Слушай, ты же знаешь, я человек практичный, – перебил его Юра, – давай договоримся: ты мне из Казани пришлёшь хорошие книги, а я тебе отправлю медвежью шкуру.
– К чему такой широкий жест? – возразил Гумер. – Медвежья шкура теперь – вещь довольно редкая и очень дорогая. А книги я тебе и так пошлю.
– Знаю, знаю, – его собеседник хитро прищурил свои якутские глаза, – вся интеллигенция европейской части страны мечтает о медвежьей шкуре на стене или на полу своей городской квартиры. Лариса, как там медвежья шкура, которую мы оставили в зимнем охотничьем домике на берегу Ильмени?
– Да ты что! – Лариса укоризненно посмотрела на мужа. – Эта шкура даже не обработана.
– Ни черта ты не понимаешь! – хорохорился захмелевший Юра. – Для таких (он ткнул пальцем Гумера) людей эта шкура – всё равно что золотое руно для аргонавтов. Старую, вдоволь истоптанную медвежью шкуру с отрезанным ухом они вывесят на почётное место, рядом, например, с картиной Репина. Такие люди теперь очень падки до всяких ненужных безделушек типа оленьего рога, ослиного копыта, лягушачьей кожи, потрескавшейся от времени иконы, медных колокольчиков эпохи Тридевятого царства, рыбьего скелета, полусгнившей избушки на курьих ножках, ржавого подсвечника, давно забытых монет и разных вонючих трубок… Хобби! Экзотика! Они думают, что таким образом становятся ближе к природе. Гумер, возьми ручку и запиши, какие книги мне нужны. Во-первых, любые произведения Хемингуэя, Ремарка, Поля Сартра, а ещё хотя бы шесть томов «Всемирной истории искусства», для геолога и шести томов хватит.
Гумер записывал и думал: «Действительно, они, как это ни странно, не такие меркантильные, как мы, для которых верхом шика и в самом деле считается обладание роскошной медвежьей шкурой».
Уже темнело, Гумеру надо было возвращаться. Юра вышел его провожать. Стоял тёплый крымский вечер. Друзья дошли до раскидистого инжира, росшего на краю дорожки где-то на полпути между домом Юры и восьмым санаторным корпусом, где жил Гумер. Ему сразу пришёлся по душе этот якутский мужик – открытый, искренний и душой, и телом, и волей. Гумер даже завидовал ему, чувствуя себя по сравнению с ним каким-то ущербным что ли, мягкотелым… Он грустил, тосковал, маялся какими-то несбыточными надеждами. О чём грустить? О ком тосковать? И что это за маета такая непонятная? Вот и сейчас не удаётся полностью освободиться от мыслей и воспоминаний о юности, о Фалине. При первой возможности эти мысли лезут во все клетки мозга, натягивают каждый нерв.
– А почему ты не рассказываешь о своей жене, детях? – спросил вдруг Юра. – Сколько мы с тобой сидели, болтали, а ты ни слова о своей семье. Почему?
– Да не любят они меня, – отмахнулся Гумер, ему и так было тяжело на душе.
– Не говори чепуху! – сердито возразил сибиряк. – Может, ты не умеешь или не хочешь вызвать у них чувство любви к тебе? Может, денег в семью мало приносишь?
– Бывало, что и помногу приносил.
– Мало уделяешь им внимания? Про подарки, гостинцы не забываешь?
– В этом вопросе я не отличаюсь от других примерных мужей. Помню и про подарки и гостинцы. Из каждой поездки привожу что-нибудь интересное. Себе обычно ничего не покупаю, а им обязательно – модную одежду, фрукты, икру. Сын радуется, а вот жена почему-то к подаркам равнодушна. Да и радость сына, по сути, вызвана прежде всего предвкушением обильной деликатесной еды.
– Не пойму… – мотнул головой Юра, – как это можно не радоваться подаркам? Моя жена, к примеру, может зацеловать меня до потери пульса даже за какой-нибудь простенький платок.
– Хочешь, я проведу эксперимент? – предложил Гумер. – Скоро октябрьские праздники. Перед праздником один сосед по корпусу, тоже казанец, уезжает домой. Я попрошу его взять гостинцы для моей семьи: ну там, виноград, инжир, груши, гранат, словом, фрукты благословенного Крыма. Кроме того, я пошлю им поздравительную телеграмму. Вот увидишь: они и ответной телеграммы не пошлют, а письмо с выражением дежурной благодарности напишут не быстрее, чем через неделю.
– Не может быть! – удивился Юра. – Они напишут тебе письмо сразу же, в первый же день, как получат гостинцы. Твои близкие обязаны это сделать, даже если не любят тебя. Хотя бы сын напишет.
– Сын мой вообще не любит писать. Я уже две недели в санатории, а он ни одного письмеца не черкнул. А ведь в шестом классе учится, письмо смог бы написать.
– А вот этого не надо, – нахмурился сибиряк. – Нельзя обвинять детей.
– Нет, я не обвиняю, не корю его. Я ему через каждые три дня какой-нибудь гостинец или подарок отправляю. Во всяком случае, его мать могла бы уговорить или даже заставить его написать мне пару строк.
– Да-а-а… – удручённо протянул Юра. – Тяжело тебе с ними жить.
– В этом вся загвоздка, я уже и сам как-то приноровился не думать о них.
– Тогда почему ты всегда такой грустный, даже подавленный?
К сожалению, и после праздничных концертов он продолжал «оживлять» однообразную школьную жизнь, что, конечно, часто вызывало негодование учителей. Проделки Гумера не могли не сказаться и на его успеваемости, так что юный озорник вовсе не относился к числу отличников. Не проходило и недели, чтобы его не вызывал на проволочку директор школы, а остальные педагоги не знали, как образумить сорванца. Но во второй половине восьмого учебного года Гумер сам постепенно стал меняться: всё чаще задумывался, уходил в себя и к концу учебного года его было не узнать. Бесстрашный сорвиголова превратился в тихого мечтательного, грустного юношу.
Причиной такой метаморфозы стала, конечно, эта «пигалица» Фалина. Он влюбился в эту девушку. И эти чувства натолкнулись опять-таки на жёсткие, ханжеско аскетические нормы школьной нравственности. Дело в том, что дружба, а тем более нежные чувства между мальчиками и девочками в школе считались не просто признаком вопиющей невоспитанности и распущенности, и не только нарушением школьного режима, более того, нарождающееся, чистое, хрупкое, трогательное чувство любви безапелляционно объявлялось в школе самым страшным преступлением против нравственности, настоящим позором.
Вот в каких условиях угораздило Гумера влюбиться в Фалину. Правда, он ещё не знал, что это странное чувство нежности, томления и тоски, переполнявшее его душу, называется любовью, да и не надо было ему об этом знать. Но вот уже два месяца он считает Фалину «своей», то есть чуть ли не «личной собственностью», как, например, сумку, пиджак, ручку или парту. Фалина отличалась от вышеперечисленных неодухотворённых предметов лишь тем, что Гумер, например, мог при желании раскромсать перочинным ножиком парту, порвать пиджак, сломать ручку или швырнуть сумку в какую-нибудь грязную лужу, а к Фалине он относился так трепетно, что даже боялся коснуться её, а не то, чтобы толкнуть или нагрубить. Напротив, он готов был порвать на лоскуты каждого, кто обидит или хотя бы попытается обидеть Фалину.
Гумер и не помнил, когда и как зародилось в нём такое чувство. Впрочем, что-то в памяти, кажется, осталось…
Дом, где Фалина жила с другими квартирантками, стоял на расстоянии десяти – пятнадцати дворов от дома Гумера. На правах одноклассника он иногда наведывался к девушкам, и вскоре они вроде бы подружились. Однако юноша, конечно, предпочитал проводить время с мальчиками, а не с тремя девчонками. Однажды зимним вечером один десятиклассник попросил Гумера познакомить его с Фалиной. И не просто познакомить, а по пути домой задержать её, отделив от двух подружек-квартиранток, а самому вовремя смыться. Получить такое задание от одного из лидеров старшеклассников было, конечно, почётно, тем более что его мог выполнить только Гумер, хорошо знавший девушек. Дело в том, что подружки были до того пугливы, что при малейшем приближении к ним парней с испуганным ойканием стремглав мчались домой. А вот его они не только не боялись, но и доверяли ему, и после танцев или кино старались идти домой вместе с ним. Поэтому Гумеру ничего не стоило задержать и передать «старшему товарищу» любую из трёх подружек. В нем ещё не было ни искорки будущих горячих чувств к Фалине.
На их улицу нужно было идти через пустырь, в летнее время превращавшийся в болото из-за вытекающих там родничков. Если летом здесь люди протаптывали множество тропинок, то зимой оставалась одна-единственная и плотно утрамбованная дорожка, по которой и шёл Гумер с подружками после танцев в сельском клубе. Заранее было уговорено, что он задержит Фалину за банями, в том месте, где тропинка соединяется с главной сельской улицей, а её подружек прогонит прочь. Школьный «авторитет» хотел во что бы то ни стало уединиться с Фалиной, причём не показываясь никому на глаза.
Возле бань Гумер, недолго думая, крепко схватил Фалину за локоть и оттащил её от подружек, которые почему-то лишь прыснули от смеха.
– Чего смеётесь? Марш домой! – грубо приказал им Гумер, и девчонки испуганно упорхнули с глаз долой.
Фалина стояла растерянная, ничего не понимая.
– Что с тобой, Гумер? Что ты делаешь? Отпусти руку, больно…
Гумер то и дело оглядывался, поджидая «авторитета». «Чего он там телится? – раздражённо подумал он. – Что я тут буду делать с этой пигалицей?»
Догадавшись по его взглядам, что Гумер ждёт ещё кого-то, Фалина взмолилась:
– Пожалуйста, Гумерчик, миленький, не позорь меня…
И сквозь неверный, скупой лунный свет увидел Гумер полные мольбы огромные глаза девушки. Господи, как она на него смотрела… как тихо и тепло сказала она ему: «Миленький»… Гумеру стало стыдно, он как-то сразу обмяк под молящим взглядом перепуганной девчушки, но ему не хотелось нарушать слово, данное тому веризиле-десятикласснику.
– Подожди, не дёргайся и не шуми, – как можно мягче сказал Гумер, увидев на тропе приближающийся к ним тёмный силуэт. Фалина тоже увидела чью-то фигуру и снова взмолилась:
– Ну, Гумерчик, будь другом, отпусти меня, я побегу домой, перед тётей нехорошо, стыдно, подружки уже дома, а меня до сих пор нет.
Фу ты, чёрт!.. И с чего это Гумер вдруг так раскис? Каждое слово Фалины болью отдавалось в сердце. Но слово нужно держать, ведь он мужчина, у которого слово – что кремень.
Подоспел школьный «авторитет», ухватил Фалину за другой локоть, цыкнул на Гумера: «А теперь проваливай отсюда!» И стал лапать испуганную девчонку. Та отбивалась, сопротивлялась как могла, угрожая:
– Прекрати! Что ты делаешь? Завтра же скажу директору!
Горе-ловелас пыхтел, безуспешно пытаясь обнять свою жертву, сопротивление которой всё возрастало.
Ба! Что это Гумер стоит здесь? Чего он тут забыл? Его дело сделано, он здесь уже не нужен.
Юноша засунул руки в карманы пальто и пошёл по улице неспешной, важной походкой «настоящего мужчины».
Ну и что? Подумаешь, она его пару раз «миленьким» да «Гумерчиком» назвала. Ну, посмотрела на него жалостливо, так что понятно, что струхнула. Да, струхнула. «А-а… Чепуха всё это!» – силился успокоить себя Гумер и прогонял из памяти образ Фалины с её молящими, широко открытыми глазами. Ему вдруг стыдно стало за эти мысли. Он стыдился самого себя. Ему казалось, что настоящему мужчине стыдно всерьёз задумываться о каких-то девчонках…
…Да, вполне вероятно, что первые искры большого чувства зародились в душе Гумера там, возле чёрных бань, замёрзших родников, на перекрёстке сельских тропинок. Да, наверное, так оно и произошло! Значит, в девятом и десятом классах они с Фалиной уже самозабвенно любили друг друга, не могли жить друг без друга, а их любовь росла и крепла с каждым днём и каждым часом! А потом? Разве потом Фалина не следовала за ним всюду – в Казани, Москве, Ленинграде, Средней Азии? Разве не лежала она между Гумером и его женой, согревая и заполняя холодную пустоту их взаимоотношений? Наконец, разве она, грубо схваченная и переданная двадцать пять лет назад какому-то недоноску, не прилетела вслед за Гумером в благословенный тёплый Крым?
Господи, к чему эти вопросы? Зачем вновь бередить старые сердечные раны?
И Гумер старался отвлечь себя от мрачных мыслей, от всеобъемлющей тоски, налегая на сухое вино и весело болтая со своим новым приятелем – таким душевным, жизнерадостным и в то же время таким практичным якутским джигитом Юрой, который очень скоро оставил в покое сухое вино и с удовольствием перешёл на крымский коньяк. Гумер продолжал тянуть болгарский «Старый замок», а его новый знакомый с пеной у рта рассказывал о своей любимой Якутии, о своей высокооплачиваемой, но очень трудной и очень интересной работе геолога. Свои разглагольствования Юра не забывал сдабривать глотками крепкого коньяка, и постепенно всё больше и больше пьянел. Гумер пил немного и больше слушал, чем говорил. Вот разговор зашёл о литературе, о писателях. Сибиряк оказался любителем художественной литературы, но жаловался, что в Якутии очень трудно найти серьёзную литературу, да и те книги, которые всё-таки попадают на прилавки магазинов, распродаются, пока геологи в поте лица на протяжении девяти месяцев ищут месторождение золота и других полезных ископаемых.
– В Казани тоже непросто найти хорошие книги, – заметил Гумер, – но всё-таки легче, чем у вас в Якутии.
– Слушай, ты же знаешь, я человек практичный, – перебил его Юра, – давай договоримся: ты мне из Казани пришлёшь хорошие книги, а я тебе отправлю медвежью шкуру.
– К чему такой широкий жест? – возразил Гумер. – Медвежья шкура теперь – вещь довольно редкая и очень дорогая. А книги я тебе и так пошлю.
– Знаю, знаю, – его собеседник хитро прищурил свои якутские глаза, – вся интеллигенция европейской части страны мечтает о медвежьей шкуре на стене или на полу своей городской квартиры. Лариса, как там медвежья шкура, которую мы оставили в зимнем охотничьем домике на берегу Ильмени?
– Да ты что! – Лариса укоризненно посмотрела на мужа. – Эта шкура даже не обработана.
– Ни черта ты не понимаешь! – хорохорился захмелевший Юра. – Для таких (он ткнул пальцем Гумера) людей эта шкура – всё равно что золотое руно для аргонавтов. Старую, вдоволь истоптанную медвежью шкуру с отрезанным ухом они вывесят на почётное место, рядом, например, с картиной Репина. Такие люди теперь очень падки до всяких ненужных безделушек типа оленьего рога, ослиного копыта, лягушачьей кожи, потрескавшейся от времени иконы, медных колокольчиков эпохи Тридевятого царства, рыбьего скелета, полусгнившей избушки на курьих ножках, ржавого подсвечника, давно забытых монет и разных вонючих трубок… Хобби! Экзотика! Они думают, что таким образом становятся ближе к природе. Гумер, возьми ручку и запиши, какие книги мне нужны. Во-первых, любые произведения Хемингуэя, Ремарка, Поля Сартра, а ещё хотя бы шесть томов «Всемирной истории искусства», для геолога и шести томов хватит.
Гумер записывал и думал: «Действительно, они, как это ни странно, не такие меркантильные, как мы, для которых верхом шика и в самом деле считается обладание роскошной медвежьей шкурой».
Уже темнело, Гумеру надо было возвращаться. Юра вышел его провожать. Стоял тёплый крымский вечер. Друзья дошли до раскидистого инжира, росшего на краю дорожки где-то на полпути между домом Юры и восьмым санаторным корпусом, где жил Гумер. Ему сразу пришёлся по душе этот якутский мужик – открытый, искренний и душой, и телом, и волей. Гумер даже завидовал ему, чувствуя себя по сравнению с ним каким-то ущербным что ли, мягкотелым… Он грустил, тосковал, маялся какими-то несбыточными надеждами. О чём грустить? О ком тосковать? И что это за маета такая непонятная? Вот и сейчас не удаётся полностью освободиться от мыслей и воспоминаний о юности, о Фалине. При первой возможности эти мысли лезут во все клетки мозга, натягивают каждый нерв.
– А почему ты не рассказываешь о своей жене, детях? – спросил вдруг Юра. – Сколько мы с тобой сидели, болтали, а ты ни слова о своей семье. Почему?
– Да не любят они меня, – отмахнулся Гумер, ему и так было тяжело на душе.
– Не говори чепуху! – сердито возразил сибиряк. – Может, ты не умеешь или не хочешь вызвать у них чувство любви к тебе? Может, денег в семью мало приносишь?
– Бывало, что и помногу приносил.
– Мало уделяешь им внимания? Про подарки, гостинцы не забываешь?
– В этом вопросе я не отличаюсь от других примерных мужей. Помню и про подарки и гостинцы. Из каждой поездки привожу что-нибудь интересное. Себе обычно ничего не покупаю, а им обязательно – модную одежду, фрукты, икру. Сын радуется, а вот жена почему-то к подаркам равнодушна. Да и радость сына, по сути, вызвана прежде всего предвкушением обильной деликатесной еды.
– Не пойму… – мотнул головой Юра, – как это можно не радоваться подаркам? Моя жена, к примеру, может зацеловать меня до потери пульса даже за какой-нибудь простенький платок.
– Хочешь, я проведу эксперимент? – предложил Гумер. – Скоро октябрьские праздники. Перед праздником один сосед по корпусу, тоже казанец, уезжает домой. Я попрошу его взять гостинцы для моей семьи: ну там, виноград, инжир, груши, гранат, словом, фрукты благословенного Крыма. Кроме того, я пошлю им поздравительную телеграмму. Вот увидишь: они и ответной телеграммы не пошлют, а письмо с выражением дежурной благодарности напишут не быстрее, чем через неделю.
– Не может быть! – удивился Юра. – Они напишут тебе письмо сразу же, в первый же день, как получат гостинцы. Твои близкие обязаны это сделать, даже если не любят тебя. Хотя бы сын напишет.
– Сын мой вообще не любит писать. Я уже две недели в санатории, а он ни одного письмеца не черкнул. А ведь в шестом классе учится, письмо смог бы написать.
– А вот этого не надо, – нахмурился сибиряк. – Нельзя обвинять детей.
– Нет, я не обвиняю, не корю его. Я ему через каждые три дня какой-нибудь гостинец или подарок отправляю. Во всяком случае, его мать могла бы уговорить или даже заставить его написать мне пару строк.
– Да-а-а… – удручённо протянул Юра. – Тяжело тебе с ними жить.
– В этом вся загвоздка, я уже и сам как-то приноровился не думать о них.
– Тогда почему ты всегда такой грустный, даже подавленный?