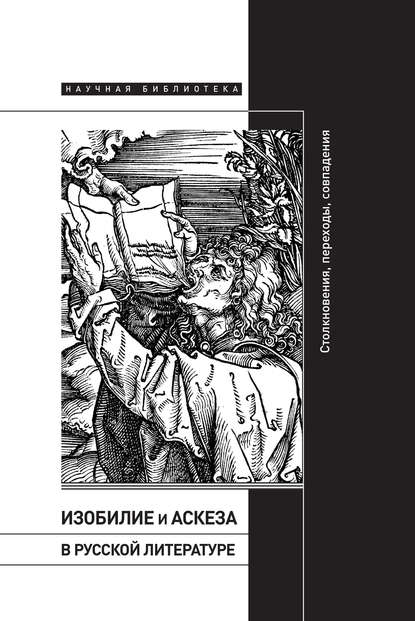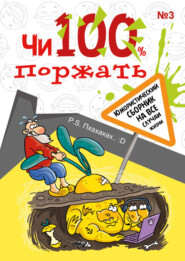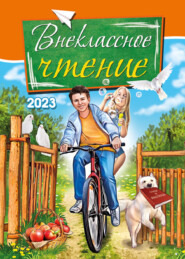По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Изобилие и аскеза в русской литературе: Столкновения, переходы, совпадения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Изобилие и аскеза в русской литературе: Столкновения, переходы, совпадения
Коллектив авторов
Понятие аскезы, то есть стремления к воздержанию и отречению от земных благ, – ключевое для самосознания русской культуры. Оно связано с темой бедности, под которой понимается не только нужда, но и скудость окружающей среды, аскетичность самой природы. Такие мыслители, как Н. Бердяев, М. Вебер и Н. Элиас, описывали аскезу как технику самоограничения и самодисциплины и, следовательно, как ключевой экономический и цивилизационный фактор. Однако если обратиться к Библии, то евангельским понятием оказывается изобилие, а вовсе не аскеза. Его образцом стало чудо умножения хлебов, достигнутое без каких-либо аскетических подвигов со стороны присутствующих людей. В таком случае, действительно ли пара изобилие/аскеза антонимична? Как моделируется напряжение между этими двумя полюсами в русской литературе? Какое отражение идея трансформации крайней бедности в избыточное богатство нашла в советской культуре? В сборник вошли статьи Ж.-Ф. Жаккара, К. Ичин, О. А. Ханзена-Лёве и других исследователей, посвященные этой теме в русской литературе от средневековья до современности.
Изобилие и аскеза в русской литературе Столкновения, переходы, совпадения
ИЗОБИЛИЕ И АСКЕЗА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ИДЕИ И ПРАКТИКИ (ПРИБЛИЖЕНИЕ К ТЕМЕ)
Йенс Херльт, Кристиан Цендер
Понятийная пара «изобилие и аскеза» вписывается в ряд оппозиций разных гуманитарных и социальных дисциплин: антропологии и религиоведения, если думать о «празднике и голоде», «обжорстве и посте»; экономики, социологии, культурологии, если взять ее как пару «благосостояние и нищета» или «роскошь и скудость»; наконец, риторики и эстетики, если перевести ее на «велеречивость и лаконичность», «максимализм и минимализм» и так далее[1 - За последние годы можно отметить множество таких публикаций: Macho T. Neue Askese? Zur Frage nach der Aktualit?t des Verzichts // Merkur. 1994. 54 (7); Egger I. Di?tetik und Askese. Zur Dialektik der Aufkl?rung in Goethes Romanen. M?nchen: Fink, 2001; Goller M., Witte G. (Hrsg.). Minimalismus. Zwischen Leere und Exze? // Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 51. Wien: Gesellschaft zur F?rderung slawistischer Studien, 2001; Largier N. Die Kunst des Begehrens. Dekadenz, Sinnlichkeit und Askese. M?nchen: C. H. Beck, 2007; Gronau B., Lagaay A. (Hrsg.). ?konomien der Zur?ckhaltung. Kulturelles Handeln zwischen Askese und Restriktion. Bielefeld: Transcript, 2009; Koller E., Schr?dl B., Schwantner A. (Hrsg.). Exzess. Vom ?berschuss in der Religion, Kunst und Philosophie. Bielefeld: Transcript, 2009; Ryklin M. Russische Exzesse. Metamorphosen des Luxus – von den Zaren zu den Oligarchen // Lettre International. 2013. 100; Tauschek M., Grewe M. (Hrsg.). Knappheit, Mangel, ?berfluss. Kulturwissenschaftliche Positionen zum Umgang mit begrenzten Ressourcen. Frankfurt a. M.: Campus, 2015; Posnock R. Renunciation: Acts of Abandonment by Writers, Philosophers and Artists. Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press, 2016; Aselmeyer N., Settele V. (Hrsg.). Geschichte des Nicht-Essens. Verzicht, Vermeidung und Verweigerung in der Moderne. Berlin: de Gruyter Oldenbourg, 2018.]. «Был голод, было и изобилие»[2 - Ремизов А. Огненная Россия. Ревель: Библиофилъ, 1921. С. 9.], – пишет А. М. Ремизов в начале «Огненной России» и открывает на первой же странице произведения весь этот диапазон, ведущий от этнологии через экономику к (мета-)поэтике.
Между тем пара «изобилие и аскеза» очевидно функционирует несколько иначе. Это пара неуравновешенная, несимметричная: изобилие ведь обозначает состояние (отчасти и событие) чрезмерности, тогда как аскеза обозначает технику, а именно способ духовно упражняться (др.-гр. ??????? – «упражнение») с помощью телесных практик. В конце концов приходится оговориться, что эта пара, строго говоря, не является оппозицией. Более того, в ней скрыта некая циркулярность; в чем же может заключаться цель аскезы, если не в изобилии? На что может надеяться тот, кто умышленно «умирает для жизни», кроме самой жизни, разумеется в каком-то «высшем» смысле? Если обратиться к Библии, то евангельским понятием оказывается изобилие (гр. ??????????), а вовсе не аскеза[3 - Это, конечно, не значит, что в Библии нет аскетических мотивов. См.: Asceticism and the New Testament / Ed. Leif E. Vaage, Vincent L. Wimbush. New York; London: Routledge, 1999.]. «Закон изобилия»[4 - Ratzinger J. Einf?hrung in das Christentum. Vorlesungen ?ber das Apostolische Glaubensbekenntnis. Mit einem neuen einleitenden Essay. 6. Auflage. M?nchen: K?sel, 2005. S. 241–246.], по выражению одного из современных теологов, насквозь пронизывает Новый Завет. Его образцом стало чудо умножения хлебов, достигнутое без каких-либо аскетических подвигов со стороны присутствующих людей[5 - См.: Ин. 6:10–14; Мф. 15:32–39; Мк. 8:1–10.]. Изобилие в данном случае имеет аллегорически-духовный смысл, означая причастность к небесному «пиру». Тем не менее нельзя забывать о конкретной «материальности» этих чудес. Можно привлечь и пример из агиографии. В житии Феодосия Печерского описывается случай: однажды в монастыре закончилась еда. Подвижник начал молиться, и тут же в монастырь привезли «три телеги съестным: хлебом и сыром, и рыбой, чечевицей и пшеном, и медом к тому же»[6 - «<…> три возы брашьна: хл?бъ, и сыръ, и рыбъ, сочиво же и пьшено, еще же и медъ, <…>» (Житие Феодосия Печерского // Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН, http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4872).]. Таким образом, плод подвижничества – изобилие пищи. Подобная плодотворность аскезы, однако, не всегда себя проявляет. Так, житие Исаакия Печерского, написанное в том же XI веке, показывает опасность аскезы. Исаакию в его аскетической гордыне кажется, что он уже причастен божественным откровениям, и, как следствие, он полагает, что способен различать духов. Это приводит к внутренней смерти Исаакия, которая имеет вполне физическое проявление: ему приходится заново учиться ходить и говорить. Впоследствии Исаакий не перестает быть аскетом, но кардинально меняется характер его подвижничества. Ему приходится перенаправлять аскезу от себя к другим. Характерно, что он начинает странствовать и юродствовать[7 - См.: Cyzevs’kyj D. Studien zur russischen Hagiographie. II. Erz?hlung vom hl. Isaakij // Wiener Slavistisches Jahrbuch. 1952. 2.]. Путь Касатского, о. Сергия из знаменитого рассказа Л. Н. Толстого, аналогичен и в этом смысле сугубо житийный[8 - См.: Morris M. Saints and Revolutionaries: The Ascetic Hero in Russian Literature. Albany, NY: State University of New York Press, 1993. P. 117–120. О ренессансе аскезы в XIX и раннем XX в. см.: Michelson P. L. Beyond the Monastery Walls: The Ascetic Revolution in Russian Orthodox Thought, 1814–1914. Madison, WI; London: The University of Wisconsin Press, 2017.].
Н. А. Бердяев, усиливая старый скепсис по отношению к чисто духовным подвигам, определял аскезу как то, чего человек может достичь от себя[9 - Бердяев Н. A. Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности <1937> // Бердяев Н. А. Философия свободного духа. М.: Республика, 1994. С. 399–412 («Смысл аскезы»).]. Опять же это никоим образом не противоречило традиции. Так, отец-пустынник Евагрий Понтийский (IV век) понимал аскезу лишь как «практическую» ступень (????????), то есть «метод по очищению души от страстей»[10 - «Praktikos», гл. 78; цит. по: Bunge G. «Aktion» und «Kontemplation» // Bunge G. Irdene Gef??e. Die Praxis des pers?nlichen Gebets nach der ?berlieferung der heiligen V?ter. W?rzburg: Der Christliche Osten, 1999. S. 34.] в пути к обожению. Более или менее одновременно с Бердяевым М. Вебер и Н. Элиас уже на социологическом языке описывали аскезу: как технику самоограничения и самодисциплины и, следовательно, как ключевой экономический и цивилизационный фактор[11 - См.: Hahn A., Hoffmann M. Moderne und Askese. ?ber ihr Verh?ltnis nach Max Weber und Norbert Elias // Das Mittelalter. 2010. 15 (1).]. Иное осмысление аскезы в начале XX века в литературной эссеистике – идеал «нежных» аскетов (по выражению В. В. Розанова[12 - Розанов В. В. Смысл аскетизма <1899> // Розанов В. Религия и культура. М.: АСТ; Фолио, 2001. С. 113.]). Самым известным представителем этого типа, конечно, стал еще в XIX веке старец Зосима Ф. М. Достоевского. Его антипод отец Ферапонт – резкий и неспособный к общению. В противоположность аскетам «с зажатыми зубами» вроде Ферапонта, пишет Розанов, «<нежные аскеты>, совлекши с себя плоть, любят однако плоть и плотское; не убегают в пустыню, а бегут к людям; а если и удаляются в пустыню – ласкают львов, вынимают занозы из медведя, не могут оторвать взгляда от звезд»[13 - Там же. Курсив наш. – Й. Х., К. Ц.]. Аскеза в этой «теплой» перспективе не может сама себя определять, она не самодостаточная. Она интересным образом нуждается в изобилии, в изобилии, телесно выражающемся. Это, безусловно, не только русский модернистско-религиозный мотив. Так, после посещения Ассизи в 1937 году С. Вейль написала: «Этот святой Франциск умел выбирать самые роскошные места, чтобы жить в них бедно; в нем не было ничего от аскета»[14 - Письмо к Жану Постернаку от мая 1937: «Ce saint Fran?ois savait choisir les lieux les plus dеlicieux pour y vivre pauvrement; il n’avait rien d’un asc?te» (Weil S. Oeuvres / Edition еtablie sous la direction de Florence de Lussy. Paris: Quarto Gallimard, 2011. P. 646).]. Аскеза оказывается под всеобщим подозрением не только из?за Ницше и его дезавуирующей генеалогии «аскетических идеалов»[15 - См.: Nietzsche F. Zur Genealogie der Moral (1887; «Dritte Abhandlung: Was bedeuten asketische Ideale?»).], но часто и со стороны самой теологии. А. Д. Шмеман в дневниках пишет (по поводу чтения «Лекции по литературе» В. В. Набокова):
<…> ресторанное искусство <…> не требует «оправдания», отнесения себя к чему-то «высшему» (разве что с аскетической точки зрения, с которой требует оно не оправдания, а осуждения). А литература, слова и ими воплощаемое видение мира? Мне ясно теперь, что моя вечная любовь к Набокову, вернее – к чтению Набокова, – того же порядка, что любовь к хорошему ужину[16 - Шмеман А. Дневники: 1973–1983. 3?е изд. М.: Русский путь, 2009. С. 548 (20 ноября 1980; курсив в оригинале).].
«Вкусное» не нуждается в оправдании, тогда как аскеза в силу своей инструментальности оторвана от подобной очевидности. Но, спрашивает Шмеман, не следует ли «кулинарный подход к литературе»[17 - Там же. Курсив в оригинале.] определенному компенсационному механизму? Он продолжает:
То, что так сильно мучило Толстого, – не мучит Набокова. Или, может быть, сама его ненависть к истолкованиям и оценкам литературы по отношению не к «кухне» и «ресторану», а вот к тому, ненавистному ему «свыше» – и объясняется таким «подавленным» мучением?[18 - Там же.]
То, что Шмеман допускает в виде вопроса обратную логику, то есть осуждение «кухни» с точки зрения «высшего», указывает на возможность переходов, конкретнее – такой модели, по которой аскеза и изобилие не осуждают, но оправдывают друг друга. Даже в такой, казалось бы, абсолютно равнодушной и чисто материальной жизни, как у Шерамура, «чрева-ради юродивого» из рассказа Н. С. Лескова, есть момент, когда он перестает «жрать» и фактически начинает поститься, с тем чтобы в конце устроить апофеоз чрезмерности: «сотворить какую-то вселенскую жратву» с нищими[19 - Лесков Н. С. Шерамур (чрева-ради юродивый) // Лесков Н. С. Собр. соч: В 11 т. / Ред. В. Г. Базанов, Б. Я. Бухштаб, А. И. Груздев, С. А. Рейсер, Б. М. Эйхенбаум. М.: Худож. лит., 1956–1958. Т. 6. С. 294.].
Подобные примеры остаются так или иначе в религиозных рамках; по крайней мере, они сохраняют связь с подвижничеством. Тем важнее остановиться на вопросе, насколько понятие аскезы можно и стоит универсализировать. Основополагающей для второй (после Ницше, Вебера, Элиаса, Бердяева и др.) трансформации понятия оказался концепт М. Фуко askesis, развитый им на материале позднеантичной философии[20 - Foucault M. Le souci de soi // Foucault M. Histoire de la sexualitе. T. 3. Paris: Gallimard, 1984. См.: McGushin Е. F. Foucault’s Askesis: An Introduction to the Philosophical Life. Evanston, IL: Northwestern University Press, 2007.]. Сильную тенденцию к обобщению аскезы можно наблюдать в англоязычной гуманитарной науке последних десятилетий. В качестве репрезентативных примеров следует назвать такие книги, как «Аскетический императив в культуре и критике»[21 - Harpham G. G. The Ascetic Imperative in Culture and Criticism. Chicago: Chicago University Press, 1987.], «Святые нового искусства: Аскетический идеал в современной живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, танцах, литературе и философии»[22 - Riley II Ch. A. The Saints of Modern Art: The Ascetic Ideal in Contemporary Painting, Sculpture, Architecture, Music, Dance, Literature and Philosophy. Hanover, NH: University Press of New England, 1998.], «Этика через литературу: Аскетическое и эстетическое чтение в западной культуре»[23 - Stock B. Ethics through Literature: Ascetic and Aesthetic Reading in Western Culture. Lebanon, NH: University Press of New England, 2008.] или же «Святая плоть: Аскеза в религии, литературе, искусстве и культуре»[24 - Jasper D. The Sacred Body: Asceticism in Religion, Literature, Art, and Culture. Waco, Texas: Baylor University Press, 2009.]. Расширение безусловно оперативно, парадигма продуктивна; сомневаться в этом при взгляде на критическую литературу не приходится. Тем не менее не следует упускать из виду секуляризационный нарратив, более или менее явно лежащий в основе этого расширения: секуляризация, даже когда она происходит по схеме «узурпации» или открыто антирелигиозно мотивирована, неизбежно приводит к часто недооцененной логической зависимости от религиозных традиций. Это наблюдение побудило немецкого философа и историка идей Х. Блюменберга разработать модель «легитимности», а именно «самоутверждения» Нового времени[25 - См.: Blumenberg H. S?kularisierung und Selbstbehauptung. Erweiterte und ?berarbeitete Neuausgabe von «Die Legitimit?t der Neuzeit», erster und zweiter Teil. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1974.]. Здесь не место входить в сложные долголетние дебаты о теории секуляризации. Тем не менее необходимо иметь в виду вопрос: существует ли полностью нейтральное использование «аскезы»? Обратимся к известному в литературоведении примеру. В эссе «Страх влияния» (The Anxiety of Influence, 1973) Х. Блум писал о своеобразной аскезе романтического поэта: «Поэтическая сублимация – это askesis, способ очищения, предполагающий состояние одиночества в качестве своей непосредственной цели. <…> Сильный поэт в своем демоническом восхождении способен направить свою энергию на себя»[26 - «Poetic sublimation is an askesis, a way of purgation intending a state of solitude as its proximate goal. <…> the strong poet in his daemonic elevation is empowered to turn his energy upon himself» (Bloom H. Askesis, or Purgation and Solipsism // Bloom H. The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry. New York: Oxford University Press, 1997. Р. 115–116. Курсив наш. – Й. Х., К. Ц.).]. Аскеза у Блума – метафора борьбы романтического поэта с традицией, перегружающей его. В этой связи следует, однако, подчеркнуть исключительную важность традиции для любой аскетической практики и ее конфликт со стремлением к автономности. На этот аспект обратил внимание Г. Флуд:
Аскетическое «я» управляется контролем, <…> контролем, управляющимся традицией <…>. Этот вид специфически традиционного контроля, направление желания приемлемым для традиции образом, стал предметом критики как с точки зрения кантианского просвещения, которое продвигает индивидуализм и автономность с помощью рационального самоконтроля, противостоящего всем формам гетерономности, так и с дионисийской точки зрения Ницше, который критикует аскетическое «я» как слабость[27 - «The ascetic self is governed by control, <…> a control governed by tradition <…>. This kind of tradition-specific control, the channelling of desire in ways acceptable to tradition, has been the subject of criticism both from the perspective of a Kantian Enlightenment which promotes individualism and autonomy in a rational self-control that resists all forms of heteronomy, and from the Dionysian perspective of a Nietzsche who criticises the ascetic self as weakness» (Flood G. The Ascetic Self: Subjectivity, Memory and Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 237. Курсив наш. – Й. Х., К. Ц.).].
Таким образом, пределом гибкости понятия аскезы является гетерономность. В этой перспективе черта проходила бы не столько между «антимирским» и «мирским» типами аскезы, сколько между отсылкой к традиции и установкой на автономность. Можно было бы возразить, что это лишь разница в акценте, скорее градуальная, чем принципиальная. Тем не менее она непосредственно влияет на интерпретацию текстов. Ярким примером могут служить разные интерпретации «Доктора Живаго» Б. Л. Пастернака, а именно поведения антагонистов Юрия Живаго и Павла Антипова. В рецепции романа как «аскет» обычно воспринимался Антипов (впоследствии Стрельников)[28 - См. хотя бы: Masing-Delic I. Capitalist Bread and Socialist Spectacle: The Janus Face of «Rome» in Pasternak’s Doctor Zhivago // Boris Pasternak and His Times: Selected Papers from the Second International Symposium on Pasternak / Ed. by Lazar Fleishman. Berkeley, CA: Berkeley Slavic Specialties, 1989. Р. 372–373.]. Он – «монах» революции, спасающий мир, который он презирает. Живаго, с другой стороны, не собирается переделать мир, он живет восприимчивостью, он во многом пассивно «получает» мир – как лучи вечернего света. Никакого «аскетизма» в нем нет, более того, у него в целом скорее распущенный образ жизни. Недавно М. Келли сменила перспективу и описала поэтическую работу Юрия Живаго (с литургическими текстами) как аскетическую. Келли пишет об аскезе как модусе «трансдисфигурации» культуры с помощью свободного обращения к традиции, то есть церковным канонам, которые становятся «Стихотворениями Юрия Живаго»[29 - Kelly M. M. Cultural Transformation as Transdisfiguration in Pasternak’s Doctor Zhivago // Kelly M. M. Unorthodox Beauty: Russian Modernism and Its Religious Aesthetic. Evanston, IL: Northwestern University Press, 2016. Р. 174.]. Несомненно, обе перспективы – Антипов как революционный аскет, с одной стороны, Живаго как культуротворческий поэт-аскет, заново изобретающий традиции, с другой, – обоснованны. Важно только видеть напряжение между ними. При этом нельзя забывать, что у русской интеллигенции с позднего XIX века присутствовали данные для обоих пониманий. В этом смысле представляется весьма последовательным, что в романе о перипетиях русской интеллигенции сосуществуют непримиримые версии аскетизма.
В духовной культуре России первых пореформенных лет произошли фундаментальные изменения. В атмосфере повсеместного социального и политического брожения формировался особый тип поведения, особый этос подвижничества, восходящий по своим внешним параметрам – отказ от материальных благ и телесных удовольствий, самопожертвование для высшей цели – к образцу христианских аскетических практик, но фундаментально переиначивая их аполитичную, исключительно религиозную ориентацию. Так, литературный критик радикально народнической ориентации П. Н. Ткачев отметил еще в 1868 году, что «люди будущего» – так он называет людей, жертвующих собственными интересами ради всеобщего блага – часто «подвергаются упрекам в аскетизме, в отчуждении от той жизни, которая не укладывается в рамки их идеала»[30 - Ткачев П. Н. Люди будущего и герои мещанства. «Один в поле – не воин». Роман Ф. Шпильгагена. 1868 г. «Феликс-Гольт. Радикал». Роман Дж. Эллиот. 1867 г. «Леди Меркем». Роман Ж. Занда <sic!>. «Возмутительный брак». Роман Андре Лео. 1867 г. <рец. в журнале «Дело». 1868. № 4–5> // Ткачев П. Н. Избранные сочинения на социально-политические темы в четырех томах / Ред. Б. П. Козьмин. М.: Изд-во Политкаторжан, 1932. T. 1. С. 179.]. Однако говорить об «аскетизме» согласно Ткачеву было бы заблуждением:
<…> между новыми людьми и средневековыми аскетами нет решительно ничего общего; это именно потому, что у последних отвлеченное правило, отвлеченная идея ни мало не гармонирует с их природою <…>; напротив, у первых, стремление к осуществлению их идеала составляет самую сильную, неодолимую, так сказать, органическую потребность их природы[31 - Там же. С. 178.].
Несмотря на подобного рода возражения, понятие «аскетизм» (и его производные) закрепилось за приверженцами радикального народничества. Этика «аскетического самоограничения и самопожертвования» так или иначе стала преобладающей моделью не только среди представителей народничества и радикальных активистов, но и вообще в кругах социально сознательной интеллигенции[32 - Франк С. Л. Этика нигилизма // Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. М.: Типография В. М. Саблина, 1909. С. 154.]. На это обращали внимание еще авторы сборника «Вехи» (1909)[33 - См. о трансформациях дискурса об «аскетизме» в (религиозной) интеллигенции на рубеже XIX и XX веков: Coates R. Feuerbach, Kant, Dostoevskii: The Evolution of «Heroism» and «Asceticism» in Bulgakov’s Work to 1909 // Landmarks Revisited: The Vekhi Symposium 100 Years On / Ed. by R. Aizlewood and R. Coates. Boston: Academic Studies Press, 2013. P. 297–304 (гл. «Asceticism»).]. П. Б. Струве писал об «аскетизме и подвижничестве интеллигенции, полагавшей свои силы на служение народу»[34 - Струве П. Б. Интеллигенция и революция // Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. С. 140.]. С. Н. Булгаков, в свою очередь, с социально-исторической перспективы выявил корни поведенческого уклада ангажированной интеллигенции:
<…> некоторый пуританизм, ригористические нравы, своеобразный аскетизм, вообще строгость личной жизни; такие, например, вожди русской интеллигенции, как Добролюбов и Чернышевский (оба семинаристы, воспитанные в религиозных семьях духовных лиц), сохраняют почти нетронутым свой прежний нравственный облик[35 - Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество // Там же. С. 29.].
Эти же качества потом «просвечивают в духовном облике лучших и крупнейших деятелей русской революции»[36 - Там же.].
Всего лишь три года спустя революционер Л. Д. Троцкий охарактеризирует «старый интеллигентский аскетизм» как пройденный этап: «Всем осточертел старый интеллигентский аскетизм, – захотелось чистого белья и ванной комнаты при квартире»[37 - Троцкий Л. Д. Об интеллигенции // Троцкий Л. Д. Сочинения. Т. 20. Сер. 6. М.; Л.: ГИЗ, 1926. С. 328 (впервые: Киевская Мысль. 1912. 4 марта. № 64; 12 марта. № 72).]. Вместе с интеллигентским аскетизмом пришла к концу, по Троцкому, и сама русская интеллигенция. После провала революции 1905 года, под знаком правящей в журналах и салонах всеобщей «веховщины», она потеряла контакт с единственно возможным действующим субъектом исторического процесса – пролетариатом. Однако поведенческая модель разночинной интеллигенции просуществует далее; в определенной мере она служит прообразом фигуры борца-большевика. Известно, что облик и нрав В. И. Ленина у многих современников сочетались с аскетическими свойствами[38 - См.: Mazlish B. The Revolutionary Ascetic: Evolution of a Political Type. London; New York: Routledge, 2017.]. Сам Троцкий внес свой вклад в создание соответствующей традиции, написав о «могучем аскетизме» Ленина[39 - Троцкий Л. Д. Национальное в Ленине // Троцкий Л. Д. О Ленине. М., 2015. C. 112 (впервые: Правда. 1920. 23 апр. № 86).], а М. Горький в вышедшем вскоре после смерти вождя очерке «В. И. Ленин» упоминал о наличии в нем «нередко<го> в России скромно<го>, аскетическо<го> подвижничеств<а> честного русского интеллигента-революционера», доводя аналогию до знаменитых «рахметовских гвоздей», – то есть он вписывает Ленина в ту самую традицию, от которой так эмфатически отталкивается Троцкий[40 - Горький М. В. И. Ленин // Горький М. Полн. собр. соч.: В 25 т. Т. 20: Рассказы, очерки, воспоминания. 1924–1935 / Ред. тома: Н. Н. Жегалов. М.: Наука, 1968–1976. Т. 20. С. 7, 39. Не случайно несколько месяцев спустя Троцкий выступает против очерка Горького в статье «„Верное и фальшивое о Ленине“: Мысли по поводу горьковской характеристики Ленина», приводя, между прочим, выше цитированные строки в качестве доказательства фальшивого, по его мнению, взгляда Горького на Ленина (Известия. 1924. 7 окт. № 229).].
При этом не следует забывать, что в подчеркнутом «аскетизме» нигилистов 1860?х годов и последующих десятилетий выступает и своеобразная эстетизация, на что указала К. Верховен (C. Verhoeven), опираясь на исследования И. А. Паперно[41 - Verhoeven C. The Odd Man Karakozov: Imperial Russia, Modernity, and the Birth of Terrorism. Ithaca; London: Cornell University Press. Р. 114–120; Paperno I. Chernyshevsky and the Age of Realism: A Study in the Semiotics of Behavior. Stanford: Stanford University Press, 1988.]. Разумеется, что сегодня представляется невозможным судить об аутентичности убеждений подвижников народовольческих идей; мы можем только отметить, что в соответствующих кругах – или, скорее, в исторических свидетельствах об этих кругах – и в сложившемся образе «интеллигента-разночинца» или «нигилиста» преобладали, так сказать, внешние маркеры аскетического поведения. Возможные различия между внешними манифестациями и внутренними убеждениями аскетических подвижников выпадают из нашего методологического поля зрения. Это, конечно, является банальным утверждением, если бы подозрение о несоответствии внешнего и внутреннего планов не ставило под сомнение аксиологический фундамент самой аскетической установки с ее пренебрежением по отношению к внешней стороне человеческого существования. «Аскетический стиль», образовавшийся в последнией трети XIX века, – не что иное, как особый склад поведения и особый этос (отражающийся в одежде, в интеллектуальных и художественных предпочтениях и так далее). Как любая мода, он легко узнаваем и ему легко подражать; он поддается типизации, что способствует его «тираживанию» в художественных произведениях и социальной жизни.
Аскетические практики не только связаны с питанием и с одеждой, но касаются всей телесной стороны человеческой жизни, включая половые отношения. У Розанова мы находим интересное сочетание размышлений о роли сексуального измерения человеческой жизни с аскетическим этосом современных ему революционеров – социал-демократов. Разбирая роман Толстого «Воскресение» и нащупывая в изображении одной из товарок ссыльной Катюши Масловой, политической заключенной из генеральской семьи, подспудные мотивы лесбиянства, Розанов подчеркивает своеобразное сочетание «монастырского» элемента (красота, но «совершенное отсутствие кокетства», невнимание к внешности), с одной стороны, и желания «обвить весь мир чем-то „кружевным“, роскошью, негою…» – с другой. Он приходит к выводу, что «нашу цивилизацию» невозможно «постигнуть без обращения внимания на вечную борьбу „полнобедренной“ Афродиты (и „Песни Песней“) с худощавою Ашерою <…>, которой „ничего не надо“, кроме кельи и ломтя хлеба, кроме „селедки“ наших социал-демократов»[42 - Розанов В. Муже-девы и их учение // Розанов В. Люди лунного света. Метафизика христианства. СПб.: Тип. Т-ва А. С. Суворина «Новое Время», 1913. С. 108–109.]. «Селедка» социал-демократов становится символом бесплодия их идей и политических стратегий. Дальше читаем: «См. у Степняка, в „Подпольной России“: вечно едят, на „конспиративных пирушках“, свою „селедку“, не догадываясь, до чего это показует их связь и с Ганимедом-Лесбосом, и с Ашерою-инокинею»[43 - Там же. С. 109.]. На самом же деле подобных аскетических «пирушек» в текстах С. М. Степняка-Кравчинского не так много. По-видимому, Розанов имеет в виду следующее место в книге «Подпольная Россия»:
Комната была полна народу. На простом деревянном столе стояло несколько бутылок пива и две тарелки: одна – с ветчиной, другая – с копченой рыбой. Значит, я попал кстати. Это была одна из маленьких пирушек, которые «нигилисты» позволяют себе изредка в виде отдыха от нервного напряжения, в котором они принуждены жить постоянно[44 - Степняк С. Подпольная Россия. Лондон: Изд?во фонда Вольной Русской Прессы, 1893. С. 46.].
Кажется, что на фоне всеобщего стереотипа революционного аскетизма эта сцена в памяти Розанова размножилась и превратилась в дурную бесконечность «вечного» поедания копченой рыбы на подпольных «пирушках». Аскеза и изобилие здесь оксюморонно переплетаются; скудная и однообразная пища оборачивается «пиром», а поверхностно аскетическому образу жизни подпольных революционеров сопутствует скрытое тяготение к сексуальному разврату и к эксцессам – причем настолько тайное, что даже сам Толстой, как полагает Розанов, не подозревал о присутствии этого мотива в своем романе[45 - Розанов В. Муже-девы и их учение. С. 107.].
Этос бескорыстной самоотверженной работы для общего блага становится образцом, по которому в советскую эпоху моделируется облик партийного работника – большевика. «Аскетическое» отношение к телесности, к окружающему миру остается преобладающей моделью в первые пореволюционные годы[46 - Ср.: Hoffman D. L. Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity, 1917–1941. Ithaca; London: Cornell University Press, 2003. Р. 119.]. Пока буржуй ест ананасы и жует рябчиков[47 - Маяковский В. В. «Ешь ананасы, рябчиков жуй…» <1917> // Маяковский В. В. Полн. собр. произведений: В 20 т. Т. 1: Стихотворения 1912–1923 / Ред. тома В. Н. Терехина. М.: Наука, 2013. С. 114.], большевик, как истинный «монах революции» (см. выше), довольствуется самой простой пищей и работает над возрастанием общего блага, что, разумеется, соотносится с реальной ситуацией недостатка продовольствия в первые пореволюционные годы. Но вскоре ситуация меняется. В сталинское время появляются картины богатства и изобилия советского хозяйства. В повести А. П. Платонова «Джан» девочка Ксеня, после того как главный герой Чагатаев перед отъездом в туркменскую пустыню купил ей ряд не совсем жизненно необходимых вещей («дорогие духи, замшевая сумка, какое-то пестрое покрывало»), самоуверенно заявляет: «Я вам тоже скоро буду давать подарки. Скоро наступит богатство!»[48 - Платонов А. П. Джан // Платонов А. П. Счастливая Москва: Роман, повесть, рассказы / Сост. Н. В. Корниенко. М.: Время, 2011. С. 125–126.]
Но этос аскетизма просуществует дальше. Интеллигенция и в советское время остается приверженной модели обесценивания материальных ценностей. В неофициальной культуре 1960?х и 1970?х годов намечается актуализация религиозных или философских основ аскетического образа жизни, но заодно и своего рода эстетизация аскетизма. В лианозовских бараках, в ленинградских крысиных подвалах[49 - Ср. описание Т. М. Горичевой обстановки в редакции журнала «37»: «Вся квартира была заложена этими листиками, и мы с Кривулиным их собирали потом. Все, кто приходил, видели эти странички разложенные, а по ним бегали крысы»(«Самый добрый, умный, открытый всем человек – это Кривулин…»: Интервью И. Кукуя с Т. Горичевой о Викторе Кривулине и журнале «Тридцать семь» // Полилог. 2011. № 4. С. 122).] художники, поэты и мыслители превращали советский быт в богемно окрашенную суб- и контркультуру – и это в период, когда в официальном дискурсе коммуналки и бараки декларируются признаками преодоленной эпохи нехватки жилья. С другой стороны, быт или, скорее, антибыт неофициальных художников совсем не исключает проявления жизнерадостного потребления. Но при этом отчетливо соблюдается некий антиобывательский habitus. Ключом к пониманию такого на первый взгляд противоречивого поведения является, как нам кажется, поведенческая модель «богемы». Парижские художники и поэты середины XIX века в своей жизненной практике также колебались «между роскошью и аскетизмом» (between indulgence and asceticism)[50 - Seigel J. Bohemian Paris: Culture, Politics, and the Boundaries of Bourgeois Life, 1830–1930. Baltimore; London: Johns Hopkins University Press, 1986. Р. 123.]. Кажется, что стили поведения и потребления, встречаемые в кругах «другой культуры», являются сложной смесью укорененных в истории русской культуры моделей и перенятых из западной культуры образцов.
Экономической базой подпольной богемной жизни часто были случайные работы. Сложился культурный миф поколения кочегаров, «дворников и сторожей»[51 - Ср. одноименную песню группы «Аквариум» в альбоме «Равноденствие» 1987 г. 14: Полный сборник текстов песен «Аквариума» и БГ / Сост.: О. Сагарева. М.: Experience, 1993. С. 266.], людей, пожертвовавших собственным благосостоянием для высших целей – осуществления особого стиля жизни и, что важнее, художественных замыслов. Видимо, реагируя на эти тенденции, А. А. Вознесенский в 1978 году вводит в обиход термин «люмпен-интеллигенция»[52 - Вознесенский А. А. Стихи из репертуара Г. Т. // Вознесенский А. А. Стихотворения и поэмы: В 2 т. СПб.: Пушкинский Дом; Вита Нова, 2015. Т. 2. С. 87.].
Примерно в то же время бывший представитель советской – не люмпен-интеллигенции, а скорее люмпен-богемы – сидит «полуголый» на балконе шестнадцатого этажа отеля «Винслоу» в Нью-Йорке и ест щи:
Щи с кислой капустой моя обычная пища, я ем их кастрюлю за кастрюлей, изо дня в день, и кроме щей почти ничего не ем. Ложка, которой я ем щи, – деревянная и привезена из России. Она разукрашена золотыми, алыми и черными цветами[53 - Лимонов Э. Это я – Эдичка // Лимонов Э. Собр. соч.: В 3 т. М.: Вагриус, 1998. Т. 2. С. 9.].
Перед нами – перформанс «русскости»: полуголый да «иногда вовсе голый человек» выставляет свое тело и процесс насыщения крайне однообразной, дешевой, но зато национально нагруженной пищей. Аскетизм традиционно связан с элементом перформанса[54 - Flood G. The Ascetic Self. Р. 4, 146.], даже самый погруженный в себя подвиг связан с традициями той или иной человеческой общности, он нацелен вовне, хочет быть видимым. Но аскетизм Эдички является перевернутым аскетизмом: обилие щей и бесстыдно выставленное перед «тысячью глаз клерков, секретарш и менеджеров»[55 - Лимонов Э. Это я – Эдичка. С. 9.] из соседних офисных комплексов тело обыгрывают и переписывают приметы традиционного аскетического поведения. Своим поведением нарцисс и панк Эдичка/Лимонов высмеивает рабочую этику американского капитализма, но вместе с тем отдаляется как можно дальше от морально-этических заветов русской интеллигенции.
Несколько лет спустя в России произойдет очередная революция, которую, хотя бы отчасти, можно определить как «потребительскую». Она положит конец многим явлениям и течениям, характерным для жизни русского общества, начиная с реформ Александра II. Наступает духовный и экономический кризис интеллигенции, ее этоса и ee форм поведения. На рубеже 1990–2000?х годов возникает своеобразный феномен гламурной интеллигенции, «глянца», как носителя просветительских идеалов и отчасти даже социальной ангажированности, которая уже не сочетается с пренебрежением материальными благами. Зато с возрождением религиозной жизни аскетические практики популяризируются. В меню ресторанов отмечаются постные продукты, в иллюстрированных журналах и на веб-порталах рекламируются диеты, обсуждаются вопросы питания и здорового образа жизни. Причем религиозные и профанные мотивации порой вступают в конкуренцию: вопросы вроде: «Как похудеть в пост?» – обсуждаются на многочисленных форумах российского интернета. Отсюда лишь маленький шаг к спорту и «фитнес-индустрии», к липосакции и пластической хирургии. Разнообразные техники дисциплинирования тела в эпоху неолиберализма, приспособление его к требованиям рынка (труда, любви…) с определенной точки зрения тоже могут оцениваться как своего рода аскетизм. Но, пожалуй, с тем же правом можно было бы утверждать и противоположное: упражнения, устремленные на оптимизацию физического облика, плохо сочетаются с нацеленной внутрь (и оттуда – вверх) мотивацией укорененных в религиозной жизни аскетических практик – с которыми они, однако, находятся в сложном отношении преемственности.
Но нельзя сказать, что интеллигентский этос «аскетического подвижничества» совсем исчез из русской действительности: он остается ориентиром в кругах активистов и правозащитников, он просвечивает в формах общения и поведения творческой интеллигенции. В своем воинствующе-революционном облике он пережил ренессанс в молодежной культуре начала 2000?х годов. Образцом здесь был, видимо, Э. В. Лимонов, бывший асоциал из отеля «Винслоу», который после возвращения в Россию в начале 1990?х годов культивировал аскетический habitus – не подпольной интеллигенции, а энкаведешника, с некоей примесью субкультуры и панковского стиля. Тот же Лимонов, между прочим, в своем памфлете «Другая Россия», вполне в духе М. Вебера, утверждает, что весь ненавистный ему капитализм вырос «из пуританского аскетизма»[56 - Лимонов Э. Другая Россия. Революция продолжается! М.: Яуза, 2004. С. 108, 123. Ср.: «<…> аскеты-экстремисты создали капитализм» (Там же. С. 124).]. Не следует, разумеется, преувеличивать значение Лимонова ни как писателя, ни (тем более) как политика. Его случай скорее является наглядным доказательством неослабевающей продуктивности семантического напряжения между полюсами аскезы и изобилия в социальной и культурной действительности России – а также примером того, что анализ взаимного воздействия этих двух тенденций позволяет открывать новые горизонты для исследования истории русской культуры и ее концептуально-теоретического осмысления.
О ТИПАХ АСКЕЗЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Михаил Эпштейн
Эта статья об аскезе сама выдержана в аскетическом жанре тезисов, являющих не плоть, а костяк мысли. Иначе вряд ли получилось бы вместить в небольшой формат множество граней этой темы, столь важной для самосознания русской культуры. Каждый из типов аскезы, конечно, заслуживает более подробного исследования, что и осуществлено в ряде других статей этого сборника.
Введение. Бедность и аскеза
1. В названии сборника «Изобилие и аскеза в русской литературе» есть скрытое противоречие. Казалось бы, «изобилие» и «аскеза» – точные антонимы, но это не так. Антоним «изобилия» – скудость, бедность, нищета, тогда как аскеза – это стремление к бедности, путь сознательного воздержания, самоограничения, самообуздания.
С другой стороны, антоним понятия «аскезы» – это не изобилие само по себе, а стяжание или стяжательство, обогащение, приобретательство, накопительство, то есть сознательное и целенаправленное стремление к изобилию.
2. Основная проблема аскезы в России: как отличить ее от бедности? Бедность – это факт, а аскеза – интенция, то есть стремление к бедности, добровольное самоограничение. Собственно, такой смысл предполагается самой этимологией слова: др.-греч. ??????? «упражняющийся, атлет», от ????? «обрабатывать, упражняться». Аскеза – это работа над собой, духовное упражнение по овладению своей телесной жизнью, искусство внешнего воздержания с целью внутреннего усиления. Аскеты – это атлеты духа[57 - Обстоятельные разъяснения по поводу понятия «аскеза» и его эволюции в христианском богословии можно найти в самом систематическом исследовании этой темы на русском языке: Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению. СПб.: Тип. В. Ф. Киршбаума, 1907 (переиздания – М., 1996, Киев, 2006). Кн. 1. Критический обзор важнейшей литературы вопроса. Книга 2. Опыт систематического раскрытия вопроса.].
Аскеза понимается в этой статье в широком смысле, далеко не только богословском, святоотческом, – как дисциплина сознательного воздержания от определенных аспектов материальной или культурной жизни с целью духовного возрастания, творческого воплощения.
3. Значительная часть того, что понимается под аскезой в России, – это псевдоаскеза, то есть просто бедность, недоразвитость, запущенность, а вовсе не сознательное воздержание. Русская деревня бедна, а не аскетична. Граф Л. Н. Толстой аскетичен, а мужик просто беден. Парадокс русской аскетики: выдать нужду за добродетель, бедность фактическую за интенцию бедности, самоограничения.
4. Проблематика аскетизма связана с глубинным свойством русского мира – с онтологией бедности. Это не экономическая категория: нехватка имущества – а нехватка самого бытия, скудость, тусклость, обусловленная как суровостью северного климата, так и плоским однообразием равнины. В лирическом образе России у Н. В. Гоголя в «Мертвых душах» (1842) преобладает именно мотив бедной, слабой бытийности, недореальности: «Русь! Русь! <…> бедно, разбросанно и неприютно в тебе <…>. Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора»[58 - Гоголь Н. В. Мертвые души I // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. 6. С. 220.].
5. Для понимания феномена аскезы и онтологии бедности полезно понятие гипореальности, которое вводится в ряде моих работ.
Гипореальность (hyporeality; от греч. hypo, под, ниже, меньше) – тип реальности со слабо выраженными признаками ее отличия от нереальности, ирреальности. Характерные свойства гипореальности: размытость объектов, слабо отделенных от окружающей среды; размытость субъектов, слабо выделенных из массы; аморфность цивилизации и ее артефактов, не выделенных ясно из природы или быстро ветшающих и готовых к распаду[59 - Эпштейн М. Н. Проективный словарь гуманитарных наук. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 342.].
Гипореальный мир не только обладает определенными энтропийными свойствами, но и внешне узнаваем и обычно характеризуется такими признаками, как «бедный, неброский, неяркий, неприметный, неприютный, пустынный, рассеянный, заброшенный».
6. Далее я попытаюсь очертить основные типы аскезы в русской литературе, ограничиваясь ссылкой на их основных представителей и приводя характерные примеры и цитаты. Эти условные типы (всего сорок) разделяются на восемь общих категорий, согласно предложенной классификации, которая, конечно, не является идеальной и единственно возможной.
Типы аскезы
I. Аскетичность бытия как исходное состояние природы, общества, человека
1. Аскетичность самой природы, изначальных условий жизни. Бедность, призрачность, истаяние бытия. А. С. Пушкин в стихотворении «Румяный критик мой, насмешник толстопузый…» (1830), в ответ на бравурные, романтически приподнятые запросы критика, передает истощенность, изможденность сельского бытия:
Коллектив авторов
Понятие аскезы, то есть стремления к воздержанию и отречению от земных благ, – ключевое для самосознания русской культуры. Оно связано с темой бедности, под которой понимается не только нужда, но и скудость окружающей среды, аскетичность самой природы. Такие мыслители, как Н. Бердяев, М. Вебер и Н. Элиас, описывали аскезу как технику самоограничения и самодисциплины и, следовательно, как ключевой экономический и цивилизационный фактор. Однако если обратиться к Библии, то евангельским понятием оказывается изобилие, а вовсе не аскеза. Его образцом стало чудо умножения хлебов, достигнутое без каких-либо аскетических подвигов со стороны присутствующих людей. В таком случае, действительно ли пара изобилие/аскеза антонимична? Как моделируется напряжение между этими двумя полюсами в русской литературе? Какое отражение идея трансформации крайней бедности в избыточное богатство нашла в советской культуре? В сборник вошли статьи Ж.-Ф. Жаккара, К. Ичин, О. А. Ханзена-Лёве и других исследователей, посвященные этой теме в русской литературе от средневековья до современности.
Изобилие и аскеза в русской литературе Столкновения, переходы, совпадения
ИЗОБИЛИЕ И АСКЕЗА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ИДЕИ И ПРАКТИКИ (ПРИБЛИЖЕНИЕ К ТЕМЕ)
Йенс Херльт, Кристиан Цендер
Понятийная пара «изобилие и аскеза» вписывается в ряд оппозиций разных гуманитарных и социальных дисциплин: антропологии и религиоведения, если думать о «празднике и голоде», «обжорстве и посте»; экономики, социологии, культурологии, если взять ее как пару «благосостояние и нищета» или «роскошь и скудость»; наконец, риторики и эстетики, если перевести ее на «велеречивость и лаконичность», «максимализм и минимализм» и так далее[1 - За последние годы можно отметить множество таких публикаций: Macho T. Neue Askese? Zur Frage nach der Aktualit?t des Verzichts // Merkur. 1994. 54 (7); Egger I. Di?tetik und Askese. Zur Dialektik der Aufkl?rung in Goethes Romanen. M?nchen: Fink, 2001; Goller M., Witte G. (Hrsg.). Minimalismus. Zwischen Leere und Exze? // Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 51. Wien: Gesellschaft zur F?rderung slawistischer Studien, 2001; Largier N. Die Kunst des Begehrens. Dekadenz, Sinnlichkeit und Askese. M?nchen: C. H. Beck, 2007; Gronau B., Lagaay A. (Hrsg.). ?konomien der Zur?ckhaltung. Kulturelles Handeln zwischen Askese und Restriktion. Bielefeld: Transcript, 2009; Koller E., Schr?dl B., Schwantner A. (Hrsg.). Exzess. Vom ?berschuss in der Religion, Kunst und Philosophie. Bielefeld: Transcript, 2009; Ryklin M. Russische Exzesse. Metamorphosen des Luxus – von den Zaren zu den Oligarchen // Lettre International. 2013. 100; Tauschek M., Grewe M. (Hrsg.). Knappheit, Mangel, ?berfluss. Kulturwissenschaftliche Positionen zum Umgang mit begrenzten Ressourcen. Frankfurt a. M.: Campus, 2015; Posnock R. Renunciation: Acts of Abandonment by Writers, Philosophers and Artists. Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press, 2016; Aselmeyer N., Settele V. (Hrsg.). Geschichte des Nicht-Essens. Verzicht, Vermeidung und Verweigerung in der Moderne. Berlin: de Gruyter Oldenbourg, 2018.]. «Был голод, было и изобилие»[2 - Ремизов А. Огненная Россия. Ревель: Библиофилъ, 1921. С. 9.], – пишет А. М. Ремизов в начале «Огненной России» и открывает на первой же странице произведения весь этот диапазон, ведущий от этнологии через экономику к (мета-)поэтике.
Между тем пара «изобилие и аскеза» очевидно функционирует несколько иначе. Это пара неуравновешенная, несимметричная: изобилие ведь обозначает состояние (отчасти и событие) чрезмерности, тогда как аскеза обозначает технику, а именно способ духовно упражняться (др.-гр. ??????? – «упражнение») с помощью телесных практик. В конце концов приходится оговориться, что эта пара, строго говоря, не является оппозицией. Более того, в ней скрыта некая циркулярность; в чем же может заключаться цель аскезы, если не в изобилии? На что может надеяться тот, кто умышленно «умирает для жизни», кроме самой жизни, разумеется в каком-то «высшем» смысле? Если обратиться к Библии, то евангельским понятием оказывается изобилие (гр. ??????????), а вовсе не аскеза[3 - Это, конечно, не значит, что в Библии нет аскетических мотивов. См.: Asceticism and the New Testament / Ed. Leif E. Vaage, Vincent L. Wimbush. New York; London: Routledge, 1999.]. «Закон изобилия»[4 - Ratzinger J. Einf?hrung in das Christentum. Vorlesungen ?ber das Apostolische Glaubensbekenntnis. Mit einem neuen einleitenden Essay. 6. Auflage. M?nchen: K?sel, 2005. S. 241–246.], по выражению одного из современных теологов, насквозь пронизывает Новый Завет. Его образцом стало чудо умножения хлебов, достигнутое без каких-либо аскетических подвигов со стороны присутствующих людей[5 - См.: Ин. 6:10–14; Мф. 15:32–39; Мк. 8:1–10.]. Изобилие в данном случае имеет аллегорически-духовный смысл, означая причастность к небесному «пиру». Тем не менее нельзя забывать о конкретной «материальности» этих чудес. Можно привлечь и пример из агиографии. В житии Феодосия Печерского описывается случай: однажды в монастыре закончилась еда. Подвижник начал молиться, и тут же в монастырь привезли «три телеги съестным: хлебом и сыром, и рыбой, чечевицей и пшеном, и медом к тому же»[6 - «<…> три возы брашьна: хл?бъ, и сыръ, и рыбъ, сочиво же и пьшено, еще же и медъ, <…>» (Житие Феодосия Печерского // Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН, http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4872).]. Таким образом, плод подвижничества – изобилие пищи. Подобная плодотворность аскезы, однако, не всегда себя проявляет. Так, житие Исаакия Печерского, написанное в том же XI веке, показывает опасность аскезы. Исаакию в его аскетической гордыне кажется, что он уже причастен божественным откровениям, и, как следствие, он полагает, что способен различать духов. Это приводит к внутренней смерти Исаакия, которая имеет вполне физическое проявление: ему приходится заново учиться ходить и говорить. Впоследствии Исаакий не перестает быть аскетом, но кардинально меняется характер его подвижничества. Ему приходится перенаправлять аскезу от себя к другим. Характерно, что он начинает странствовать и юродствовать[7 - См.: Cyzevs’kyj D. Studien zur russischen Hagiographie. II. Erz?hlung vom hl. Isaakij // Wiener Slavistisches Jahrbuch. 1952. 2.]. Путь Касатского, о. Сергия из знаменитого рассказа Л. Н. Толстого, аналогичен и в этом смысле сугубо житийный[8 - См.: Morris M. Saints and Revolutionaries: The Ascetic Hero in Russian Literature. Albany, NY: State University of New York Press, 1993. P. 117–120. О ренессансе аскезы в XIX и раннем XX в. см.: Michelson P. L. Beyond the Monastery Walls: The Ascetic Revolution in Russian Orthodox Thought, 1814–1914. Madison, WI; London: The University of Wisconsin Press, 2017.].
Н. А. Бердяев, усиливая старый скепсис по отношению к чисто духовным подвигам, определял аскезу как то, чего человек может достичь от себя[9 - Бердяев Н. A. Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности <1937> // Бердяев Н. А. Философия свободного духа. М.: Республика, 1994. С. 399–412 («Смысл аскезы»).]. Опять же это никоим образом не противоречило традиции. Так, отец-пустынник Евагрий Понтийский (IV век) понимал аскезу лишь как «практическую» ступень (????????), то есть «метод по очищению души от страстей»[10 - «Praktikos», гл. 78; цит. по: Bunge G. «Aktion» und «Kontemplation» // Bunge G. Irdene Gef??e. Die Praxis des pers?nlichen Gebets nach der ?berlieferung der heiligen V?ter. W?rzburg: Der Christliche Osten, 1999. S. 34.] в пути к обожению. Более или менее одновременно с Бердяевым М. Вебер и Н. Элиас уже на социологическом языке описывали аскезу: как технику самоограничения и самодисциплины и, следовательно, как ключевой экономический и цивилизационный фактор[11 - См.: Hahn A., Hoffmann M. Moderne und Askese. ?ber ihr Verh?ltnis nach Max Weber und Norbert Elias // Das Mittelalter. 2010. 15 (1).]. Иное осмысление аскезы в начале XX века в литературной эссеистике – идеал «нежных» аскетов (по выражению В. В. Розанова[12 - Розанов В. В. Смысл аскетизма <1899> // Розанов В. Религия и культура. М.: АСТ; Фолио, 2001. С. 113.]). Самым известным представителем этого типа, конечно, стал еще в XIX веке старец Зосима Ф. М. Достоевского. Его антипод отец Ферапонт – резкий и неспособный к общению. В противоположность аскетам «с зажатыми зубами» вроде Ферапонта, пишет Розанов, «<нежные аскеты>, совлекши с себя плоть, любят однако плоть и плотское; не убегают в пустыню, а бегут к людям; а если и удаляются в пустыню – ласкают львов, вынимают занозы из медведя, не могут оторвать взгляда от звезд»[13 - Там же. Курсив наш. – Й. Х., К. Ц.]. Аскеза в этой «теплой» перспективе не может сама себя определять, она не самодостаточная. Она интересным образом нуждается в изобилии, в изобилии, телесно выражающемся. Это, безусловно, не только русский модернистско-религиозный мотив. Так, после посещения Ассизи в 1937 году С. Вейль написала: «Этот святой Франциск умел выбирать самые роскошные места, чтобы жить в них бедно; в нем не было ничего от аскета»[14 - Письмо к Жану Постернаку от мая 1937: «Ce saint Fran?ois savait choisir les lieux les plus dеlicieux pour y vivre pauvrement; il n’avait rien d’un asc?te» (Weil S. Oeuvres / Edition еtablie sous la direction de Florence de Lussy. Paris: Quarto Gallimard, 2011. P. 646).]. Аскеза оказывается под всеобщим подозрением не только из?за Ницше и его дезавуирующей генеалогии «аскетических идеалов»[15 - См.: Nietzsche F. Zur Genealogie der Moral (1887; «Dritte Abhandlung: Was bedeuten asketische Ideale?»).], но часто и со стороны самой теологии. А. Д. Шмеман в дневниках пишет (по поводу чтения «Лекции по литературе» В. В. Набокова):
<…> ресторанное искусство <…> не требует «оправдания», отнесения себя к чему-то «высшему» (разве что с аскетической точки зрения, с которой требует оно не оправдания, а осуждения). А литература, слова и ими воплощаемое видение мира? Мне ясно теперь, что моя вечная любовь к Набокову, вернее – к чтению Набокова, – того же порядка, что любовь к хорошему ужину[16 - Шмеман А. Дневники: 1973–1983. 3?е изд. М.: Русский путь, 2009. С. 548 (20 ноября 1980; курсив в оригинале).].
«Вкусное» не нуждается в оправдании, тогда как аскеза в силу своей инструментальности оторвана от подобной очевидности. Но, спрашивает Шмеман, не следует ли «кулинарный подход к литературе»[17 - Там же. Курсив в оригинале.] определенному компенсационному механизму? Он продолжает:
То, что так сильно мучило Толстого, – не мучит Набокова. Или, может быть, сама его ненависть к истолкованиям и оценкам литературы по отношению не к «кухне» и «ресторану», а вот к тому, ненавистному ему «свыше» – и объясняется таким «подавленным» мучением?[18 - Там же.]
То, что Шмеман допускает в виде вопроса обратную логику, то есть осуждение «кухни» с точки зрения «высшего», указывает на возможность переходов, конкретнее – такой модели, по которой аскеза и изобилие не осуждают, но оправдывают друг друга. Даже в такой, казалось бы, абсолютно равнодушной и чисто материальной жизни, как у Шерамура, «чрева-ради юродивого» из рассказа Н. С. Лескова, есть момент, когда он перестает «жрать» и фактически начинает поститься, с тем чтобы в конце устроить апофеоз чрезмерности: «сотворить какую-то вселенскую жратву» с нищими[19 - Лесков Н. С. Шерамур (чрева-ради юродивый) // Лесков Н. С. Собр. соч: В 11 т. / Ред. В. Г. Базанов, Б. Я. Бухштаб, А. И. Груздев, С. А. Рейсер, Б. М. Эйхенбаум. М.: Худож. лит., 1956–1958. Т. 6. С. 294.].
Подобные примеры остаются так или иначе в религиозных рамках; по крайней мере, они сохраняют связь с подвижничеством. Тем важнее остановиться на вопросе, насколько понятие аскезы можно и стоит универсализировать. Основополагающей для второй (после Ницше, Вебера, Элиаса, Бердяева и др.) трансформации понятия оказался концепт М. Фуко askesis, развитый им на материале позднеантичной философии[20 - Foucault M. Le souci de soi // Foucault M. Histoire de la sexualitе. T. 3. Paris: Gallimard, 1984. См.: McGushin Е. F. Foucault’s Askesis: An Introduction to the Philosophical Life. Evanston, IL: Northwestern University Press, 2007.]. Сильную тенденцию к обобщению аскезы можно наблюдать в англоязычной гуманитарной науке последних десятилетий. В качестве репрезентативных примеров следует назвать такие книги, как «Аскетический императив в культуре и критике»[21 - Harpham G. G. The Ascetic Imperative in Culture and Criticism. Chicago: Chicago University Press, 1987.], «Святые нового искусства: Аскетический идеал в современной живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, танцах, литературе и философии»[22 - Riley II Ch. A. The Saints of Modern Art: The Ascetic Ideal in Contemporary Painting, Sculpture, Architecture, Music, Dance, Literature and Philosophy. Hanover, NH: University Press of New England, 1998.], «Этика через литературу: Аскетическое и эстетическое чтение в западной культуре»[23 - Stock B. Ethics through Literature: Ascetic and Aesthetic Reading in Western Culture. Lebanon, NH: University Press of New England, 2008.] или же «Святая плоть: Аскеза в религии, литературе, искусстве и культуре»[24 - Jasper D. The Sacred Body: Asceticism in Religion, Literature, Art, and Culture. Waco, Texas: Baylor University Press, 2009.]. Расширение безусловно оперативно, парадигма продуктивна; сомневаться в этом при взгляде на критическую литературу не приходится. Тем не менее не следует упускать из виду секуляризационный нарратив, более или менее явно лежащий в основе этого расширения: секуляризация, даже когда она происходит по схеме «узурпации» или открыто антирелигиозно мотивирована, неизбежно приводит к часто недооцененной логической зависимости от религиозных традиций. Это наблюдение побудило немецкого философа и историка идей Х. Блюменберга разработать модель «легитимности», а именно «самоутверждения» Нового времени[25 - См.: Blumenberg H. S?kularisierung und Selbstbehauptung. Erweiterte und ?berarbeitete Neuausgabe von «Die Legitimit?t der Neuzeit», erster und zweiter Teil. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1974.]. Здесь не место входить в сложные долголетние дебаты о теории секуляризации. Тем не менее необходимо иметь в виду вопрос: существует ли полностью нейтральное использование «аскезы»? Обратимся к известному в литературоведении примеру. В эссе «Страх влияния» (The Anxiety of Influence, 1973) Х. Блум писал о своеобразной аскезе романтического поэта: «Поэтическая сублимация – это askesis, способ очищения, предполагающий состояние одиночества в качестве своей непосредственной цели. <…> Сильный поэт в своем демоническом восхождении способен направить свою энергию на себя»[26 - «Poetic sublimation is an askesis, a way of purgation intending a state of solitude as its proximate goal. <…> the strong poet in his daemonic elevation is empowered to turn his energy upon himself» (Bloom H. Askesis, or Purgation and Solipsism // Bloom H. The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry. New York: Oxford University Press, 1997. Р. 115–116. Курсив наш. – Й. Х., К. Ц.).]. Аскеза у Блума – метафора борьбы романтического поэта с традицией, перегружающей его. В этой связи следует, однако, подчеркнуть исключительную важность традиции для любой аскетической практики и ее конфликт со стремлением к автономности. На этот аспект обратил внимание Г. Флуд:
Аскетическое «я» управляется контролем, <…> контролем, управляющимся традицией <…>. Этот вид специфически традиционного контроля, направление желания приемлемым для традиции образом, стал предметом критики как с точки зрения кантианского просвещения, которое продвигает индивидуализм и автономность с помощью рационального самоконтроля, противостоящего всем формам гетерономности, так и с дионисийской точки зрения Ницше, который критикует аскетическое «я» как слабость[27 - «The ascetic self is governed by control, <…> a control governed by tradition <…>. This kind of tradition-specific control, the channelling of desire in ways acceptable to tradition, has been the subject of criticism both from the perspective of a Kantian Enlightenment which promotes individualism and autonomy in a rational self-control that resists all forms of heteronomy, and from the Dionysian perspective of a Nietzsche who criticises the ascetic self as weakness» (Flood G. The Ascetic Self: Subjectivity, Memory and Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 237. Курсив наш. – Й. Х., К. Ц.).].
Таким образом, пределом гибкости понятия аскезы является гетерономность. В этой перспективе черта проходила бы не столько между «антимирским» и «мирским» типами аскезы, сколько между отсылкой к традиции и установкой на автономность. Можно было бы возразить, что это лишь разница в акценте, скорее градуальная, чем принципиальная. Тем не менее она непосредственно влияет на интерпретацию текстов. Ярким примером могут служить разные интерпретации «Доктора Живаго» Б. Л. Пастернака, а именно поведения антагонистов Юрия Живаго и Павла Антипова. В рецепции романа как «аскет» обычно воспринимался Антипов (впоследствии Стрельников)[28 - См. хотя бы: Masing-Delic I. Capitalist Bread and Socialist Spectacle: The Janus Face of «Rome» in Pasternak’s Doctor Zhivago // Boris Pasternak and His Times: Selected Papers from the Second International Symposium on Pasternak / Ed. by Lazar Fleishman. Berkeley, CA: Berkeley Slavic Specialties, 1989. Р. 372–373.]. Он – «монах» революции, спасающий мир, который он презирает. Живаго, с другой стороны, не собирается переделать мир, он живет восприимчивостью, он во многом пассивно «получает» мир – как лучи вечернего света. Никакого «аскетизма» в нем нет, более того, у него в целом скорее распущенный образ жизни. Недавно М. Келли сменила перспективу и описала поэтическую работу Юрия Живаго (с литургическими текстами) как аскетическую. Келли пишет об аскезе как модусе «трансдисфигурации» культуры с помощью свободного обращения к традиции, то есть церковным канонам, которые становятся «Стихотворениями Юрия Живаго»[29 - Kelly M. M. Cultural Transformation as Transdisfiguration in Pasternak’s Doctor Zhivago // Kelly M. M. Unorthodox Beauty: Russian Modernism and Its Religious Aesthetic. Evanston, IL: Northwestern University Press, 2016. Р. 174.]. Несомненно, обе перспективы – Антипов как революционный аскет, с одной стороны, Живаго как культуротворческий поэт-аскет, заново изобретающий традиции, с другой, – обоснованны. Важно только видеть напряжение между ними. При этом нельзя забывать, что у русской интеллигенции с позднего XIX века присутствовали данные для обоих пониманий. В этом смысле представляется весьма последовательным, что в романе о перипетиях русской интеллигенции сосуществуют непримиримые версии аскетизма.
В духовной культуре России первых пореформенных лет произошли фундаментальные изменения. В атмосфере повсеместного социального и политического брожения формировался особый тип поведения, особый этос подвижничества, восходящий по своим внешним параметрам – отказ от материальных благ и телесных удовольствий, самопожертвование для высшей цели – к образцу христианских аскетических практик, но фундаментально переиначивая их аполитичную, исключительно религиозную ориентацию. Так, литературный критик радикально народнической ориентации П. Н. Ткачев отметил еще в 1868 году, что «люди будущего» – так он называет людей, жертвующих собственными интересами ради всеобщего блага – часто «подвергаются упрекам в аскетизме, в отчуждении от той жизни, которая не укладывается в рамки их идеала»[30 - Ткачев П. Н. Люди будущего и герои мещанства. «Один в поле – не воин». Роман Ф. Шпильгагена. 1868 г. «Феликс-Гольт. Радикал». Роман Дж. Эллиот. 1867 г. «Леди Меркем». Роман Ж. Занда <sic!>. «Возмутительный брак». Роман Андре Лео. 1867 г. <рец. в журнале «Дело». 1868. № 4–5> // Ткачев П. Н. Избранные сочинения на социально-политические темы в четырех томах / Ред. Б. П. Козьмин. М.: Изд-во Политкаторжан, 1932. T. 1. С. 179.]. Однако говорить об «аскетизме» согласно Ткачеву было бы заблуждением:
<…> между новыми людьми и средневековыми аскетами нет решительно ничего общего; это именно потому, что у последних отвлеченное правило, отвлеченная идея ни мало не гармонирует с их природою <…>; напротив, у первых, стремление к осуществлению их идеала составляет самую сильную, неодолимую, так сказать, органическую потребность их природы[31 - Там же. С. 178.].
Несмотря на подобного рода возражения, понятие «аскетизм» (и его производные) закрепилось за приверженцами радикального народничества. Этика «аскетического самоограничения и самопожертвования» так или иначе стала преобладающей моделью не только среди представителей народничества и радикальных активистов, но и вообще в кругах социально сознательной интеллигенции[32 - Франк С. Л. Этика нигилизма // Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. М.: Типография В. М. Саблина, 1909. С. 154.]. На это обращали внимание еще авторы сборника «Вехи» (1909)[33 - См. о трансформациях дискурса об «аскетизме» в (религиозной) интеллигенции на рубеже XIX и XX веков: Coates R. Feuerbach, Kant, Dostoevskii: The Evolution of «Heroism» and «Asceticism» in Bulgakov’s Work to 1909 // Landmarks Revisited: The Vekhi Symposium 100 Years On / Ed. by R. Aizlewood and R. Coates. Boston: Academic Studies Press, 2013. P. 297–304 (гл. «Asceticism»).]. П. Б. Струве писал об «аскетизме и подвижничестве интеллигенции, полагавшей свои силы на служение народу»[34 - Струве П. Б. Интеллигенция и революция // Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. С. 140.]. С. Н. Булгаков, в свою очередь, с социально-исторической перспективы выявил корни поведенческого уклада ангажированной интеллигенции:
<…> некоторый пуританизм, ригористические нравы, своеобразный аскетизм, вообще строгость личной жизни; такие, например, вожди русской интеллигенции, как Добролюбов и Чернышевский (оба семинаристы, воспитанные в религиозных семьях духовных лиц), сохраняют почти нетронутым свой прежний нравственный облик[35 - Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество // Там же. С. 29.].
Эти же качества потом «просвечивают в духовном облике лучших и крупнейших деятелей русской революции»[36 - Там же.].
Всего лишь три года спустя революционер Л. Д. Троцкий охарактеризирует «старый интеллигентский аскетизм» как пройденный этап: «Всем осточертел старый интеллигентский аскетизм, – захотелось чистого белья и ванной комнаты при квартире»[37 - Троцкий Л. Д. Об интеллигенции // Троцкий Л. Д. Сочинения. Т. 20. Сер. 6. М.; Л.: ГИЗ, 1926. С. 328 (впервые: Киевская Мысль. 1912. 4 марта. № 64; 12 марта. № 72).]. Вместе с интеллигентским аскетизмом пришла к концу, по Троцкому, и сама русская интеллигенция. После провала революции 1905 года, под знаком правящей в журналах и салонах всеобщей «веховщины», она потеряла контакт с единственно возможным действующим субъектом исторического процесса – пролетариатом. Однако поведенческая модель разночинной интеллигенции просуществует далее; в определенной мере она служит прообразом фигуры борца-большевика. Известно, что облик и нрав В. И. Ленина у многих современников сочетались с аскетическими свойствами[38 - См.: Mazlish B. The Revolutionary Ascetic: Evolution of a Political Type. London; New York: Routledge, 2017.]. Сам Троцкий внес свой вклад в создание соответствующей традиции, написав о «могучем аскетизме» Ленина[39 - Троцкий Л. Д. Национальное в Ленине // Троцкий Л. Д. О Ленине. М., 2015. C. 112 (впервые: Правда. 1920. 23 апр. № 86).], а М. Горький в вышедшем вскоре после смерти вождя очерке «В. И. Ленин» упоминал о наличии в нем «нередко<го> в России скромно<го>, аскетическо<го> подвижничеств<а> честного русского интеллигента-революционера», доводя аналогию до знаменитых «рахметовских гвоздей», – то есть он вписывает Ленина в ту самую традицию, от которой так эмфатически отталкивается Троцкий[40 - Горький М. В. И. Ленин // Горький М. Полн. собр. соч.: В 25 т. Т. 20: Рассказы, очерки, воспоминания. 1924–1935 / Ред. тома: Н. Н. Жегалов. М.: Наука, 1968–1976. Т. 20. С. 7, 39. Не случайно несколько месяцев спустя Троцкий выступает против очерка Горького в статье «„Верное и фальшивое о Ленине“: Мысли по поводу горьковской характеристики Ленина», приводя, между прочим, выше цитированные строки в качестве доказательства фальшивого, по его мнению, взгляда Горького на Ленина (Известия. 1924. 7 окт. № 229).].
При этом не следует забывать, что в подчеркнутом «аскетизме» нигилистов 1860?х годов и последующих десятилетий выступает и своеобразная эстетизация, на что указала К. Верховен (C. Verhoeven), опираясь на исследования И. А. Паперно[41 - Verhoeven C. The Odd Man Karakozov: Imperial Russia, Modernity, and the Birth of Terrorism. Ithaca; London: Cornell University Press. Р. 114–120; Paperno I. Chernyshevsky and the Age of Realism: A Study in the Semiotics of Behavior. Stanford: Stanford University Press, 1988.]. Разумеется, что сегодня представляется невозможным судить об аутентичности убеждений подвижников народовольческих идей; мы можем только отметить, что в соответствующих кругах – или, скорее, в исторических свидетельствах об этих кругах – и в сложившемся образе «интеллигента-разночинца» или «нигилиста» преобладали, так сказать, внешние маркеры аскетического поведения. Возможные различия между внешними манифестациями и внутренними убеждениями аскетических подвижников выпадают из нашего методологического поля зрения. Это, конечно, является банальным утверждением, если бы подозрение о несоответствии внешнего и внутреннего планов не ставило под сомнение аксиологический фундамент самой аскетической установки с ее пренебрежением по отношению к внешней стороне человеческого существования. «Аскетический стиль», образовавшийся в последнией трети XIX века, – не что иное, как особый склад поведения и особый этос (отражающийся в одежде, в интеллектуальных и художественных предпочтениях и так далее). Как любая мода, он легко узнаваем и ему легко подражать; он поддается типизации, что способствует его «тираживанию» в художественных произведениях и социальной жизни.
Аскетические практики не только связаны с питанием и с одеждой, но касаются всей телесной стороны человеческой жизни, включая половые отношения. У Розанова мы находим интересное сочетание размышлений о роли сексуального измерения человеческой жизни с аскетическим этосом современных ему революционеров – социал-демократов. Разбирая роман Толстого «Воскресение» и нащупывая в изображении одной из товарок ссыльной Катюши Масловой, политической заключенной из генеральской семьи, подспудные мотивы лесбиянства, Розанов подчеркивает своеобразное сочетание «монастырского» элемента (красота, но «совершенное отсутствие кокетства», невнимание к внешности), с одной стороны, и желания «обвить весь мир чем-то „кружевным“, роскошью, негою…» – с другой. Он приходит к выводу, что «нашу цивилизацию» невозможно «постигнуть без обращения внимания на вечную борьбу „полнобедренной“ Афродиты (и „Песни Песней“) с худощавою Ашерою <…>, которой „ничего не надо“, кроме кельи и ломтя хлеба, кроме „селедки“ наших социал-демократов»[42 - Розанов В. Муже-девы и их учение // Розанов В. Люди лунного света. Метафизика христианства. СПб.: Тип. Т-ва А. С. Суворина «Новое Время», 1913. С. 108–109.]. «Селедка» социал-демократов становится символом бесплодия их идей и политических стратегий. Дальше читаем: «См. у Степняка, в „Подпольной России“: вечно едят, на „конспиративных пирушках“, свою „селедку“, не догадываясь, до чего это показует их связь и с Ганимедом-Лесбосом, и с Ашерою-инокинею»[43 - Там же. С. 109.]. На самом же деле подобных аскетических «пирушек» в текстах С. М. Степняка-Кравчинского не так много. По-видимому, Розанов имеет в виду следующее место в книге «Подпольная Россия»:
Комната была полна народу. На простом деревянном столе стояло несколько бутылок пива и две тарелки: одна – с ветчиной, другая – с копченой рыбой. Значит, я попал кстати. Это была одна из маленьких пирушек, которые «нигилисты» позволяют себе изредка в виде отдыха от нервного напряжения, в котором они принуждены жить постоянно[44 - Степняк С. Подпольная Россия. Лондон: Изд?во фонда Вольной Русской Прессы, 1893. С. 46.].
Кажется, что на фоне всеобщего стереотипа революционного аскетизма эта сцена в памяти Розанова размножилась и превратилась в дурную бесконечность «вечного» поедания копченой рыбы на подпольных «пирушках». Аскеза и изобилие здесь оксюморонно переплетаются; скудная и однообразная пища оборачивается «пиром», а поверхностно аскетическому образу жизни подпольных революционеров сопутствует скрытое тяготение к сексуальному разврату и к эксцессам – причем настолько тайное, что даже сам Толстой, как полагает Розанов, не подозревал о присутствии этого мотива в своем романе[45 - Розанов В. Муже-девы и их учение. С. 107.].
Этос бескорыстной самоотверженной работы для общего блага становится образцом, по которому в советскую эпоху моделируется облик партийного работника – большевика. «Аскетическое» отношение к телесности, к окружающему миру остается преобладающей моделью в первые пореволюционные годы[46 - Ср.: Hoffman D. L. Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity, 1917–1941. Ithaca; London: Cornell University Press, 2003. Р. 119.]. Пока буржуй ест ананасы и жует рябчиков[47 - Маяковский В. В. «Ешь ананасы, рябчиков жуй…» <1917> // Маяковский В. В. Полн. собр. произведений: В 20 т. Т. 1: Стихотворения 1912–1923 / Ред. тома В. Н. Терехина. М.: Наука, 2013. С. 114.], большевик, как истинный «монах революции» (см. выше), довольствуется самой простой пищей и работает над возрастанием общего блага, что, разумеется, соотносится с реальной ситуацией недостатка продовольствия в первые пореволюционные годы. Но вскоре ситуация меняется. В сталинское время появляются картины богатства и изобилия советского хозяйства. В повести А. П. Платонова «Джан» девочка Ксеня, после того как главный герой Чагатаев перед отъездом в туркменскую пустыню купил ей ряд не совсем жизненно необходимых вещей («дорогие духи, замшевая сумка, какое-то пестрое покрывало»), самоуверенно заявляет: «Я вам тоже скоро буду давать подарки. Скоро наступит богатство!»[48 - Платонов А. П. Джан // Платонов А. П. Счастливая Москва: Роман, повесть, рассказы / Сост. Н. В. Корниенко. М.: Время, 2011. С. 125–126.]
Но этос аскетизма просуществует дальше. Интеллигенция и в советское время остается приверженной модели обесценивания материальных ценностей. В неофициальной культуре 1960?х и 1970?х годов намечается актуализация религиозных или философских основ аскетического образа жизни, но заодно и своего рода эстетизация аскетизма. В лианозовских бараках, в ленинградских крысиных подвалах[49 - Ср. описание Т. М. Горичевой обстановки в редакции журнала «37»: «Вся квартира была заложена этими листиками, и мы с Кривулиным их собирали потом. Все, кто приходил, видели эти странички разложенные, а по ним бегали крысы»(«Самый добрый, умный, открытый всем человек – это Кривулин…»: Интервью И. Кукуя с Т. Горичевой о Викторе Кривулине и журнале «Тридцать семь» // Полилог. 2011. № 4. С. 122).] художники, поэты и мыслители превращали советский быт в богемно окрашенную суб- и контркультуру – и это в период, когда в официальном дискурсе коммуналки и бараки декларируются признаками преодоленной эпохи нехватки жилья. С другой стороны, быт или, скорее, антибыт неофициальных художников совсем не исключает проявления жизнерадостного потребления. Но при этом отчетливо соблюдается некий антиобывательский habitus. Ключом к пониманию такого на первый взгляд противоречивого поведения является, как нам кажется, поведенческая модель «богемы». Парижские художники и поэты середины XIX века в своей жизненной практике также колебались «между роскошью и аскетизмом» (between indulgence and asceticism)[50 - Seigel J. Bohemian Paris: Culture, Politics, and the Boundaries of Bourgeois Life, 1830–1930. Baltimore; London: Johns Hopkins University Press, 1986. Р. 123.]. Кажется, что стили поведения и потребления, встречаемые в кругах «другой культуры», являются сложной смесью укорененных в истории русской культуры моделей и перенятых из западной культуры образцов.
Экономической базой подпольной богемной жизни часто были случайные работы. Сложился культурный миф поколения кочегаров, «дворников и сторожей»[51 - Ср. одноименную песню группы «Аквариум» в альбоме «Равноденствие» 1987 г. 14: Полный сборник текстов песен «Аквариума» и БГ / Сост.: О. Сагарева. М.: Experience, 1993. С. 266.], людей, пожертвовавших собственным благосостоянием для высших целей – осуществления особого стиля жизни и, что важнее, художественных замыслов. Видимо, реагируя на эти тенденции, А. А. Вознесенский в 1978 году вводит в обиход термин «люмпен-интеллигенция»[52 - Вознесенский А. А. Стихи из репертуара Г. Т. // Вознесенский А. А. Стихотворения и поэмы: В 2 т. СПб.: Пушкинский Дом; Вита Нова, 2015. Т. 2. С. 87.].
Примерно в то же время бывший представитель советской – не люмпен-интеллигенции, а скорее люмпен-богемы – сидит «полуголый» на балконе шестнадцатого этажа отеля «Винслоу» в Нью-Йорке и ест щи:
Щи с кислой капустой моя обычная пища, я ем их кастрюлю за кастрюлей, изо дня в день, и кроме щей почти ничего не ем. Ложка, которой я ем щи, – деревянная и привезена из России. Она разукрашена золотыми, алыми и черными цветами[53 - Лимонов Э. Это я – Эдичка // Лимонов Э. Собр. соч.: В 3 т. М.: Вагриус, 1998. Т. 2. С. 9.].
Перед нами – перформанс «русскости»: полуголый да «иногда вовсе голый человек» выставляет свое тело и процесс насыщения крайне однообразной, дешевой, но зато национально нагруженной пищей. Аскетизм традиционно связан с элементом перформанса[54 - Flood G. The Ascetic Self. Р. 4, 146.], даже самый погруженный в себя подвиг связан с традициями той или иной человеческой общности, он нацелен вовне, хочет быть видимым. Но аскетизм Эдички является перевернутым аскетизмом: обилие щей и бесстыдно выставленное перед «тысячью глаз клерков, секретарш и менеджеров»[55 - Лимонов Э. Это я – Эдичка. С. 9.] из соседних офисных комплексов тело обыгрывают и переписывают приметы традиционного аскетического поведения. Своим поведением нарцисс и панк Эдичка/Лимонов высмеивает рабочую этику американского капитализма, но вместе с тем отдаляется как можно дальше от морально-этических заветов русской интеллигенции.
Несколько лет спустя в России произойдет очередная революция, которую, хотя бы отчасти, можно определить как «потребительскую». Она положит конец многим явлениям и течениям, характерным для жизни русского общества, начиная с реформ Александра II. Наступает духовный и экономический кризис интеллигенции, ее этоса и ee форм поведения. На рубеже 1990–2000?х годов возникает своеобразный феномен гламурной интеллигенции, «глянца», как носителя просветительских идеалов и отчасти даже социальной ангажированности, которая уже не сочетается с пренебрежением материальными благами. Зато с возрождением религиозной жизни аскетические практики популяризируются. В меню ресторанов отмечаются постные продукты, в иллюстрированных журналах и на веб-порталах рекламируются диеты, обсуждаются вопросы питания и здорового образа жизни. Причем религиозные и профанные мотивации порой вступают в конкуренцию: вопросы вроде: «Как похудеть в пост?» – обсуждаются на многочисленных форумах российского интернета. Отсюда лишь маленький шаг к спорту и «фитнес-индустрии», к липосакции и пластической хирургии. Разнообразные техники дисциплинирования тела в эпоху неолиберализма, приспособление его к требованиям рынка (труда, любви…) с определенной точки зрения тоже могут оцениваться как своего рода аскетизм. Но, пожалуй, с тем же правом можно было бы утверждать и противоположное: упражнения, устремленные на оптимизацию физического облика, плохо сочетаются с нацеленной внутрь (и оттуда – вверх) мотивацией укорененных в религиозной жизни аскетических практик – с которыми они, однако, находятся в сложном отношении преемственности.
Но нельзя сказать, что интеллигентский этос «аскетического подвижничества» совсем исчез из русской действительности: он остается ориентиром в кругах активистов и правозащитников, он просвечивает в формах общения и поведения творческой интеллигенции. В своем воинствующе-революционном облике он пережил ренессанс в молодежной культуре начала 2000?х годов. Образцом здесь был, видимо, Э. В. Лимонов, бывший асоциал из отеля «Винслоу», который после возвращения в Россию в начале 1990?х годов культивировал аскетический habitus – не подпольной интеллигенции, а энкаведешника, с некоей примесью субкультуры и панковского стиля. Тот же Лимонов, между прочим, в своем памфлете «Другая Россия», вполне в духе М. Вебера, утверждает, что весь ненавистный ему капитализм вырос «из пуританского аскетизма»[56 - Лимонов Э. Другая Россия. Революция продолжается! М.: Яуза, 2004. С. 108, 123. Ср.: «<…> аскеты-экстремисты создали капитализм» (Там же. С. 124).]. Не следует, разумеется, преувеличивать значение Лимонова ни как писателя, ни (тем более) как политика. Его случай скорее является наглядным доказательством неослабевающей продуктивности семантического напряжения между полюсами аскезы и изобилия в социальной и культурной действительности России – а также примером того, что анализ взаимного воздействия этих двух тенденций позволяет открывать новые горизонты для исследования истории русской культуры и ее концептуально-теоретического осмысления.
О ТИПАХ АСКЕЗЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Михаил Эпштейн
Эта статья об аскезе сама выдержана в аскетическом жанре тезисов, являющих не плоть, а костяк мысли. Иначе вряд ли получилось бы вместить в небольшой формат множество граней этой темы, столь важной для самосознания русской культуры. Каждый из типов аскезы, конечно, заслуживает более подробного исследования, что и осуществлено в ряде других статей этого сборника.
Введение. Бедность и аскеза
1. В названии сборника «Изобилие и аскеза в русской литературе» есть скрытое противоречие. Казалось бы, «изобилие» и «аскеза» – точные антонимы, но это не так. Антоним «изобилия» – скудость, бедность, нищета, тогда как аскеза – это стремление к бедности, путь сознательного воздержания, самоограничения, самообуздания.
С другой стороны, антоним понятия «аскезы» – это не изобилие само по себе, а стяжание или стяжательство, обогащение, приобретательство, накопительство, то есть сознательное и целенаправленное стремление к изобилию.
2. Основная проблема аскезы в России: как отличить ее от бедности? Бедность – это факт, а аскеза – интенция, то есть стремление к бедности, добровольное самоограничение. Собственно, такой смысл предполагается самой этимологией слова: др.-греч. ??????? «упражняющийся, атлет», от ????? «обрабатывать, упражняться». Аскеза – это работа над собой, духовное упражнение по овладению своей телесной жизнью, искусство внешнего воздержания с целью внутреннего усиления. Аскеты – это атлеты духа[57 - Обстоятельные разъяснения по поводу понятия «аскеза» и его эволюции в христианском богословии можно найти в самом систематическом исследовании этой темы на русском языке: Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению. СПб.: Тип. В. Ф. Киршбаума, 1907 (переиздания – М., 1996, Киев, 2006). Кн. 1. Критический обзор важнейшей литературы вопроса. Книга 2. Опыт систематического раскрытия вопроса.].
Аскеза понимается в этой статье в широком смысле, далеко не только богословском, святоотческом, – как дисциплина сознательного воздержания от определенных аспектов материальной или культурной жизни с целью духовного возрастания, творческого воплощения.
3. Значительная часть того, что понимается под аскезой в России, – это псевдоаскеза, то есть просто бедность, недоразвитость, запущенность, а вовсе не сознательное воздержание. Русская деревня бедна, а не аскетична. Граф Л. Н. Толстой аскетичен, а мужик просто беден. Парадокс русской аскетики: выдать нужду за добродетель, бедность фактическую за интенцию бедности, самоограничения.
4. Проблематика аскетизма связана с глубинным свойством русского мира – с онтологией бедности. Это не экономическая категория: нехватка имущества – а нехватка самого бытия, скудость, тусклость, обусловленная как суровостью северного климата, так и плоским однообразием равнины. В лирическом образе России у Н. В. Гоголя в «Мертвых душах» (1842) преобладает именно мотив бедной, слабой бытийности, недореальности: «Русь! Русь! <…> бедно, разбросанно и неприютно в тебе <…>. Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора»[58 - Гоголь Н. В. Мертвые души I // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. 6. С. 220.].
5. Для понимания феномена аскезы и онтологии бедности полезно понятие гипореальности, которое вводится в ряде моих работ.
Гипореальность (hyporeality; от греч. hypo, под, ниже, меньше) – тип реальности со слабо выраженными признаками ее отличия от нереальности, ирреальности. Характерные свойства гипореальности: размытость объектов, слабо отделенных от окружающей среды; размытость субъектов, слабо выделенных из массы; аморфность цивилизации и ее артефактов, не выделенных ясно из природы или быстро ветшающих и готовых к распаду[59 - Эпштейн М. Н. Проективный словарь гуманитарных наук. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 342.].
Гипореальный мир не только обладает определенными энтропийными свойствами, но и внешне узнаваем и обычно характеризуется такими признаками, как «бедный, неброский, неяркий, неприметный, неприютный, пустынный, рассеянный, заброшенный».
6. Далее я попытаюсь очертить основные типы аскезы в русской литературе, ограничиваясь ссылкой на их основных представителей и приводя характерные примеры и цитаты. Эти условные типы (всего сорок) разделяются на восемь общих категорий, согласно предложенной классификации, которая, конечно, не является идеальной и единственно возможной.
Типы аскезы
I. Аскетичность бытия как исходное состояние природы, общества, человека
1. Аскетичность самой природы, изначальных условий жизни. Бедность, призрачность, истаяние бытия. А. С. Пушкин в стихотворении «Румяный критик мой, насмешник толстопузый…» (1830), в ответ на бравурные, романтически приподнятые запросы критика, передает истощенность, изможденность сельского бытия: