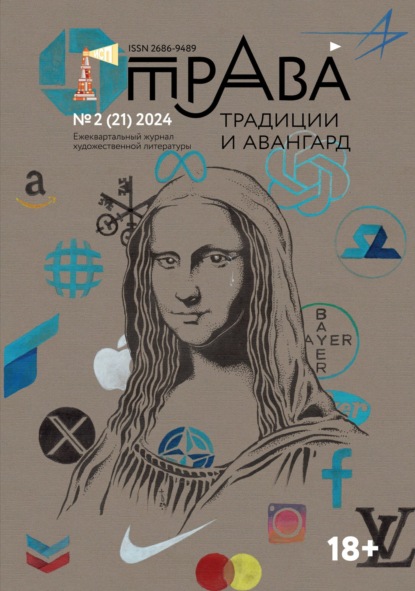По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Традиции & Авангард. №2 (21) 2024 г.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Поговорили вот так, ни о чём, и Анфиса вышла за какой-то микстурой, а мне было пора. Я поднялся со стула. Тогда грек сказал, почему-то виновато улыбаясь, что его «ужалила какаято змея». Хотел показать, но двигаться ему было трудно, и он скосил глаза вниз, где лежали его большие руки поверх простыни, пояснив: небольшой укус, справа от пупка…
Он заговорил быстро, и это была тривиальная сцена: умирающий прощался, прощал и просил прощения. Просил, чтобы я «поддержал Анфису хотя бы в первое время», что он мне теперь не соперник, и чтобы я не обижался на неё.
Я отвернулся, чтобы уйти, избавиться от этой бульварщины.
Он спросил мне в спину: «Я грэк?»
Я ответил уже у двери: «Ты грек. И над тобой витает Ника, богиня Победы».
Он слабо улыбнулся и поднял глаза к потолку. И отвернулся – не всем телом со смертельным укусом, а только отвёл голову, – мне показалось, что в глазах блеснуло. Да, скорее, показалось. Погода была хорошая, солнечная, лучи проникали сквозь жёлтые занавески, и всё в палате чудилось омеднённым и поблёскивало…
Что вы там говорили про Бронзового Солдата? Не знаю, почему я вспомнил…
Я выполнил последнюю волю Иллариона, не всю, увы, но в той части, где он просил поддержать Анфису «в первое время». Мы вновь сблизились с Эллады дщерью, и это была дружба, пусть странная, но, наверное, настоящая, так, во всяком случае, казалось. В наших отношениях была печаль, которая возвышала эти отношения. Мы уже избегали шумных компаний и соответствующих заведений, большей частью сидя в театре, где смотрели драмы и трагедии, гуляли по улицам, обходя тот переулок, на котором состоялось злополучное свидание, где Илларион защитил незнакомую женщину, чтобы в глазах дамы своего сердца остаться мужчиной.
Кое-что запомнила та самая, до конца жизни напуганная женщина. Несмотря на то что хулиган и, как теперь ясно, убийца был в маске – в капроновом чулке, женщина смогла хоть как-то описать насильника, его рост и даже дыхание. Да-да, вдумайтесь: дыхание! Из студентов, косяком поваливших записываться в дружинники, создавались пятёрки. Мы (мог ли я избежать той общей участи?) обходили улицы, угрюмые, сосредоточенные, возвышенные, в те вечера мы никого и ничего не боялись. Когда нас первый раз инструктировали в милиции, нам показали ту пострадавшую женщину. Она волновалась, заикалась, рассказывая, описывая «того самого», и, о, Боже, имитировала его дыхание, откидываясь на спинку стула, закрывая лицо ладонью, охала.
Однажды во время вечернего рейда нашей пятёрке показался подозрительным один молодой высокий человек. Мы окликнули его, он кинулся бежать, мы – следом. Все отстали, но я настиг его, не столько потому, что хотел его догнать, а, скорее, потому, что он зацепился за что-то ногой и упал. Отполз спиной вперёд, затравленный, встал, прислонился к стене.
Я готов был бить его и даже привычно занёс свой правый кулак, чтобы ударить левым. Но остановился, после того как он прошептал: «Извини, я просто испугался!»
Я стоял напротив него и тяжело дышал, боясь, что моё дыхание сейчас похоже на то, что изображала женщина; хотя при чём здесь этот парень, который её не слышал?
Я спросил его: «Страшно?»
Он огляделся: «Очень!..» – и обморочно закрыл глаза.
Я повернулся и пошёл прочь.
Подобных случаев было несколько. Кого-то задерживали, водили на опознание. Потом всё закончилось, сошло на нет.
Греки ходили ещё группой, «могучей кучкой» в полном составе, но потом и они куда-то исчезли, распались, как будто лишённые ядра и вяжущих веществ. Опасными, хотя и такими красивыми, даже великолепными, оказались белые одежды мужественности – как саван, в котором уходил в песню и будущие тосты их яркий друг, – что… что растворилось оно, слывшее стадом…
Так прошла зима, в течение которой Эллады дщерь, казалось, жила как лунатик: сонной ходила на занятия, сонной гуляла со мной. А вот весной, не ранней, а уже разнузданной, когда деревья в сквере студгородка, ещё недавно стоявшие кривыми шпалами и бросавшие чёрные тени на голые тела продуваемых аллей, оделись в листья, когда зелёные тропы, повороты и ниши обители загадок и надежд сменили собой тревожную ясность, – Анфиса проснулась.
Сначала она потянула меня на футбол. И уже в этом необычном желании я заподозрил её пробуждение, или, точнее, воскрешение. На стадионе, как я и ожидал, она наблюдала не игру, в которой ничего не понимала, а эмоции зрителей. Эллады дщерь сидела в очках, смотрела по сторонам, повизгивала от удовольствия, когда окружающая масса недовольно ревела, радостно взрывалась, неопределённо гудела. В особенный восторг её привела драка фанатов с милицией, долго шумевшая в верхних рядах, прямо над нами. О, если бы вы видели её, любующуюся боем: одухотворённое лицо, крепко сжатые кулачки, вскинутый подбородок – Эллады дщерь, точнее не скажешь!
Назавтра был ипподром. Те же реакции. Но к ним нужно прибавить проигрыш приличной суммы, составлявшей половину стипендии, и окончательное решение моей опекаемой записаться в конноспортивную секцию. По дороге домой она спросила меня: «Неужели ты действительно бросил бокс? А передумать не поздно?»
Не буду продолжать, старина папарацци, скажу коротко: проснулась.
«Пора делать последний аккорд!» – так любит говорить один мой знакомый, которого я очень люблю и жалею (он соломузыкант, саксофонист в уютном кафе, что в цоколе моего дома; я там часто ужинаю).
Когда я понял, что пора?..
На следующий после ипподрома день Анфиса повела меня к речке, там убедила выпросить у рыбаков лодку напрокат. Естественно, рыбак, тронутый вниманием, как он полагал, влюблённых, отдал нам своё судно с удовольствием и, разумеется, бесплатно, даже без залога. Мы сплавали к тому берегу и обратно. Вода была парной, а Эллады дщерь – восторженной и улыбчивой. Но улыбалась она не мне, мускулистому гондольеру, а оранжево-закатному небу, реке, тёплому ветерку, трепавшему её кудри. Она упиралась ладошками в лодочные борта, закинув голову, то распахивая ресницы, то надолго зажмуриваясь, и странно дышала: делала глубокий вдох, замирала, закрыв очи, словно стараясь задержать в себе всю прелесть вечера, затем шумно выдыхала – и глаза в этот момент были пьяные, смотрели мимо меня, поверх меня, сквозь меня. А я был гребцом – продолжением лодки, вёсельным приводом.
И вот тогда я понял: пора… Правда, всех нот в аккорде я ещё не знал, многое, если не сказать основное, сложилось по ходу музыки – импровизация, как и наша с вами жизнь.
А сейчас, дружище папарацци, для продолжения нашего с вами разговора мне необходимо отвлечься, побормотать себе под нос, иначе не получается; во всяком случае, очень трудно…
Мы пошли от рыбаков, и я попросил тебя вспомнить, как всё было. Целых несколько месяцев я не задавал тебе этого вопроса, хотя в нём, тяжком для меня и тебя, всё же не было ничего чрезвычайного. Тебе было трудно, больно, но я настоял: только один раз, первый и последний, вот увидишь, тебе станет легче, в полной мере и окончательно. И, чтобы раскрепостить тебя, я первым принялся вспоминать, каким славным парнем был Илларион.
И ты, покорившись мне, вспоминала и вспоминала… Ты увлеклась и рассказывала, как хорошо, уверенно, надёжно было с ним. Какой смешной казалась его неосведомлённость в некоторых, казалось бы, общеизвестных вещах. Как ты просвещала его, умиляясь, смеясь, восторгаясь своей учительской ролью, какие вы с ним строили планы, как ты отучала его от чрезмерного коллективизма, уводила от друзей, как те обижались и чего стоило ему преодоление азиатских привычек. А сейчас ты коришь себя: нужно ли было творить из азиата европейца, зачем было всё это переучивание, в результате которого, если проследить причинно-следственную связь, новоявленный европеец-джентльмен и пострадал, отойдя от своего хора, став не то чтобы смелей и безрассудней, но приобретя принципы, диктующие жертвенное поведение, в котором гордость не позволяет отойти, уклониться, промолчать…
Потом ты повела меня к тому дню. День был, как и сегодня, чудесным, вы были там-то, виделись с теми-то, ты научила его тому-то.
Наконец, распаляясь, ты кротко призналась мне в своём небольшом грешке: это ты сама написала сценарий и всё устроила на тех танцах: и Демиса Руссоса, и «ай уил би ё френд», и «гудбай, май лав», и беспардонные приглашения, закончившиеся боем «один на один». Всё это было необычно, красиво, поэтично. И просто блеск твоё судьбоносное условие экзотическому греку: если победишь, то… Оказывается, ты была уверена, что он победит, не предполагала иного варианта для такого человечища, супермена атлетической гимнастики. И ты смотрела в окно, наблюдала бой и всю его переменчивость, трагичность, и болела-болела-болела, конечно, уже за него, ведь всё уже было решено, а как всё драматически поворачивалось, ведь я, Шмель, не хотел – о, ужас – не хотел проигрывать!..
Ты спросила меня, оглушённого (впрочем, я не выдал потрясения), не обижаюсь ли я.
«Ну что ты!..» – только и сказал я, подбадривая тебя дружеской улыбкой.
«О, боже мой, какой же ты чуткий, верный, всепрощающий друг!» – Ты поцеловала меня в щёку; и я заскрипел зубами, но ты не услышала скрипа.
Потом я долго вёл тебя по городу. Ты шла покорно, нет – доверчиво. Мы оказались в незнакомом тебе здании.
«Куда мы пришли?» – смятенно спрашивала ты, а я опять подбадривал тебя улыбкой: дескать, сюрприз.
Мы двигались коридорами, в ноздри ударил запах пота, послышались звон металла, короткие вскрики. Ты заподозрила неладное, но было уже поздно.
Я открыл дверь и ввёл тебя в зал. Ты дрожащими руками полезла в сумочку за очками… И вдруг увидела десятки культуристов: горы красивейших людей, совершенных тел, они, кряхтя и потея, поднимали тяжести, отжимались, подтягивались, замирали в статике, напрягая блестящие мускулы…
Ты изменилась в лице, вскрикнула и постаралась убежать, но, не зная дороги, билась о преграды, как пленённая птица, и я мог не спешить, наблюдая твоё смятение. Ты натыкалась на запертые двери, на людей с полотенцами, буквально попадая в объятия тел, мускулисто-упругих, тёплых и влажных, и ещё сильнее вскрикивала…
Я вывел тебя на воздух. Ты долго убегала от меня, но я тебя настигал, держал в объятьях, ты опять, как прежде, хрустела в моих руках, я отпускал, ты опять убегала, но уже не так отчаянно… Постепенно ты успокоилась. И это было уже почти утро, мы останавливались у ночных магазинчиков и пили воду. Здесь выяснилось, что ты благодарна мне за всё, просто так, без объяснений, ну просто за всё-всё.
Я взял подержать твои очки и – ай-ай-ай! – уронил их, и в попытке быстро исправить оплошность наступил на них, и корил себя за неуклюжесть…
От волнения ты становилась совсем незрячей, а после Иллариона это стало проявляться всё больше. То утро не было исключением, ты ослепла от усталости и потрясений. И сказала с признательностью, держась за мой рукав, словно ребёнок: «Как хорошо, что рядом ты, друг-поводырь. Не расстраивайся, дома у меня есть запасные».
И поводырь привёл тебя к тому самому месту, к той самой стене, и прислонил тебя к кирпичам, почти невидящую, но такую благодарную, тёплую, близкую.
Я готов тебя поцеловать, ты готова с благодарностью принять мой поцелуй… Но вдруг ты узнаёшь эту стену, шуршишь ладонями по бархатным кирпичам, озираясь, прищуриваясь, и в красивых греческих глазах твоих – животный страх, коровий ужас, как у того, которого я давеча догнал и едва не избил.
Я сковал тебя объятьями и, не давая опомниться, вспоминая нас двоих, ещё тех, до твоего ухода, горячо расцеловал тебя – в глаза, в губы, в шею, как делал это раньше, но ещё более страстно. Ты, Эллады дщерь, вскрикнула, завырывалась; и я тебя, конечно, отпустил, уже навсегда. Но сначала…
Я тебя ударил.
Всего один раз, но умело, чтобы у тебя потекли сразу две струйки – из правой ноздри и из правого уголка губ.
Помнишь? У него – из носа, у меня – изо рта. Конечно, помнишь.
До свадьбы заживёт.
Я повернул тебя лицом к общежитию, которое уже совсем рядом, на виду, и легонько подтолкнул в спину: иди, ты найдёшь свою дорогу, хоть на ощупь, хоть на четвереньках, с тобой никогда ничего не случится.
Занавес…
Он заговорил быстро, и это была тривиальная сцена: умирающий прощался, прощал и просил прощения. Просил, чтобы я «поддержал Анфису хотя бы в первое время», что он мне теперь не соперник, и чтобы я не обижался на неё.
Я отвернулся, чтобы уйти, избавиться от этой бульварщины.
Он спросил мне в спину: «Я грэк?»
Я ответил уже у двери: «Ты грек. И над тобой витает Ника, богиня Победы».
Он слабо улыбнулся и поднял глаза к потолку. И отвернулся – не всем телом со смертельным укусом, а только отвёл голову, – мне показалось, что в глазах блеснуло. Да, скорее, показалось. Погода была хорошая, солнечная, лучи проникали сквозь жёлтые занавески, и всё в палате чудилось омеднённым и поблёскивало…
Что вы там говорили про Бронзового Солдата? Не знаю, почему я вспомнил…
Я выполнил последнюю волю Иллариона, не всю, увы, но в той части, где он просил поддержать Анфису «в первое время». Мы вновь сблизились с Эллады дщерью, и это была дружба, пусть странная, но, наверное, настоящая, так, во всяком случае, казалось. В наших отношениях была печаль, которая возвышала эти отношения. Мы уже избегали шумных компаний и соответствующих заведений, большей частью сидя в театре, где смотрели драмы и трагедии, гуляли по улицам, обходя тот переулок, на котором состоялось злополучное свидание, где Илларион защитил незнакомую женщину, чтобы в глазах дамы своего сердца остаться мужчиной.
Кое-что запомнила та самая, до конца жизни напуганная женщина. Несмотря на то что хулиган и, как теперь ясно, убийца был в маске – в капроновом чулке, женщина смогла хоть как-то описать насильника, его рост и даже дыхание. Да-да, вдумайтесь: дыхание! Из студентов, косяком поваливших записываться в дружинники, создавались пятёрки. Мы (мог ли я избежать той общей участи?) обходили улицы, угрюмые, сосредоточенные, возвышенные, в те вечера мы никого и ничего не боялись. Когда нас первый раз инструктировали в милиции, нам показали ту пострадавшую женщину. Она волновалась, заикалась, рассказывая, описывая «того самого», и, о, Боже, имитировала его дыхание, откидываясь на спинку стула, закрывая лицо ладонью, охала.
Однажды во время вечернего рейда нашей пятёрке показался подозрительным один молодой высокий человек. Мы окликнули его, он кинулся бежать, мы – следом. Все отстали, но я настиг его, не столько потому, что хотел его догнать, а, скорее, потому, что он зацепился за что-то ногой и упал. Отполз спиной вперёд, затравленный, встал, прислонился к стене.
Я готов был бить его и даже привычно занёс свой правый кулак, чтобы ударить левым. Но остановился, после того как он прошептал: «Извини, я просто испугался!»
Я стоял напротив него и тяжело дышал, боясь, что моё дыхание сейчас похоже на то, что изображала женщина; хотя при чём здесь этот парень, который её не слышал?
Я спросил его: «Страшно?»
Он огляделся: «Очень!..» – и обморочно закрыл глаза.
Я повернулся и пошёл прочь.
Подобных случаев было несколько. Кого-то задерживали, водили на опознание. Потом всё закончилось, сошло на нет.
Греки ходили ещё группой, «могучей кучкой» в полном составе, но потом и они куда-то исчезли, распались, как будто лишённые ядра и вяжущих веществ. Опасными, хотя и такими красивыми, даже великолепными, оказались белые одежды мужественности – как саван, в котором уходил в песню и будущие тосты их яркий друг, – что… что растворилось оно, слывшее стадом…
Так прошла зима, в течение которой Эллады дщерь, казалось, жила как лунатик: сонной ходила на занятия, сонной гуляла со мной. А вот весной, не ранней, а уже разнузданной, когда деревья в сквере студгородка, ещё недавно стоявшие кривыми шпалами и бросавшие чёрные тени на голые тела продуваемых аллей, оделись в листья, когда зелёные тропы, повороты и ниши обители загадок и надежд сменили собой тревожную ясность, – Анфиса проснулась.
Сначала она потянула меня на футбол. И уже в этом необычном желании я заподозрил её пробуждение, или, точнее, воскрешение. На стадионе, как я и ожидал, она наблюдала не игру, в которой ничего не понимала, а эмоции зрителей. Эллады дщерь сидела в очках, смотрела по сторонам, повизгивала от удовольствия, когда окружающая масса недовольно ревела, радостно взрывалась, неопределённо гудела. В особенный восторг её привела драка фанатов с милицией, долго шумевшая в верхних рядах, прямо над нами. О, если бы вы видели её, любующуюся боем: одухотворённое лицо, крепко сжатые кулачки, вскинутый подбородок – Эллады дщерь, точнее не скажешь!
Назавтра был ипподром. Те же реакции. Но к ним нужно прибавить проигрыш приличной суммы, составлявшей половину стипендии, и окончательное решение моей опекаемой записаться в конноспортивную секцию. По дороге домой она спросила меня: «Неужели ты действительно бросил бокс? А передумать не поздно?»
Не буду продолжать, старина папарацци, скажу коротко: проснулась.
«Пора делать последний аккорд!» – так любит говорить один мой знакомый, которого я очень люблю и жалею (он соломузыкант, саксофонист в уютном кафе, что в цоколе моего дома; я там часто ужинаю).
Когда я понял, что пора?..
На следующий после ипподрома день Анфиса повела меня к речке, там убедила выпросить у рыбаков лодку напрокат. Естественно, рыбак, тронутый вниманием, как он полагал, влюблённых, отдал нам своё судно с удовольствием и, разумеется, бесплатно, даже без залога. Мы сплавали к тому берегу и обратно. Вода была парной, а Эллады дщерь – восторженной и улыбчивой. Но улыбалась она не мне, мускулистому гондольеру, а оранжево-закатному небу, реке, тёплому ветерку, трепавшему её кудри. Она упиралась ладошками в лодочные борта, закинув голову, то распахивая ресницы, то надолго зажмуриваясь, и странно дышала: делала глубокий вдох, замирала, закрыв очи, словно стараясь задержать в себе всю прелесть вечера, затем шумно выдыхала – и глаза в этот момент были пьяные, смотрели мимо меня, поверх меня, сквозь меня. А я был гребцом – продолжением лодки, вёсельным приводом.
И вот тогда я понял: пора… Правда, всех нот в аккорде я ещё не знал, многое, если не сказать основное, сложилось по ходу музыки – импровизация, как и наша с вами жизнь.
А сейчас, дружище папарацци, для продолжения нашего с вами разговора мне необходимо отвлечься, побормотать себе под нос, иначе не получается; во всяком случае, очень трудно…
Мы пошли от рыбаков, и я попросил тебя вспомнить, как всё было. Целых несколько месяцев я не задавал тебе этого вопроса, хотя в нём, тяжком для меня и тебя, всё же не было ничего чрезвычайного. Тебе было трудно, больно, но я настоял: только один раз, первый и последний, вот увидишь, тебе станет легче, в полной мере и окончательно. И, чтобы раскрепостить тебя, я первым принялся вспоминать, каким славным парнем был Илларион.
И ты, покорившись мне, вспоминала и вспоминала… Ты увлеклась и рассказывала, как хорошо, уверенно, надёжно было с ним. Какой смешной казалась его неосведомлённость в некоторых, казалось бы, общеизвестных вещах. Как ты просвещала его, умиляясь, смеясь, восторгаясь своей учительской ролью, какие вы с ним строили планы, как ты отучала его от чрезмерного коллективизма, уводила от друзей, как те обижались и чего стоило ему преодоление азиатских привычек. А сейчас ты коришь себя: нужно ли было творить из азиата европейца, зачем было всё это переучивание, в результате которого, если проследить причинно-следственную связь, новоявленный европеец-джентльмен и пострадал, отойдя от своего хора, став не то чтобы смелей и безрассудней, но приобретя принципы, диктующие жертвенное поведение, в котором гордость не позволяет отойти, уклониться, промолчать…
Потом ты повела меня к тому дню. День был, как и сегодня, чудесным, вы были там-то, виделись с теми-то, ты научила его тому-то.
Наконец, распаляясь, ты кротко призналась мне в своём небольшом грешке: это ты сама написала сценарий и всё устроила на тех танцах: и Демиса Руссоса, и «ай уил би ё френд», и «гудбай, май лав», и беспардонные приглашения, закончившиеся боем «один на один». Всё это было необычно, красиво, поэтично. И просто блеск твоё судьбоносное условие экзотическому греку: если победишь, то… Оказывается, ты была уверена, что он победит, не предполагала иного варианта для такого человечища, супермена атлетической гимнастики. И ты смотрела в окно, наблюдала бой и всю его переменчивость, трагичность, и болела-болела-болела, конечно, уже за него, ведь всё уже было решено, а как всё драматически поворачивалось, ведь я, Шмель, не хотел – о, ужас – не хотел проигрывать!..
Ты спросила меня, оглушённого (впрочем, я не выдал потрясения), не обижаюсь ли я.
«Ну что ты!..» – только и сказал я, подбадривая тебя дружеской улыбкой.
«О, боже мой, какой же ты чуткий, верный, всепрощающий друг!» – Ты поцеловала меня в щёку; и я заскрипел зубами, но ты не услышала скрипа.
Потом я долго вёл тебя по городу. Ты шла покорно, нет – доверчиво. Мы оказались в незнакомом тебе здании.
«Куда мы пришли?» – смятенно спрашивала ты, а я опять подбадривал тебя улыбкой: дескать, сюрприз.
Мы двигались коридорами, в ноздри ударил запах пота, послышались звон металла, короткие вскрики. Ты заподозрила неладное, но было уже поздно.
Я открыл дверь и ввёл тебя в зал. Ты дрожащими руками полезла в сумочку за очками… И вдруг увидела десятки культуристов: горы красивейших людей, совершенных тел, они, кряхтя и потея, поднимали тяжести, отжимались, подтягивались, замирали в статике, напрягая блестящие мускулы…
Ты изменилась в лице, вскрикнула и постаралась убежать, но, не зная дороги, билась о преграды, как пленённая птица, и я мог не спешить, наблюдая твоё смятение. Ты натыкалась на запертые двери, на людей с полотенцами, буквально попадая в объятия тел, мускулисто-упругих, тёплых и влажных, и ещё сильнее вскрикивала…
Я вывел тебя на воздух. Ты долго убегала от меня, но я тебя настигал, держал в объятьях, ты опять, как прежде, хрустела в моих руках, я отпускал, ты опять убегала, но уже не так отчаянно… Постепенно ты успокоилась. И это было уже почти утро, мы останавливались у ночных магазинчиков и пили воду. Здесь выяснилось, что ты благодарна мне за всё, просто так, без объяснений, ну просто за всё-всё.
Я взял подержать твои очки и – ай-ай-ай! – уронил их, и в попытке быстро исправить оплошность наступил на них, и корил себя за неуклюжесть…
От волнения ты становилась совсем незрячей, а после Иллариона это стало проявляться всё больше. То утро не было исключением, ты ослепла от усталости и потрясений. И сказала с признательностью, держась за мой рукав, словно ребёнок: «Как хорошо, что рядом ты, друг-поводырь. Не расстраивайся, дома у меня есть запасные».
И поводырь привёл тебя к тому самому месту, к той самой стене, и прислонил тебя к кирпичам, почти невидящую, но такую благодарную, тёплую, близкую.
Я готов тебя поцеловать, ты готова с благодарностью принять мой поцелуй… Но вдруг ты узнаёшь эту стену, шуршишь ладонями по бархатным кирпичам, озираясь, прищуриваясь, и в красивых греческих глазах твоих – животный страх, коровий ужас, как у того, которого я давеча догнал и едва не избил.
Я сковал тебя объятьями и, не давая опомниться, вспоминая нас двоих, ещё тех, до твоего ухода, горячо расцеловал тебя – в глаза, в губы, в шею, как делал это раньше, но ещё более страстно. Ты, Эллады дщерь, вскрикнула, завырывалась; и я тебя, конечно, отпустил, уже навсегда. Но сначала…
Я тебя ударил.
Всего один раз, но умело, чтобы у тебя потекли сразу две струйки – из правой ноздри и из правого уголка губ.
Помнишь? У него – из носа, у меня – изо рта. Конечно, помнишь.
До свадьбы заживёт.
Я повернул тебя лицом к общежитию, которое уже совсем рядом, на виду, и легонько подтолкнул в спину: иди, ты найдёшь свою дорогу, хоть на ощупь, хоть на четвереньках, с тобой никогда ничего не случится.
Занавес…