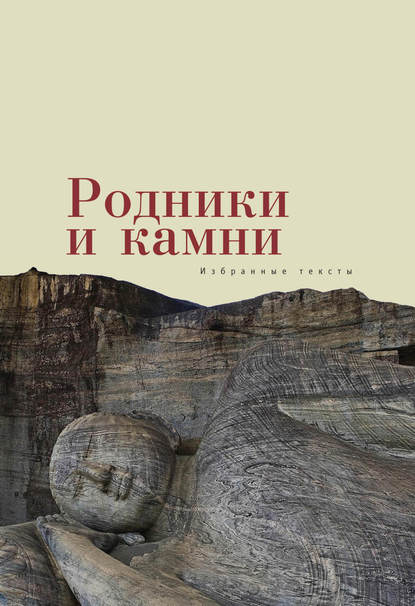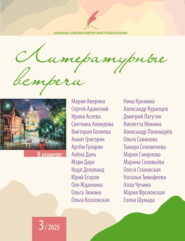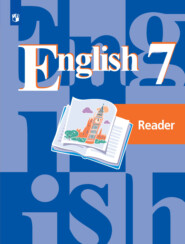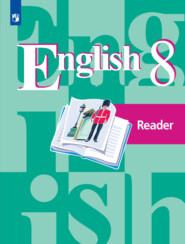По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Родники и камни (сборник)
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Особенный балтийский воздух дарил телу, мыслям, движениям энергию кислорода. Будто не по земле шагаешь, не по светлой полосе влажного, плотного песка, а паришь над серой холодной водой, как корабль с набитыми крепким попутным ветром парусами. Идешь, идешь, сменяются выстроившиеся вдоль залива городки Взморья, а стремление идти не оставляет, и усталость какая-то особенная, не утомляющая, бодрая.
Вечером, в темноте, выходили своей компанией на прямую, протяженную улицу, ниткой ожерелья пронизывающую и соединяющую все эти городки: шатались туда и обратно, то по одной стороне улицы, то по другой, болтали дело и безделицу, шутили, смеялись, флиртовали, перекликались с встреченными знакомыми, пили непременное рижское пиво. (Я не любитель пива, мне больше оказались по душе у нас, в Москве, тогда неведомые, да и позже тоже не прижившиеся, рюмочные: вам подавали на тарелке рюмку водки и к каждой обязательную закуску – бутерброд с селедкой или иной какой соленой рыбкой.)
Там, в Дубултах, как-то само собой сложились эти свои компании: давние друзья и знакомые – и новые, только тут появившиеся. В каждой компании, опять же само собой, возникала своя иерархия, своя система отношений, и опять же система отношений между компаниями, как между государствами, от дружески единомысленных до прохладно нейтральных, – замкнутый мир Дубултов, время существования которого для каждого его обитателя исчислялось указанным в литфондовской путевке сроком, отведенным для творчества.
Вот, пишу, вспоминаю тех, с кем прожил в этом мире доставшийся мне трех – или четырехнедельный (точно уже не помню) век, и все, кого вспоминаю, кажутся теперь людьми замечательно интересными и привлекательными, а дамы – еще и прекрасными. И кого ни вспомню, никого уже нет.
Глава пятая
1
Я лежал ничком, слегка приподняв голову, и однообразными сильными движениями рук будто старался поглубже протолкнуть под себя заснеженный земной шар.
Житель Ориона (если бы таковой там нашелся), наведя совершеннейший оптический прибор на нашу Землю, наверно, очень бы удивлялся, разглядывая нелепую черненькую фигурку, неведомо зачем одиноко переползавшую пустынное белое поле. Впрочем, вряд ли в тот вечер я думал об этом, но на своем пути я то и дело старался, слегка повернув голову налево, схватить краем глаза сияющие на черном небе светила любимого созвездия: касание их лучей дарило мне, как язычнику древности, хмель мужества и силу безоглядно продолжать движение.
Иногда ветер пробегал по низу, разом стирал пот со лба, слепил колючим снегом, морозил лицо. Огоньки Научного Центра, по-прежнему, казалось, бесконечно далекие, вовсе исчезали из глаз.
2
Может быть, я вспоминал известную картину В. В. Верещагина «На Шипке всё спокойно» – наивный публицистический триптих: метель на трех холстах засыпает снегом солдата-часового; на последнем, третьем, он уже вовсе, с головой, укрыт сугробом.
(Но, может быть, и не вспоминал: я был молод – душа не была еще искажена опытом страха.)
3
Название картины взято из рапорта одного из генералов русско-турецкой войны 1877–1878 годов.
Четыре слова генеральского рапорта, преображенные Верещагиным, наполнились иным смыслом.
Благодаря Верещагину фраза стала крылатой.
Она и поныне таит в себе глубокий смысл, одним разом не исчерпываемый.
4
Крылатая фраза ей под стать явилась уже в двадцатые годы только что минувшего столетия: пять слов (в немецком оригинале – четыре) будничной военной сводки, преображенные в заглавие романа.
«На Западном фронте без перемен».
5
Тоже своего рода – формулы войны.
6
Герой Гаршина, тяжело раненный, лежит на крошечной, отгороженной от мира высокими кустами поляне.
Лежит, забытый, рядом с трупом убитого им человека.
«Я лежу, кажется, на животе и вижу перед собою только маленький кусочек земли. Несколько травинок, муравей, ползущий с одной из них вниз головою, какие-то кусочки сора от прошлогодней травы – вот весь мой мир…» Потом ему удается перевернуться, и он видит «звезды, которые так ярко светятся на черно-синем болгарском небе».
Небольшое, хотя и мучительно давшееся движение тела уводит его от травинки, муравья, кусочков сора – в иной мир. В бесконечность.
Он пьет теплую воду из фляги лежащего рядом трупа – и братается с убитым им человеком.
Он знает, что скоро умрет.
«Только в газетах останется несколько строк, что, мол, потери наши незначительны: ранено столько-то, убит рядовой из вольноопределяющихся Иванов. Нет, и фамилии не напишут, просто скажут: убит один».
7
На Шипке всё спокойно.
И на всех фронтах – без перемен.
8
Рядовой из вольноопределяющихся Гаршин сражался на той же войне, с которой знаменитый живописец-баталист Верещагин привез свою «Шипку».
9
Тремя годами раньше Всеволод Гаршин рассматривал на выставке Верещагина в Петербурге картины, привезенные с другой войны – туркестанской.
«Я не увидел в них эффектного эскизца, // Увидел смерть, увидел вопль людей, // Измученных убийством…»
Это – из его наивных стихов (впечатление от выставки), искренних и неумелых.
Ничего он, конечно, еще не увидел, исполненный сострадания к людям гимназист выпускного класса.
Хотя картины у Верещагина страшные.
Отрубленные солдатские головы, насаженные на колья или брошенные к ногам победителя. Смертельно раненный, который, сжимая кровавую рану на груди, еще бежит навстречу неприятелю («Ой, убили, братцы!.. убили…» – надпись на раме). И другой раненый – забытый в знойных песках; он еще жив, но вороны уже кружат над ним…
Страшно.
Но это пока – чужой опыт.
На войне Гаршин был однажды послан на поле недавно минувшего боя – убирать трупы.
Его забытый герой вспоминает, как убил человека, из фляги которого пьет спасительную воду: «Одним ударом я вышиб у него ружье, другим воткнул куда-то свой штык. Что-то не то зарычало, не то застонало…»
10
Выставку Верещагина венчал знаменитый плакатный «Апофеоз войны» – гора черепов посреди неоглядной пустыни: белые, дочиста оглоданные временем черепа, выжженный солнцем песок и выгоревшее небо над ним (надпись на раме: «Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим»).
Герой Гаршина, укрытый от глаз людских густым, колючим кустарником, день за днем поневоле осужден наблюдать, как под палящим солнцем разлагается лежащий рядом труп. «Раз, когда я открыл глаза, чтобы взглянуть на него, я ужаснулся. Лица у него уже не было. Оно сползло с костей. Страшная костяная улыбка, вечная улыбка показалась мне такой отвратительной, такой ужасной, как никогда… Этот скелет в мундире с светлыми пуговицами привел меня в содрогание. «Это война, – подумал я: – вот ее изображение»».
11
Вечером, в темноте, выходили своей компанией на прямую, протяженную улицу, ниткой ожерелья пронизывающую и соединяющую все эти городки: шатались туда и обратно, то по одной стороне улицы, то по другой, болтали дело и безделицу, шутили, смеялись, флиртовали, перекликались с встреченными знакомыми, пили непременное рижское пиво. (Я не любитель пива, мне больше оказались по душе у нас, в Москве, тогда неведомые, да и позже тоже не прижившиеся, рюмочные: вам подавали на тарелке рюмку водки и к каждой обязательную закуску – бутерброд с селедкой или иной какой соленой рыбкой.)
Там, в Дубултах, как-то само собой сложились эти свои компании: давние друзья и знакомые – и новые, только тут появившиеся. В каждой компании, опять же само собой, возникала своя иерархия, своя система отношений, и опять же система отношений между компаниями, как между государствами, от дружески единомысленных до прохладно нейтральных, – замкнутый мир Дубултов, время существования которого для каждого его обитателя исчислялось указанным в литфондовской путевке сроком, отведенным для творчества.
Вот, пишу, вспоминаю тех, с кем прожил в этом мире доставшийся мне трех – или четырехнедельный (точно уже не помню) век, и все, кого вспоминаю, кажутся теперь людьми замечательно интересными и привлекательными, а дамы – еще и прекрасными. И кого ни вспомню, никого уже нет.
Глава пятая
1
Я лежал ничком, слегка приподняв голову, и однообразными сильными движениями рук будто старался поглубже протолкнуть под себя заснеженный земной шар.
Житель Ориона (если бы таковой там нашелся), наведя совершеннейший оптический прибор на нашу Землю, наверно, очень бы удивлялся, разглядывая нелепую черненькую фигурку, неведомо зачем одиноко переползавшую пустынное белое поле. Впрочем, вряд ли в тот вечер я думал об этом, но на своем пути я то и дело старался, слегка повернув голову налево, схватить краем глаза сияющие на черном небе светила любимого созвездия: касание их лучей дарило мне, как язычнику древности, хмель мужества и силу безоглядно продолжать движение.
Иногда ветер пробегал по низу, разом стирал пот со лба, слепил колючим снегом, морозил лицо. Огоньки Научного Центра, по-прежнему, казалось, бесконечно далекие, вовсе исчезали из глаз.
2
Может быть, я вспоминал известную картину В. В. Верещагина «На Шипке всё спокойно» – наивный публицистический триптих: метель на трех холстах засыпает снегом солдата-часового; на последнем, третьем, он уже вовсе, с головой, укрыт сугробом.
(Но, может быть, и не вспоминал: я был молод – душа не была еще искажена опытом страха.)
3
Название картины взято из рапорта одного из генералов русско-турецкой войны 1877–1878 годов.
Четыре слова генеральского рапорта, преображенные Верещагиным, наполнились иным смыслом.
Благодаря Верещагину фраза стала крылатой.
Она и поныне таит в себе глубокий смысл, одним разом не исчерпываемый.
4
Крылатая фраза ей под стать явилась уже в двадцатые годы только что минувшего столетия: пять слов (в немецком оригинале – четыре) будничной военной сводки, преображенные в заглавие романа.
«На Западном фронте без перемен».
5
Тоже своего рода – формулы войны.
6
Герой Гаршина, тяжело раненный, лежит на крошечной, отгороженной от мира высокими кустами поляне.
Лежит, забытый, рядом с трупом убитого им человека.
«Я лежу, кажется, на животе и вижу перед собою только маленький кусочек земли. Несколько травинок, муравей, ползущий с одной из них вниз головою, какие-то кусочки сора от прошлогодней травы – вот весь мой мир…» Потом ему удается перевернуться, и он видит «звезды, которые так ярко светятся на черно-синем болгарском небе».
Небольшое, хотя и мучительно давшееся движение тела уводит его от травинки, муравья, кусочков сора – в иной мир. В бесконечность.
Он пьет теплую воду из фляги лежащего рядом трупа – и братается с убитым им человеком.
Он знает, что скоро умрет.
«Только в газетах останется несколько строк, что, мол, потери наши незначительны: ранено столько-то, убит рядовой из вольноопределяющихся Иванов. Нет, и фамилии не напишут, просто скажут: убит один».
7
На Шипке всё спокойно.
И на всех фронтах – без перемен.
8
Рядовой из вольноопределяющихся Гаршин сражался на той же войне, с которой знаменитый живописец-баталист Верещагин привез свою «Шипку».
9
Тремя годами раньше Всеволод Гаршин рассматривал на выставке Верещагина в Петербурге картины, привезенные с другой войны – туркестанской.
«Я не увидел в них эффектного эскизца, // Увидел смерть, увидел вопль людей, // Измученных убийством…»
Это – из его наивных стихов (впечатление от выставки), искренних и неумелых.
Ничего он, конечно, еще не увидел, исполненный сострадания к людям гимназист выпускного класса.
Хотя картины у Верещагина страшные.
Отрубленные солдатские головы, насаженные на колья или брошенные к ногам победителя. Смертельно раненный, который, сжимая кровавую рану на груди, еще бежит навстречу неприятелю («Ой, убили, братцы!.. убили…» – надпись на раме). И другой раненый – забытый в знойных песках; он еще жив, но вороны уже кружат над ним…
Страшно.
Но это пока – чужой опыт.
На войне Гаршин был однажды послан на поле недавно минувшего боя – убирать трупы.
Его забытый герой вспоминает, как убил человека, из фляги которого пьет спасительную воду: «Одним ударом я вышиб у него ружье, другим воткнул куда-то свой штык. Что-то не то зарычало, не то застонало…»
10
Выставку Верещагина венчал знаменитый плакатный «Апофеоз войны» – гора черепов посреди неоглядной пустыни: белые, дочиста оглоданные временем черепа, выжженный солнцем песок и выгоревшее небо над ним (надпись на раме: «Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим»).
Герой Гаршина, укрытый от глаз людских густым, колючим кустарником, день за днем поневоле осужден наблюдать, как под палящим солнцем разлагается лежащий рядом труп. «Раз, когда я открыл глаза, чтобы взглянуть на него, я ужаснулся. Лица у него уже не было. Оно сползло с костей. Страшная костяная улыбка, вечная улыбка показалась мне такой отвратительной, такой ужасной, как никогда… Этот скелет в мундире с светлыми пуговицами привел меня в содрогание. «Это война, – подумал я: – вот ее изображение»».
11