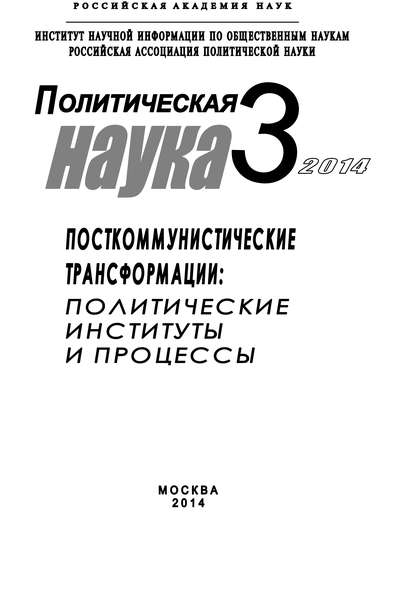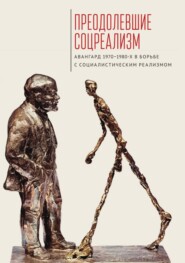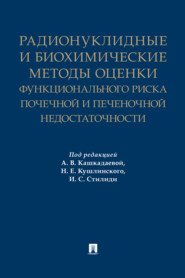По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Политическая наука №3 / 2014. Посткоммунистические трансформации: Политические институты и процессы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Tаблица
Взаимосвязь между политическим режимом, избирательной системой и демократизацией
Примечания: Типология политических режимов, основанная на работе М. Шугарта и Кэри [Shugart, Carey, 1992], фиксирует институциональный выбор каждой страны на начало 1990?х годов; классификация по уровню демократичности – на «The economist intelligence unit’s index of democracy 2010». Обратим внимание, что из двух режимов с относительно сильным президентом Молдова стала в 2001 г. парламентской республикой, а Украина несколько раз меняла свою избирательную систему и имела премьер-президентский режим в 2006–2010 гг. Граница между чисто президентским и президентско-парламентским режимом на постсоветском пространстве условна: определять ее только по конституционной формулировке исполнительных полномочий президента некорректно, если роль парламента вообще и в формировании кабинета министров, в частности, чисто номинальна. По первым конституциям президент возглавляет исполнительную власть и / или реально не делит полномочий с парламентом в ее формировании в Туркменистане, Таджикистане, Азербайджане, Казахстане, Киргизии (в последних двух случаях поправки к конституциям наделили парламент более широкими полномочиями в этой области); в Узбекистане и Беларуси формально требуется утверждение кандидатуры премьера парламентом, но парламенты в этих странах никогда не обладали реальной автономией от президентской власти.
Последствия политических решений
Центральная Азия
Обзор преобразований мы начинаем с субрегиона, в котором объективные предпосылки для демократизации со всех точек зрения были менее благоприятными, чем во всех остальных частях посткоммунистического мира, а именно – с Центральной Азии (Киргизстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан). Эти «предпосылки недемократии» включают: самый низкий уровень социально-экономического развития: ВВП на душу населения на старте транзита в Киргизстане составлял 1,697 долл., в Таджикистане – 2,080, в Узбекистане – 1,457 и в Туркменистане – 2,596 долл., и только в Казахстане он был существенно выше – 4,684; все эти страны (тоже за исключением Казахстана) имели средние уровни индекса развития человеческого потенциала, с острыми разрывами между благополучными городскими регионами и крайне слабо развитой инфраструктурой в сельской местности.
Этнический фактор в этих странах требует «стереоскопического» анализа. Все они имели заметное меньшинство европейских (преимущественно – восточнославянских) национальностей (в Казахстане – почти половина населения), это меньшинство было, как правило, городским и более образованным. С одной стороны, наличие такого меньшинства могло бы способствовать либерализации политической жизни, но, с другой стороны, элита коренной нации рассматривала его как угрозу пророссийского ирредентизма и возможное препятствие на пути национального строительства. Почти повсеместно (особенно в Узбекистане) присутствовали и другие меньшинства, но они не сыграли важной роли в политической жизни, если не считать отдельных вспышек насилия на этнической почве, как, например, во время волнений в Киргизии в 2010 г.
Исламский фактор также оценивается неоднозначно. С одной стороны, семь десятилетий светской власти означали, что ислам лишился глубинных корней, а правящая элита была почти исключительно светской. С другой стороны, например, в Ферганской долине (проходящей через Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан) угроза исламского фундаментализма и терроризма существовала на протяжении всего рассматриваемого периода.
Более важным и напрямую влияющим на политические преобразования фактором представляется традиционная (немодернизированная) структура общества, затрудняющая демократизацию. Этот фактор включает в себя и аграрное перенаселение, и клиентелистские системы связи в низах общества, а также клановую структуру всего общества. В сочетании с исламской культурной традицией он порождал эффект, охарактеризованный Э. Геллнером [Gellner, 1994] как «государственность, навязанная городу племенными союзами» – аллюзия, восходящая к знаменитой «Мукаддиме» арабского философа XIV в. Ибн Халдуна. Гражданская война между региональными кланами (с наложением религиозного фактора на территориальный) в Таджикистане, разделение на три племенных союза – жуза – в Казахстане, противостояние «севера» и «юга» в Киргизии – лишь наиболее явные примеры того, как традиционная структура общества влияет на формирование ткани национальной политики.
Еще одна предпосылка «недемократии», как сейчас принято считать, – «нефтяное проклятие». Когда речь идет о странах с невысоким уровнем экономического развития, трудно дать однозначный ответ, является ли наличие в стране запасов минерального топлива благословением или проклятием. Две центральноазиатские страны, не обладающие таким богатством, Таджикистан и Киргизстан, остаются самыми бедными среди посткоммунистических государств, с ВВП на душу населения, едва превышающим 2 тыс. долл. (143?е и 139?е места в 2009 г. по мировой иерархии МВФ) [World economic outlook, 2010]; такая бедность серьезно осложняет не только экономическое, но и политическое развитие. Благополучие остальных трех стран относительно (из-за различий в уровне добычи углеводородов и численности населения): Узбекистан занимает 131?е место, Туркменистан – 104?е, и лишь Казахстан поднялся до 70?го места.
В подобной ситуации политические решения в стране должны приниматься с учетом весьма неблагоприятной конфигурации структурных факторов. Правящие элиты в первую очередь занимались строительством национальной государственности, включая создание «национальных мифов», обеспечением доминирования коренного населения, и в частности – господства «клана правителя» (как бы он ни определялся) в политической сфере. Это фактически и предопределило институциональный выбор в пользу президентской модели с минимальными или нулевыми сдержками и противовесами. В дискурсе власти идея демократии либо звучала чисто декларативно, либо сопровождалась бесчисленными оговорками о «национальной модели», необходимости «воспитания демократической традиции» и т.п. Следует отметить, что в Центральной Азии (за исключением Таджикистана) элиты в наименьшей степени (по сравнению с другими частями постокоммунистического мира) подвергались ротации и обновлению, даже сегодня правящий класс в них состоит из постаревших советских элит и их прямых наследников.
Два центральноазиатских государства – Туркменистан и Узбекистан – практически не заигрывали с идеей демократии, никогда не имели хотя бы формально многопартийных систем, а Туркменистан до последнего времени – даже реального парламента. Киргизия долго считалась наиболее либеральным из всех центральноазиатских государств, а прежний президент А. Акаев имел имидж демократизатора; в Казахстане в 1990?х годах существовала определенная степень плюрализма на выборах, и руководство страны стремилось к созданию позитивного имиджа на Западе; Таджикистан сумел выйти из гражданской войны через соглашение о национальном примирении, разделе власти с оппозицией, и плюрализм в крайне ограниченной форме существует там даже сейчас.
Однако общая оценка актор-ориентированных факторов в этих странах все же негативна для демократизации. Над правящими элитами довлел страх не потери большинства во власти, но даже появления серьезной оппозиции, которая, по их представлениям, дестабилизировала бы ситуацию. Их страхи были разнообразны (в разных комбинациях): вызов со стороны исламских радикалов (которые, по их представлениям, могли бы получить в условиях свободной конкуренции существенную поддержку в отсталых сельских районах); конкуренция со стороны высокообразованного городского восточнославянского населения; усиление популизма в обществе с высоким имущественным расслоением; но самое главное – вызов со стороны конкурирующих кланов и группировок в правящей элите.
Именно с этой целью в государствах Центральной Азии (за исключением Узбекистана) проходили многочисленные референдумы по поправкам к конституциям и продлению срока полномочий президентов (в Казахстане и Узбекистане у власти до сих пор находятся последние руководители республиканских коммунистических партий), реформировались парламенты и менялись избирательные системы, и все эти мероприятия без исключения были направлены на укрепление президентской власти. С. Ниязов, умерший в 2006 г., был пожизненным президентом Туркменистана. Намеренные изменения институтов власти дополнялись жестким контролем над СМИ и пространством Интернета, избыточным применением административного ресурса, т.е. манипуляций на выборах и тому подобным. Результатом этих процессов явились не только консолидация власти, но и радикальное сокращение политического плюрализма.
Единственным исключением из этого общего тренда стал Киргизстан. Опасаясь цветной революции, президент А. Акаев прибег к жесткому контролю над парламентскими выборами 2005 г., в результате чего последовал государственный переворот, получивший название тюльпановой революции; новое руководство стало фактической коалицией северных и южных кланов, которые на протяжении первых двух лет делили власть. Однако постепенно новый президент К. Бакиев добился такой степени концентрации власти и ресурсов, что оппозиция (состоявшая не только из северян, но и из части его собственных южан) восстала и свергла президента, – отметим, что это произошло вскоре после того, как Бакиев выступил с идеей «консультативной демократии», при которой оппозиция дает советы и критикует правительство, но не участвует в борьбе за власть. Переходная администрация Киргизии разработала новую конституцию, в соответствии с которой во второй раз в современной истории страны предпринимается попытка ввести систему разделения властей. Выборы в октябре 2010 г. привели к образованию многопартийного парламента и трехпартийной правительственной коалиции, которая обрела власть в конце 2010 г. и продемонстрировала свою жизнеспособность.
Подводя итоги, мы можем заключить, что в Центральной Азии объективные предпосылки (быть может, в некотором смысле исключением является Казахстан?) были неблагоприятными для демократизации. Однако действия политических акторов практически ничего не изменили в этой ситуации, напротив, они еще более отдалили даже гипотетические перспективы демократических изменений. Стороннему наблюдателю непросто оценить, насколько преувеличенными были «страхи перед плюрализмом», испытываемые центральноазиатскими правящими элитами. Единственное, что не подлежит сомнению: ничего не было сделано для создания механизмов разрешения межэлитных конфликтов (Киргизию, пожалуй, следует признать исключением, но и там эти попытки до недавнего прошлого оказывались малоэффективными). По крайней мере в тех странах, где объективные условия были менее неблагоприятными, вполне возможной представлялась большая степень плюрализма, которая могла бы породить более либеральную политическую атмосферу, способствующую видоизменению неблагоприятных структурных предпосылок.
Таким образом, в центральноазиатском субрегионе наблюдалась тесная корреляция негативных объективных предпосылок с действиями политических акторов, препятствующих демократизации. В других частях посткоммунистического пространства мы будем наблюдать как более мягкие наборы структурных предпосылок, так и большее разнообразие политических стратегий.
Закавказье
В трех государствах Закавказья (Армения, Азербайджан и Грузия) структурные предпосылки носили неоднозначный характер.
Из социально-экономических условий ключевым фактором следует признать не уровень экономического развития, не индекс человеческого развития (оба показателя там ниже среднего по пост-коммунистическому миру), а разрушительные войны, через которые все три государства прошли в начале 90?х годов прошлого века. Грузия и Азербайджан утратили в пользу сепаратистов часть своей территории, и травма этой потери и приток беженцев еще более понизили шансы на демократизацию. Разумеется, побочным эффектом такого раскола стала более высокая этническая гомогенность нации, но в отличие от Молдовы, рассматриваемой ниже, мы не можем объективно оценить влияние этого фактора на политическое развитие. Армения в результате войны получила в качестве союзника самопровозглашенное и непризнанное государство – Нагорный Карабах, но одним из последствий военных действий стало доминирование ветеранов этой войны (выходцев как из Карабаха, так и из самой Армении) в национальной политике. При всех этих различиях, Армения и Грузия прошли через отчаянно плохую экономическую ситуацию, а Азербайджан столкнулся с проблемой аграрного перенаселения. Экономически мотивированная эмиграция из всех трех государств была и остается важной проблемой развития.
Христианская политическая культура Грузии и Армении и попытки их сближения с Западом способствовали демократизации; Азербайджан выстроил тесные отношения с Турцией и также искал сближения с Западом в целях модернизации страны.
Влияние ислама в шиитском Азербайджане было слабее, чем в Центральной Азии (по меньшей мере, там не было исламских фундаменталистов), слабее было и влияние традиционных общественных институтов, но оба эти фактора все же присутствовали в политической жизни. Азербайджан – единственная из трех стран, отмеченная «нефтяным проклятием», проблемой для политического развития, но в то же время – благословением для экономики.
В таких условиях Грузия и Армения были более предрасположены к плюралистической политике, но, в отличие от западной части посткоммунистического мира, «вестернизация» оставалась лишь общей концепцией, зачастую подрываемой борьбой за власть. В политике Азербайджана «вестернизации» отводилась меньшая роль.
Все три государства не избежали насильственных смен власти. Президенты Гамсахурдия в Грузии, Муталибов и Эльчибей в Азербайджане были свергнуты (добавим попытку переворота в Азербайджане в 1995 г.); цветная революция отстранила от власти Шеварднадзе в Грузии; «тихий переворот» произошел в 1998 г. в Армении, когда первый президент Тер-Петросян был вынужден уйти в отставку, высшие руководители армянского государства (включая сильного премьер-министра и спикера парламента и бывшего кандидата в президенты) были расстреляны в стенах парламента. В Армении (в 1996 и 2008 гг.) и Грузии (в 2008 г.) имели место массовые протесты против результатов президентских выборов, а качество этих выборов подвергалось серьезной критике со стороны международных наблюдателей (тем не менее в целом признавших итоги выборов).
Парадоксальным образом такие коллективные действия и цветную революцию (но не перевороты) можно признать свидетельством того, что режимы в Грузии и Армении не были консолидированными автократиями. В их парламентах существовал плюрализм, законодатели целенаправленно вносили в конституции поправки, направленные на расширение полномочий парламентов. Азербайджан же, напротив, последовательно ужесточал законодательство о партиях и выборах и сохранял сильную президентскую власть, которую умирающий президент Алиев передал в 2003 г. своему сыну Ильхаму.
Азербайджанский пример можно признать мягкой версией центральноазиатского авторитаризма, а остальные две страны – гибридными режимами. В этом случае «гибридность» следует трактовать как сочетание «добрых намерений» политиков с высоким уровнем конфронтации в борьбе за власть и неспособностью элит вырабатывать и соблюдать правила игры, которые могли бы укоренить политический плюрализм.
Восточная Европа
Четыре восточноевропейские страны постсоветского пространства (Беларусь, Молдова, Россия и Украина) со структурной точки зрения, казалось бы, выглядели более предрасположенными к демократизации, и действительно, Украина и Молдова стали электоральными демократиями.
С социально-экономической точки зрения это была самая развитая часть Советского Союза (не считая Прибалтики) во всех отношениях, включая диверсифицированность промышленности, уровень жизни, образования, урбанизации и т.д. За исключением Молдовы (наименее развитой из всех) они и сегодня опережают страны Юго-Восточной Европы, ставшие демократиями. Оборотной стороной высокого уровня развития стало значительное влияние отношений власти и собственности на поведение политических элит. В России, в отличие от остальных трех государств субрегиона, в полную силу действовало так называемое «нефтяное (точнее, нефтегазовое) проклятие»; парадоксальным образом в облегченной форме им заразились Украина и Беларусь: транзит российских углеводородов через их территорию в Европу стал значимой отраслью их экономик.
С точки зрения политической культуры все эти страны были христианскими (преимущественно православными). Значительная часть немалого исламского населения России (в первую очередь, живущего в Поволжье) была модернизирована, но в то же время республики Северного Кавказа сохраняют пережитки традиционных обществ с сильным давлением на традиционный ислам со стороны фундаменталистских тенденций, в которых сохраняются и традиционные клановые структуры.
Беларусь представляет собой относительно гомогенное в этническом плане общество: в отношениях между этническими русскими и белорусами не наблюдалось проблем. На Украине напряженности в отношениях с крымскими татарами были ограниченными по масштабу, а межэтнические отношения русских с украинцами, далеко не идиллические, развивались в политическом поле, внеся свой вклад в углубление водораздела между востоком и западом страны, описываемого ниже. Территориальная целостность Молдовы была нарушена отколом Приднестровья (с более высокой долей восточнославянского населения) после непродолжительной гражданской войны. Однако Молдове этот раскол принес не только национальную травму, но и более высокую степень гомогенности общества, которая способствовала снижению конфронтационности в политике.
Еще один структурный фактор, оказавший (хотя и по-разному) влияние на преобразования во всех странах, – это проблема национальной идентичности. Молдова до сих пор находится в поисках определения своей общности или отличия от Румынии, в то же время находя у себя место для восточнославянского, тюркского и болгарского меньшинств. Раздел между Восточной и Западной Украиной, коррелирующий с определением близости страны к России или Западу, сохраняет первостепенную важность для национальной политики и, по нашему мнению, создает основу объективного плюрализма в украинском обществе, который способствует демократизации. В Беларуси «западный вектор» преобразований был самым слабым из всех европейских посткоммунистических государств, равно как слабейшим было чувство особой национальной идентичности (прозападные националисты в Беларуси остались маргинализированным меньшинством). Наконец, Россия, метрополия прежней империи, была единственной страной на этом пространстве, в которой посткоммунистическое развитие не воспринималось как «национальное возрождение», а, напротив, зачастую трактовалось как «национальная катастрофа». Кроме того, Россия несла уникальное бремя сверхдержавы и обладала огромным ядерным арсеналом, что значительно повышало риски хаотизации политики и косвенно способствовало усилению авторитарных тенденций в политических элитах.
Таким образом, фактор идентичности по-разному проявил себя в этих четырех странах, усиливая демократизационные тенденции в Молдове и на Украине и ослабляя их в Беларуси (однозначно) и России (с оговорками).
Когда речь идет о Беларуси, мы фактически встаем перед дилеммой «курица или яйцо»: побуждала ли слабость национальной идентичности элиту страны к отказу от приватизации и других структурных реформ или, напротив, именно эгоизм элит обусловил замораживание ситуации и отказ от социально-экономических и политических реформ, а со временем побочные эффекты российского нефтяного процветания и экономического роста помогли белорусскому режиму укорениться (при этом, как и в Центральной Азии, ротация элит носила ограниченный характер)? Конституционная реформа, радикально ослабившая полномочия парламента, ничем не сдерживаемая президентская власть, абсолютно марионеточная партийная система, репрессии против оппонентов (включая аресты оппозиционных кандидатов в президенты), манипуляции на выборах – все это роднит белорусский режим с центральноазиатскими. Притом что структурные предпосылки в этой стране были более благоприятными, актор-ориентированные факторы намеренно сохраняли и воспроизводили институциональное устройство, заведомо лишенное плюрализма и либеральных начал.
Молдова представляет собой едва ли не полную противоположность: скорее аграрная, чем индустриальная, значительно отстающая по уровню жизни (ВВП на душу населения в 1992 г. – 2,776 долл.; в 1994 г. – 1,261 долл. и всего лишь 2,975 долл. – в 2008 г.), но вместе с тем это единственная из стран СНГ, которая намеренно строила модель своего политического развития по западному образцу, точнее, следуя примеру соседней и этнически родственной Румынии. Если в Европе последнюю долгое время считали аутсайдером трансформационных процессов, то для Молдовы она выступала моделью и целевым ориентиром модернизации. Даже сегодня душевой ВВП в Молдове в 4,5 раза ниже, чем в Беларуси (что делает ее самым бедным государством в Европе). Приватизация в этой стране запоздала, она остается преимущественно аграрной, значительная часть ее населения работает в Европе и России. Процесс урегулирования конфликта с приднестровскими сепаратистами фактически заморожен. Однако политический режим Молдовы на всех стадиях ее развития обеспечивал стимулы для плюрализма: поражение действующего президента при президентско-парламентской республике, конституционная реформа 2000 г., превратившая страну в парламентскую республику (последняя имела противоречивые последствия и привела к абсолютному доминированию в парламенте Партии коммунистов). Однако режим и при этом доминировании оставался плюралистичным и относительно либеральным, и коммунисты после поражения на выборах 2009 г. были вынуждены уйти из власти. Пример Молдовы показывает, что правильный и последовательный выбор политического курса может демократизировать даже бедную и слаборазвитую страну, но равным образом он показывает, что демократия сама по себе не гарантирует решения экономических проблем. Пройдя через три раунда не давших однозначных результатов выборов в период с апреля 2009 г. по ноябрь 2010 г., неспособная на протяжении двух с половиной лет (до марта 2012 г.) избрать в парламенте президента и достичь действенных соглашений о разделе власти, Молдова демонстрирует как успехи, так и провалы демократизации, вызванной актор-ориентированными факторами.
Украина добилась успехов в демократизации во втором десятилетии своего посткоммунистического развития, а до этого представлялась страной с неэффективным президентским режимом и попытками концентрации президентской власти. Однако корни украинской демократизации следует искать в 90?х годах прошлого века, в плюрализме общества, порожденном расколом на «восток» и «запад» (как описано выше). Этот водораздел сочетался с плюрализмом групп интересов (часто их называют региональными кланами). Эти группы не имеют в реальности ничего общего с одноименными кланами и племенами Центральной Азии, представляющими собой пережитки традиционного общества. Изначально Украина избрала президентско-парламентскую модель с некоторой автономией парламента. Все эти факторы обеспечили успех украинского плюрализма, благодаря которому на Украине – впервые на всем пространстве СНГ (!) – действующий президент потерпел поражение на выборах. На референдуме 2000 г. президент Украины получил поддержку своим начинаниям по расширению полномочий президентской власти, но так и не решился воплотить их в жизнь. Именно этот плюрализм провел Украину через оранжевую революцию и конституционный переход к премьер-президентскому режиму. Демократический опыт, обретенный в 2004–2005 гг., не принес стране ни экономического процветания, ни даже консолидации демократии (хотя власть на президентских выборах и переходила из рук в руки три раза из четырех), но он помог Украине прийти к относительно свободным и честным выборам и дал первые уроки раздела власти и разрешения конфликтов. В отличие от Молдовы, где политические действия элит намеренно развивали плюрализм, украинские элиты к обучению и привыканию к навыкам сосуществования и конкуренции, скорее, принуждались силой обстоятельств.
Очевидно, именно этот фактор позволил молдавской элите сохранить плюралистичность режима в период затяжного политического кризиса. На Украине же победивший на выборах в 2010 г. Виктор Янукович (напомним, не допущенный к власти оранжевой революцией в 2004 г.) отменил конституционные поправки, вводящие премьер-президентскую республику, добился большинства в Верховной раде и осуждения на тюремный срок своего основного соперника, экс-премьера Юлии Тимошенко. Столь жесткие методы концентрации власти ввергли Украину в новый виток политического кризиса и предельно осложнили ее отношения с Евросоюзом. Только следующий раунд выборов (с уже четвертым в истории Украины изменением избирательной системы – на сей раз, от чисто пропорциональной на смешанную) покажет, повернула ли Украина вспять свою демократизацию, или, как это было в 2004–2005 гг., кризис власти вынудит украинскую элиту продолжить строительство плюралистических политических институтов.
Российский случай представляется наиболее проблематичным. Обладающая большими природными богатствами и располагающая в целом благоприятными структурными предпосылками, Россия пережила периоды угрозы распада государственности, сепаратизма Чечни, продолжительной войны на Кавказе и террористической угрозы, не устраненной и поныне. Хотя ротация элит была здесь значительной по масштабу и новая бизнес-элита внесла немалый вклад в формирование сегодняшнего политического класса, именно в России, более чем в любой другой стране постсоветского пространства, элементы старой военно-силовой элиты вошли в политический истеблишмент, и их консервативная ментальность остается значимым обстоятельством в российской политике.
По совокупности объективных и субъективных факторов можно заключить, что с точки зрения поведения политических акторов белорусский сценарий для России все же был более вероятным, чем украинский или молдавский, если бы не существовало еще одного субъективного обстоятельства. Речь о центральной роли российской политической элиты в разгроме коммунизма в самом сердце империи и последовавшего антагонистического раскола в элите и нации в целом. Плюралистичность российской политики в 90?е годы не была тождественна демократии, но она помогла преодолеть антагонизм в отношениях с элитой «старого режима» и заложила основы рыночной экономики. Президентско-парламентская республика для такого режима представлялась оптимальным режимом: более сильный оппозиционный парламент заблокировал бы реформы, еще более сильное президентство сделало бы режим слишком похожим на белорусский.
Попятное движение следующего десятилетия может объясняться как объективными, так и субъективными факторами: восстановление дееспособности государства (в любом случае неизбежное после кризиса легитимности власти 1990?х годов), радикальный рост доходов от нефти, постоянные «фантомные боли» потерянной империи и страхи конкуренции за власть и собственность в стране, которая прошла через крайне противоречивую приватизацию огромных экономических активов. Эти явления de facto означали, что к началу нынешнего века в России сложилась новая, более негативная конфигурация структурных и актор-ориентированных факторов. Еще более усилило антидемократизационные тенденции неприятие цветных революций: в реакции на них правящей элиты и преувеличенное представление о роли Запада в этих событиях на «заднем дворе» России, и боязнь возможного повторения таких событий на российской почве.
Не подлежит сомнению, что демократизация в России должна была бы носить более осторожный и эволюционный характер, чем в других европейских постсоветских государствах, и озабоченность российских политических элит сохранением стабильности и минимизацией рисков вполне понятна: и изначальная степень антагонизма (продемонстрированная, в частности, расстрелом мятежного парламента в октябре 1993 г.), и страх хаоса в ядерной сверхдержаве убедительно объясняют нежелание российских элит идти на риск. Однако при этом не подлежит сомнению, что степень плюралистичности российской политики за минувшее десятилетие существенно снизилась, входные барьеры на рынке политической конкуренции ощутимо выросли, а качество электоральных процедур подвергается все более суровой критике.
Набор структурных условий в России был слишком сложным, а потому уникальным, вряд ли способным дать почву для обобщений. Один урок из российского опыта все же можно извлечь: негативные предпосылки для демократизации могут возникать или усугубляться и по ходу трансформационных процессов, а набор негативных явлений не ограничивается неудачами в экономическом развитии, напротив, такую роль может сыграть и экономический рост, основанный на «нефтяном проклятии». Российские элиты были вынуждены играть по правилам плюрализма и искать компромиссы именно тогда, когда страна жила в условиях жестких расколов, а ее переходная экономика лежала в руинах. Когда же эти расколы были преодолены, а экономика стала демонстрировать уверенный рост, нужда в «плюрализме поневоле» отпала, и политика стала функцией от объективных условий.
Возможно, именно Россия демонстрирует, что взаимовлияние структурных и процедурных факторов носит «спиралевидный» характер. Более высокий уровень социально-экономического развития и быстрый рост в первом десятилетии века привели к тому, что экономический кризис (который Россия, кстати, пережила относительно мягко благодаря накопленным на экспортных доходах резервам) породил острое расхождение между ожиданиями граждан (в первую очередь – сформировавшегося среднего класса). Последовавшее падение доверия эффективности власти усугубилось шоками от ее фактической несменяемости (когда стало ясно, что страну вновь возглавит В. Путин) и нарушений на выборах, привело к массовым и повторяющимся уличным протестам.
Под влиянием этих протестов российский правящий класс пошел на ограниченные реформы политической системы, демонтирующие некоторые ограничители плюрализма, возведенные в минувшее десятилетие. Однако страх утраты монополии на власть и связанный с ней контроль над экономическими активами порождают и типичную для «царя горы» охранительную тенденцию: либерализация законодательства о партиях и возвращение прямых выборов губернаторов обставляются существенными ограничениями, ужесточается законодательная рамка для публичных акций и деятельности неправительственных организаций. Объективно ситуация требует от власти преодоления отставания политической системы от «переросшего» ее общества, однако государство надеется реализовать некий «необонапартистский» сценарий (Пшеворский), в котором оно будет способно управлять чуть расширившимся плюрализмом при помощи более изощренного арсенала ограничителей для оппозиции и гражданского общества.
Выводы
Дает ли проведенный анализ какое-либо новое знание о факторах, способствующих или препятствующих демократизации или иным образом влияющих на исход преобразований? Ответ, скорее всего, будет положительным, но не детерминистским.
Если мы рассмотрим в качестве наиболее объективной предпосылки уровень социально-экономического развития, то обнаружим, что среди стран с уровнем душевого ВВП выше среднемирового (10,725 долл., согласно данным МВФ за 2010 г.) крайне мало недемократий. По большей части, это «ресурсно проклятые» авторитарные режимы Персидского залива и другие нефтедобывающие государства; выше этой планки находятся также гибридные режимы Венесуэлы, России (страны с «нефтегазовым проклятием»), Беларуси (по нашей логике, испытывающей «нефтяное проклятие» в легкой форме). Из этого наблюдения следуют несколько выводов.
1. Как бы мы ни определяли итоги трансформаций конца ХХ – начала XXI в., они сделали демократию доминирующей формой общественного устройства в зажиточных странах, хотя и не без серьезных оговорок, и выходящей за пределы традиционного домена иудеохристианской цивилизации. В нашей выборке пост-коммунистических стран все государства с уровнем благосостояния выше среднемирового и не испытывающие «нефтяного проклятия» превратились в демократии разного уровня совершенства (Беларусь может считаться некоторым исключением).
2. «Ресурсное проклятие» (в большинстве случаев синонимичное «проклятию нефтяному») становится важной переменной, объясняющей, почему зажиточные страны не становятся демократиями. Как свидетельствует индекс демократии журнала «Economist» за 2010 г., если ввести экспорт нефти как «фиктивную переменную» в корреляцию между уровнем развития демократии и душевым доходом, значение корреляционного показателя в этой регрессии практически удваивается (с одной трети до 60%). Воздействие «ресурсного проклятия» на политическое развитие анализировалось многократно [Huntington, 1991; Ross, 2001; Diamond, 2003; Treisman, 2010; Полтерович, Попов, Тонис, 2008]. Мы хотели бы добавить к этому анализу лишь один важный нюанс: в переходных обществах «ресурсное проклятие» зачастую предопределяет вектор политического курса. Оно не только наделяет правителей ресурсами для содержания репрессивного аппарата и перераспределения материальных благ, но, что особенно важно, дает им возможность уклоняться или бесконечно откладывать перемены в любом смысле этого слова: оно помогает правящей элите укорениться, строить узкие распределительные коалиции, уделять меньшее внимание эффективности управления, поддерживать жизнеспособность устаревших политических практик (архаичных, традиционных, авторитарных). Соответственно, элиты в этих странах мотивированы на концентрацию властных полномочий, максимизацию экономической и политической ренты, усугубляемой, как мы показали, еще большими страхами ее утраты, а не на раздел их и создание механизмов выработки компромиссов: доминированию власти в таких государствах труднее бросить вызов. Ни одна из посткоммунистических стран с высоким уровнем нефтедобычи не добилась успехов в демократизации.
3. В современном мире бедные государства имеют шанс не только на демократизацию, но и на жизнеспособность демократии. На посткоммунистическом пространстве мы находим лишь один (и то не бесспорный) пример того, как бедность оказала влияние на процесс преобразований, способных в принципе превратиться в демократизацию, – Киргизстан (и то в сочетании с другими факторами). Молдова и Монголия, Македония и Черногория добились в демократизации существенного прогресса. Однако демократизация в этих странах нуждается в более пристальном анализе с рассмотрением каждого фактора, объясняющего ее успехи и неудачи. Например, можно было бы сравнить наборы структурных предпосылок и актор-ориентированных факторов в этих «не вполне зажиточных» странах, с одной стороны, и в «гибридных» странах с сопоставимым уровнем душевого дохода (например, Грузии или Армении) – с другой.
Взаимосвязь между политическим режимом, избирательной системой и демократизацией
Примечания: Типология политических режимов, основанная на работе М. Шугарта и Кэри [Shugart, Carey, 1992], фиксирует институциональный выбор каждой страны на начало 1990?х годов; классификация по уровню демократичности – на «The economist intelligence unit’s index of democracy 2010». Обратим внимание, что из двух режимов с относительно сильным президентом Молдова стала в 2001 г. парламентской республикой, а Украина несколько раз меняла свою избирательную систему и имела премьер-президентский режим в 2006–2010 гг. Граница между чисто президентским и президентско-парламентским режимом на постсоветском пространстве условна: определять ее только по конституционной формулировке исполнительных полномочий президента некорректно, если роль парламента вообще и в формировании кабинета министров, в частности, чисто номинальна. По первым конституциям президент возглавляет исполнительную власть и / или реально не делит полномочий с парламентом в ее формировании в Туркменистане, Таджикистане, Азербайджане, Казахстане, Киргизии (в последних двух случаях поправки к конституциям наделили парламент более широкими полномочиями в этой области); в Узбекистане и Беларуси формально требуется утверждение кандидатуры премьера парламентом, но парламенты в этих странах никогда не обладали реальной автономией от президентской власти.
Последствия политических решений
Центральная Азия
Обзор преобразований мы начинаем с субрегиона, в котором объективные предпосылки для демократизации со всех точек зрения были менее благоприятными, чем во всех остальных частях посткоммунистического мира, а именно – с Центральной Азии (Киргизстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан). Эти «предпосылки недемократии» включают: самый низкий уровень социально-экономического развития: ВВП на душу населения на старте транзита в Киргизстане составлял 1,697 долл., в Таджикистане – 2,080, в Узбекистане – 1,457 и в Туркменистане – 2,596 долл., и только в Казахстане он был существенно выше – 4,684; все эти страны (тоже за исключением Казахстана) имели средние уровни индекса развития человеческого потенциала, с острыми разрывами между благополучными городскими регионами и крайне слабо развитой инфраструктурой в сельской местности.
Этнический фактор в этих странах требует «стереоскопического» анализа. Все они имели заметное меньшинство европейских (преимущественно – восточнославянских) национальностей (в Казахстане – почти половина населения), это меньшинство было, как правило, городским и более образованным. С одной стороны, наличие такого меньшинства могло бы способствовать либерализации политической жизни, но, с другой стороны, элита коренной нации рассматривала его как угрозу пророссийского ирредентизма и возможное препятствие на пути национального строительства. Почти повсеместно (особенно в Узбекистане) присутствовали и другие меньшинства, но они не сыграли важной роли в политической жизни, если не считать отдельных вспышек насилия на этнической почве, как, например, во время волнений в Киргизии в 2010 г.
Исламский фактор также оценивается неоднозначно. С одной стороны, семь десятилетий светской власти означали, что ислам лишился глубинных корней, а правящая элита была почти исключительно светской. С другой стороны, например, в Ферганской долине (проходящей через Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан) угроза исламского фундаментализма и терроризма существовала на протяжении всего рассматриваемого периода.
Более важным и напрямую влияющим на политические преобразования фактором представляется традиционная (немодернизированная) структура общества, затрудняющая демократизацию. Этот фактор включает в себя и аграрное перенаселение, и клиентелистские системы связи в низах общества, а также клановую структуру всего общества. В сочетании с исламской культурной традицией он порождал эффект, охарактеризованный Э. Геллнером [Gellner, 1994] как «государственность, навязанная городу племенными союзами» – аллюзия, восходящая к знаменитой «Мукаддиме» арабского философа XIV в. Ибн Халдуна. Гражданская война между региональными кланами (с наложением религиозного фактора на территориальный) в Таджикистане, разделение на три племенных союза – жуза – в Казахстане, противостояние «севера» и «юга» в Киргизии – лишь наиболее явные примеры того, как традиционная структура общества влияет на формирование ткани национальной политики.
Еще одна предпосылка «недемократии», как сейчас принято считать, – «нефтяное проклятие». Когда речь идет о странах с невысоким уровнем экономического развития, трудно дать однозначный ответ, является ли наличие в стране запасов минерального топлива благословением или проклятием. Две центральноазиатские страны, не обладающие таким богатством, Таджикистан и Киргизстан, остаются самыми бедными среди посткоммунистических государств, с ВВП на душу населения, едва превышающим 2 тыс. долл. (143?е и 139?е места в 2009 г. по мировой иерархии МВФ) [World economic outlook, 2010]; такая бедность серьезно осложняет не только экономическое, но и политическое развитие. Благополучие остальных трех стран относительно (из-за различий в уровне добычи углеводородов и численности населения): Узбекистан занимает 131?е место, Туркменистан – 104?е, и лишь Казахстан поднялся до 70?го места.
В подобной ситуации политические решения в стране должны приниматься с учетом весьма неблагоприятной конфигурации структурных факторов. Правящие элиты в первую очередь занимались строительством национальной государственности, включая создание «национальных мифов», обеспечением доминирования коренного населения, и в частности – господства «клана правителя» (как бы он ни определялся) в политической сфере. Это фактически и предопределило институциональный выбор в пользу президентской модели с минимальными или нулевыми сдержками и противовесами. В дискурсе власти идея демократии либо звучала чисто декларативно, либо сопровождалась бесчисленными оговорками о «национальной модели», необходимости «воспитания демократической традиции» и т.п. Следует отметить, что в Центральной Азии (за исключением Таджикистана) элиты в наименьшей степени (по сравнению с другими частями постокоммунистического мира) подвергались ротации и обновлению, даже сегодня правящий класс в них состоит из постаревших советских элит и их прямых наследников.
Два центральноазиатских государства – Туркменистан и Узбекистан – практически не заигрывали с идеей демократии, никогда не имели хотя бы формально многопартийных систем, а Туркменистан до последнего времени – даже реального парламента. Киргизия долго считалась наиболее либеральным из всех центральноазиатских государств, а прежний президент А. Акаев имел имидж демократизатора; в Казахстане в 1990?х годах существовала определенная степень плюрализма на выборах, и руководство страны стремилось к созданию позитивного имиджа на Западе; Таджикистан сумел выйти из гражданской войны через соглашение о национальном примирении, разделе власти с оппозицией, и плюрализм в крайне ограниченной форме существует там даже сейчас.
Однако общая оценка актор-ориентированных факторов в этих странах все же негативна для демократизации. Над правящими элитами довлел страх не потери большинства во власти, но даже появления серьезной оппозиции, которая, по их представлениям, дестабилизировала бы ситуацию. Их страхи были разнообразны (в разных комбинациях): вызов со стороны исламских радикалов (которые, по их представлениям, могли бы получить в условиях свободной конкуренции существенную поддержку в отсталых сельских районах); конкуренция со стороны высокообразованного городского восточнославянского населения; усиление популизма в обществе с высоким имущественным расслоением; но самое главное – вызов со стороны конкурирующих кланов и группировок в правящей элите.
Именно с этой целью в государствах Центральной Азии (за исключением Узбекистана) проходили многочисленные референдумы по поправкам к конституциям и продлению срока полномочий президентов (в Казахстане и Узбекистане у власти до сих пор находятся последние руководители республиканских коммунистических партий), реформировались парламенты и менялись избирательные системы, и все эти мероприятия без исключения были направлены на укрепление президентской власти. С. Ниязов, умерший в 2006 г., был пожизненным президентом Туркменистана. Намеренные изменения институтов власти дополнялись жестким контролем над СМИ и пространством Интернета, избыточным применением административного ресурса, т.е. манипуляций на выборах и тому подобным. Результатом этих процессов явились не только консолидация власти, но и радикальное сокращение политического плюрализма.
Единственным исключением из этого общего тренда стал Киргизстан. Опасаясь цветной революции, президент А. Акаев прибег к жесткому контролю над парламентскими выборами 2005 г., в результате чего последовал государственный переворот, получивший название тюльпановой революции; новое руководство стало фактической коалицией северных и южных кланов, которые на протяжении первых двух лет делили власть. Однако постепенно новый президент К. Бакиев добился такой степени концентрации власти и ресурсов, что оппозиция (состоявшая не только из северян, но и из части его собственных южан) восстала и свергла президента, – отметим, что это произошло вскоре после того, как Бакиев выступил с идеей «консультативной демократии», при которой оппозиция дает советы и критикует правительство, но не участвует в борьбе за власть. Переходная администрация Киргизии разработала новую конституцию, в соответствии с которой во второй раз в современной истории страны предпринимается попытка ввести систему разделения властей. Выборы в октябре 2010 г. привели к образованию многопартийного парламента и трехпартийной правительственной коалиции, которая обрела власть в конце 2010 г. и продемонстрировала свою жизнеспособность.
Подводя итоги, мы можем заключить, что в Центральной Азии объективные предпосылки (быть может, в некотором смысле исключением является Казахстан?) были неблагоприятными для демократизации. Однако действия политических акторов практически ничего не изменили в этой ситуации, напротив, они еще более отдалили даже гипотетические перспективы демократических изменений. Стороннему наблюдателю непросто оценить, насколько преувеличенными были «страхи перед плюрализмом», испытываемые центральноазиатскими правящими элитами. Единственное, что не подлежит сомнению: ничего не было сделано для создания механизмов разрешения межэлитных конфликтов (Киргизию, пожалуй, следует признать исключением, но и там эти попытки до недавнего прошлого оказывались малоэффективными). По крайней мере в тех странах, где объективные условия были менее неблагоприятными, вполне возможной представлялась большая степень плюрализма, которая могла бы породить более либеральную политическую атмосферу, способствующую видоизменению неблагоприятных структурных предпосылок.
Таким образом, в центральноазиатском субрегионе наблюдалась тесная корреляция негативных объективных предпосылок с действиями политических акторов, препятствующих демократизации. В других частях посткоммунистического пространства мы будем наблюдать как более мягкие наборы структурных предпосылок, так и большее разнообразие политических стратегий.
Закавказье
В трех государствах Закавказья (Армения, Азербайджан и Грузия) структурные предпосылки носили неоднозначный характер.
Из социально-экономических условий ключевым фактором следует признать не уровень экономического развития, не индекс человеческого развития (оба показателя там ниже среднего по пост-коммунистическому миру), а разрушительные войны, через которые все три государства прошли в начале 90?х годов прошлого века. Грузия и Азербайджан утратили в пользу сепаратистов часть своей территории, и травма этой потери и приток беженцев еще более понизили шансы на демократизацию. Разумеется, побочным эффектом такого раскола стала более высокая этническая гомогенность нации, но в отличие от Молдовы, рассматриваемой ниже, мы не можем объективно оценить влияние этого фактора на политическое развитие. Армения в результате войны получила в качестве союзника самопровозглашенное и непризнанное государство – Нагорный Карабах, но одним из последствий военных действий стало доминирование ветеранов этой войны (выходцев как из Карабаха, так и из самой Армении) в национальной политике. При всех этих различиях, Армения и Грузия прошли через отчаянно плохую экономическую ситуацию, а Азербайджан столкнулся с проблемой аграрного перенаселения. Экономически мотивированная эмиграция из всех трех государств была и остается важной проблемой развития.
Христианская политическая культура Грузии и Армении и попытки их сближения с Западом способствовали демократизации; Азербайджан выстроил тесные отношения с Турцией и также искал сближения с Западом в целях модернизации страны.
Влияние ислама в шиитском Азербайджане было слабее, чем в Центральной Азии (по меньшей мере, там не было исламских фундаменталистов), слабее было и влияние традиционных общественных институтов, но оба эти фактора все же присутствовали в политической жизни. Азербайджан – единственная из трех стран, отмеченная «нефтяным проклятием», проблемой для политического развития, но в то же время – благословением для экономики.
В таких условиях Грузия и Армения были более предрасположены к плюралистической политике, но, в отличие от западной части посткоммунистического мира, «вестернизация» оставалась лишь общей концепцией, зачастую подрываемой борьбой за власть. В политике Азербайджана «вестернизации» отводилась меньшая роль.
Все три государства не избежали насильственных смен власти. Президенты Гамсахурдия в Грузии, Муталибов и Эльчибей в Азербайджане были свергнуты (добавим попытку переворота в Азербайджане в 1995 г.); цветная революция отстранила от власти Шеварднадзе в Грузии; «тихий переворот» произошел в 1998 г. в Армении, когда первый президент Тер-Петросян был вынужден уйти в отставку, высшие руководители армянского государства (включая сильного премьер-министра и спикера парламента и бывшего кандидата в президенты) были расстреляны в стенах парламента. В Армении (в 1996 и 2008 гг.) и Грузии (в 2008 г.) имели место массовые протесты против результатов президентских выборов, а качество этих выборов подвергалось серьезной критике со стороны международных наблюдателей (тем не менее в целом признавших итоги выборов).
Парадоксальным образом такие коллективные действия и цветную революцию (но не перевороты) можно признать свидетельством того, что режимы в Грузии и Армении не были консолидированными автократиями. В их парламентах существовал плюрализм, законодатели целенаправленно вносили в конституции поправки, направленные на расширение полномочий парламентов. Азербайджан же, напротив, последовательно ужесточал законодательство о партиях и выборах и сохранял сильную президентскую власть, которую умирающий президент Алиев передал в 2003 г. своему сыну Ильхаму.
Азербайджанский пример можно признать мягкой версией центральноазиатского авторитаризма, а остальные две страны – гибридными режимами. В этом случае «гибридность» следует трактовать как сочетание «добрых намерений» политиков с высоким уровнем конфронтации в борьбе за власть и неспособностью элит вырабатывать и соблюдать правила игры, которые могли бы укоренить политический плюрализм.
Восточная Европа
Четыре восточноевропейские страны постсоветского пространства (Беларусь, Молдова, Россия и Украина) со структурной точки зрения, казалось бы, выглядели более предрасположенными к демократизации, и действительно, Украина и Молдова стали электоральными демократиями.
С социально-экономической точки зрения это была самая развитая часть Советского Союза (не считая Прибалтики) во всех отношениях, включая диверсифицированность промышленности, уровень жизни, образования, урбанизации и т.д. За исключением Молдовы (наименее развитой из всех) они и сегодня опережают страны Юго-Восточной Европы, ставшие демократиями. Оборотной стороной высокого уровня развития стало значительное влияние отношений власти и собственности на поведение политических элит. В России, в отличие от остальных трех государств субрегиона, в полную силу действовало так называемое «нефтяное (точнее, нефтегазовое) проклятие»; парадоксальным образом в облегченной форме им заразились Украина и Беларусь: транзит российских углеводородов через их территорию в Европу стал значимой отраслью их экономик.
С точки зрения политической культуры все эти страны были христианскими (преимущественно православными). Значительная часть немалого исламского населения России (в первую очередь, живущего в Поволжье) была модернизирована, но в то же время республики Северного Кавказа сохраняют пережитки традиционных обществ с сильным давлением на традиционный ислам со стороны фундаменталистских тенденций, в которых сохраняются и традиционные клановые структуры.
Беларусь представляет собой относительно гомогенное в этническом плане общество: в отношениях между этническими русскими и белорусами не наблюдалось проблем. На Украине напряженности в отношениях с крымскими татарами были ограниченными по масштабу, а межэтнические отношения русских с украинцами, далеко не идиллические, развивались в политическом поле, внеся свой вклад в углубление водораздела между востоком и западом страны, описываемого ниже. Территориальная целостность Молдовы была нарушена отколом Приднестровья (с более высокой долей восточнославянского населения) после непродолжительной гражданской войны. Однако Молдове этот раскол принес не только национальную травму, но и более высокую степень гомогенности общества, которая способствовала снижению конфронтационности в политике.
Еще один структурный фактор, оказавший (хотя и по-разному) влияние на преобразования во всех странах, – это проблема национальной идентичности. Молдова до сих пор находится в поисках определения своей общности или отличия от Румынии, в то же время находя у себя место для восточнославянского, тюркского и болгарского меньшинств. Раздел между Восточной и Западной Украиной, коррелирующий с определением близости страны к России или Западу, сохраняет первостепенную важность для национальной политики и, по нашему мнению, создает основу объективного плюрализма в украинском обществе, который способствует демократизации. В Беларуси «западный вектор» преобразований был самым слабым из всех европейских посткоммунистических государств, равно как слабейшим было чувство особой национальной идентичности (прозападные националисты в Беларуси остались маргинализированным меньшинством). Наконец, Россия, метрополия прежней империи, была единственной страной на этом пространстве, в которой посткоммунистическое развитие не воспринималось как «национальное возрождение», а, напротив, зачастую трактовалось как «национальная катастрофа». Кроме того, Россия несла уникальное бремя сверхдержавы и обладала огромным ядерным арсеналом, что значительно повышало риски хаотизации политики и косвенно способствовало усилению авторитарных тенденций в политических элитах.
Таким образом, фактор идентичности по-разному проявил себя в этих четырех странах, усиливая демократизационные тенденции в Молдове и на Украине и ослабляя их в Беларуси (однозначно) и России (с оговорками).
Когда речь идет о Беларуси, мы фактически встаем перед дилеммой «курица или яйцо»: побуждала ли слабость национальной идентичности элиту страны к отказу от приватизации и других структурных реформ или, напротив, именно эгоизм элит обусловил замораживание ситуации и отказ от социально-экономических и политических реформ, а со временем побочные эффекты российского нефтяного процветания и экономического роста помогли белорусскому режиму укорениться (при этом, как и в Центральной Азии, ротация элит носила ограниченный характер)? Конституционная реформа, радикально ослабившая полномочия парламента, ничем не сдерживаемая президентская власть, абсолютно марионеточная партийная система, репрессии против оппонентов (включая аресты оппозиционных кандидатов в президенты), манипуляции на выборах – все это роднит белорусский режим с центральноазиатскими. Притом что структурные предпосылки в этой стране были более благоприятными, актор-ориентированные факторы намеренно сохраняли и воспроизводили институциональное устройство, заведомо лишенное плюрализма и либеральных начал.
Молдова представляет собой едва ли не полную противоположность: скорее аграрная, чем индустриальная, значительно отстающая по уровню жизни (ВВП на душу населения в 1992 г. – 2,776 долл.; в 1994 г. – 1,261 долл. и всего лишь 2,975 долл. – в 2008 г.), но вместе с тем это единственная из стран СНГ, которая намеренно строила модель своего политического развития по западному образцу, точнее, следуя примеру соседней и этнически родственной Румынии. Если в Европе последнюю долгое время считали аутсайдером трансформационных процессов, то для Молдовы она выступала моделью и целевым ориентиром модернизации. Даже сегодня душевой ВВП в Молдове в 4,5 раза ниже, чем в Беларуси (что делает ее самым бедным государством в Европе). Приватизация в этой стране запоздала, она остается преимущественно аграрной, значительная часть ее населения работает в Европе и России. Процесс урегулирования конфликта с приднестровскими сепаратистами фактически заморожен. Однако политический режим Молдовы на всех стадиях ее развития обеспечивал стимулы для плюрализма: поражение действующего президента при президентско-парламентской республике, конституционная реформа 2000 г., превратившая страну в парламентскую республику (последняя имела противоречивые последствия и привела к абсолютному доминированию в парламенте Партии коммунистов). Однако режим и при этом доминировании оставался плюралистичным и относительно либеральным, и коммунисты после поражения на выборах 2009 г. были вынуждены уйти из власти. Пример Молдовы показывает, что правильный и последовательный выбор политического курса может демократизировать даже бедную и слаборазвитую страну, но равным образом он показывает, что демократия сама по себе не гарантирует решения экономических проблем. Пройдя через три раунда не давших однозначных результатов выборов в период с апреля 2009 г. по ноябрь 2010 г., неспособная на протяжении двух с половиной лет (до марта 2012 г.) избрать в парламенте президента и достичь действенных соглашений о разделе власти, Молдова демонстрирует как успехи, так и провалы демократизации, вызванной актор-ориентированными факторами.
Украина добилась успехов в демократизации во втором десятилетии своего посткоммунистического развития, а до этого представлялась страной с неэффективным президентским режимом и попытками концентрации президентской власти. Однако корни украинской демократизации следует искать в 90?х годах прошлого века, в плюрализме общества, порожденном расколом на «восток» и «запад» (как описано выше). Этот водораздел сочетался с плюрализмом групп интересов (часто их называют региональными кланами). Эти группы не имеют в реальности ничего общего с одноименными кланами и племенами Центральной Азии, представляющими собой пережитки традиционного общества. Изначально Украина избрала президентско-парламентскую модель с некоторой автономией парламента. Все эти факторы обеспечили успех украинского плюрализма, благодаря которому на Украине – впервые на всем пространстве СНГ (!) – действующий президент потерпел поражение на выборах. На референдуме 2000 г. президент Украины получил поддержку своим начинаниям по расширению полномочий президентской власти, но так и не решился воплотить их в жизнь. Именно этот плюрализм провел Украину через оранжевую революцию и конституционный переход к премьер-президентскому режиму. Демократический опыт, обретенный в 2004–2005 гг., не принес стране ни экономического процветания, ни даже консолидации демократии (хотя власть на президентских выборах и переходила из рук в руки три раза из четырех), но он помог Украине прийти к относительно свободным и честным выборам и дал первые уроки раздела власти и разрешения конфликтов. В отличие от Молдовы, где политические действия элит намеренно развивали плюрализм, украинские элиты к обучению и привыканию к навыкам сосуществования и конкуренции, скорее, принуждались силой обстоятельств.
Очевидно, именно этот фактор позволил молдавской элите сохранить плюралистичность режима в период затяжного политического кризиса. На Украине же победивший на выборах в 2010 г. Виктор Янукович (напомним, не допущенный к власти оранжевой революцией в 2004 г.) отменил конституционные поправки, вводящие премьер-президентскую республику, добился большинства в Верховной раде и осуждения на тюремный срок своего основного соперника, экс-премьера Юлии Тимошенко. Столь жесткие методы концентрации власти ввергли Украину в новый виток политического кризиса и предельно осложнили ее отношения с Евросоюзом. Только следующий раунд выборов (с уже четвертым в истории Украины изменением избирательной системы – на сей раз, от чисто пропорциональной на смешанную) покажет, повернула ли Украина вспять свою демократизацию, или, как это было в 2004–2005 гг., кризис власти вынудит украинскую элиту продолжить строительство плюралистических политических институтов.
Российский случай представляется наиболее проблематичным. Обладающая большими природными богатствами и располагающая в целом благоприятными структурными предпосылками, Россия пережила периоды угрозы распада государственности, сепаратизма Чечни, продолжительной войны на Кавказе и террористической угрозы, не устраненной и поныне. Хотя ротация элит была здесь значительной по масштабу и новая бизнес-элита внесла немалый вклад в формирование сегодняшнего политического класса, именно в России, более чем в любой другой стране постсоветского пространства, элементы старой военно-силовой элиты вошли в политический истеблишмент, и их консервативная ментальность остается значимым обстоятельством в российской политике.
По совокупности объективных и субъективных факторов можно заключить, что с точки зрения поведения политических акторов белорусский сценарий для России все же был более вероятным, чем украинский или молдавский, если бы не существовало еще одного субъективного обстоятельства. Речь о центральной роли российской политической элиты в разгроме коммунизма в самом сердце империи и последовавшего антагонистического раскола в элите и нации в целом. Плюралистичность российской политики в 90?е годы не была тождественна демократии, но она помогла преодолеть антагонизм в отношениях с элитой «старого режима» и заложила основы рыночной экономики. Президентско-парламентская республика для такого режима представлялась оптимальным режимом: более сильный оппозиционный парламент заблокировал бы реформы, еще более сильное президентство сделало бы режим слишком похожим на белорусский.
Попятное движение следующего десятилетия может объясняться как объективными, так и субъективными факторами: восстановление дееспособности государства (в любом случае неизбежное после кризиса легитимности власти 1990?х годов), радикальный рост доходов от нефти, постоянные «фантомные боли» потерянной империи и страхи конкуренции за власть и собственность в стране, которая прошла через крайне противоречивую приватизацию огромных экономических активов. Эти явления de facto означали, что к началу нынешнего века в России сложилась новая, более негативная конфигурация структурных и актор-ориентированных факторов. Еще более усилило антидемократизационные тенденции неприятие цветных революций: в реакции на них правящей элиты и преувеличенное представление о роли Запада в этих событиях на «заднем дворе» России, и боязнь возможного повторения таких событий на российской почве.
Не подлежит сомнению, что демократизация в России должна была бы носить более осторожный и эволюционный характер, чем в других европейских постсоветских государствах, и озабоченность российских политических элит сохранением стабильности и минимизацией рисков вполне понятна: и изначальная степень антагонизма (продемонстрированная, в частности, расстрелом мятежного парламента в октябре 1993 г.), и страх хаоса в ядерной сверхдержаве убедительно объясняют нежелание российских элит идти на риск. Однако при этом не подлежит сомнению, что степень плюралистичности российской политики за минувшее десятилетие существенно снизилась, входные барьеры на рынке политической конкуренции ощутимо выросли, а качество электоральных процедур подвергается все более суровой критике.
Набор структурных условий в России был слишком сложным, а потому уникальным, вряд ли способным дать почву для обобщений. Один урок из российского опыта все же можно извлечь: негативные предпосылки для демократизации могут возникать или усугубляться и по ходу трансформационных процессов, а набор негативных явлений не ограничивается неудачами в экономическом развитии, напротив, такую роль может сыграть и экономический рост, основанный на «нефтяном проклятии». Российские элиты были вынуждены играть по правилам плюрализма и искать компромиссы именно тогда, когда страна жила в условиях жестких расколов, а ее переходная экономика лежала в руинах. Когда же эти расколы были преодолены, а экономика стала демонстрировать уверенный рост, нужда в «плюрализме поневоле» отпала, и политика стала функцией от объективных условий.
Возможно, именно Россия демонстрирует, что взаимовлияние структурных и процедурных факторов носит «спиралевидный» характер. Более высокий уровень социально-экономического развития и быстрый рост в первом десятилетии века привели к тому, что экономический кризис (который Россия, кстати, пережила относительно мягко благодаря накопленным на экспортных доходах резервам) породил острое расхождение между ожиданиями граждан (в первую очередь – сформировавшегося среднего класса). Последовавшее падение доверия эффективности власти усугубилось шоками от ее фактической несменяемости (когда стало ясно, что страну вновь возглавит В. Путин) и нарушений на выборах, привело к массовым и повторяющимся уличным протестам.
Под влиянием этих протестов российский правящий класс пошел на ограниченные реформы политической системы, демонтирующие некоторые ограничители плюрализма, возведенные в минувшее десятилетие. Однако страх утраты монополии на власть и связанный с ней контроль над экономическими активами порождают и типичную для «царя горы» охранительную тенденцию: либерализация законодательства о партиях и возвращение прямых выборов губернаторов обставляются существенными ограничениями, ужесточается законодательная рамка для публичных акций и деятельности неправительственных организаций. Объективно ситуация требует от власти преодоления отставания политической системы от «переросшего» ее общества, однако государство надеется реализовать некий «необонапартистский» сценарий (Пшеворский), в котором оно будет способно управлять чуть расширившимся плюрализмом при помощи более изощренного арсенала ограничителей для оппозиции и гражданского общества.
Выводы
Дает ли проведенный анализ какое-либо новое знание о факторах, способствующих или препятствующих демократизации или иным образом влияющих на исход преобразований? Ответ, скорее всего, будет положительным, но не детерминистским.
Если мы рассмотрим в качестве наиболее объективной предпосылки уровень социально-экономического развития, то обнаружим, что среди стран с уровнем душевого ВВП выше среднемирового (10,725 долл., согласно данным МВФ за 2010 г.) крайне мало недемократий. По большей части, это «ресурсно проклятые» авторитарные режимы Персидского залива и другие нефтедобывающие государства; выше этой планки находятся также гибридные режимы Венесуэлы, России (страны с «нефтегазовым проклятием»), Беларуси (по нашей логике, испытывающей «нефтяное проклятие» в легкой форме). Из этого наблюдения следуют несколько выводов.
1. Как бы мы ни определяли итоги трансформаций конца ХХ – начала XXI в., они сделали демократию доминирующей формой общественного устройства в зажиточных странах, хотя и не без серьезных оговорок, и выходящей за пределы традиционного домена иудеохристианской цивилизации. В нашей выборке пост-коммунистических стран все государства с уровнем благосостояния выше среднемирового и не испытывающие «нефтяного проклятия» превратились в демократии разного уровня совершенства (Беларусь может считаться некоторым исключением).
2. «Ресурсное проклятие» (в большинстве случаев синонимичное «проклятию нефтяному») становится важной переменной, объясняющей, почему зажиточные страны не становятся демократиями. Как свидетельствует индекс демократии журнала «Economist» за 2010 г., если ввести экспорт нефти как «фиктивную переменную» в корреляцию между уровнем развития демократии и душевым доходом, значение корреляционного показателя в этой регрессии практически удваивается (с одной трети до 60%). Воздействие «ресурсного проклятия» на политическое развитие анализировалось многократно [Huntington, 1991; Ross, 2001; Diamond, 2003; Treisman, 2010; Полтерович, Попов, Тонис, 2008]. Мы хотели бы добавить к этому анализу лишь один важный нюанс: в переходных обществах «ресурсное проклятие» зачастую предопределяет вектор политического курса. Оно не только наделяет правителей ресурсами для содержания репрессивного аппарата и перераспределения материальных благ, но, что особенно важно, дает им возможность уклоняться или бесконечно откладывать перемены в любом смысле этого слова: оно помогает правящей элите укорениться, строить узкие распределительные коалиции, уделять меньшее внимание эффективности управления, поддерживать жизнеспособность устаревших политических практик (архаичных, традиционных, авторитарных). Соответственно, элиты в этих странах мотивированы на концентрацию властных полномочий, максимизацию экономической и политической ренты, усугубляемой, как мы показали, еще большими страхами ее утраты, а не на раздел их и создание механизмов выработки компромиссов: доминированию власти в таких государствах труднее бросить вызов. Ни одна из посткоммунистических стран с высоким уровнем нефтедобычи не добилась успехов в демократизации.
3. В современном мире бедные государства имеют шанс не только на демократизацию, но и на жизнеспособность демократии. На посткоммунистическом пространстве мы находим лишь один (и то не бесспорный) пример того, как бедность оказала влияние на процесс преобразований, способных в принципе превратиться в демократизацию, – Киргизстан (и то в сочетании с другими факторами). Молдова и Монголия, Македония и Черногория добились в демократизации существенного прогресса. Однако демократизация в этих странах нуждается в более пристальном анализе с рассмотрением каждого фактора, объясняющего ее успехи и неудачи. Например, можно было бы сравнить наборы структурных предпосылок и актор-ориентированных факторов в этих «не вполне зажиточных» странах, с одной стороны, и в «гибридных» странах с сопоставимым уровнем душевого дохода (например, Грузии или Армении) – с другой.