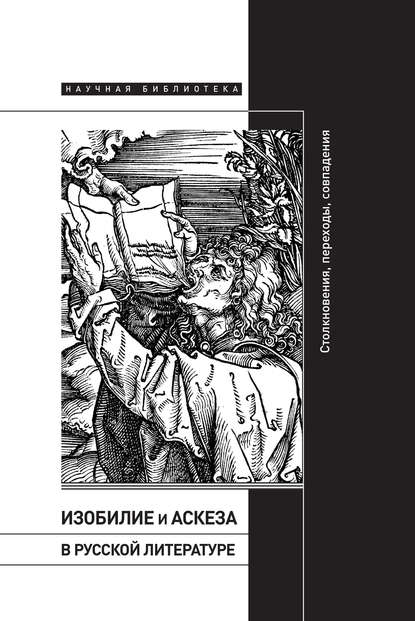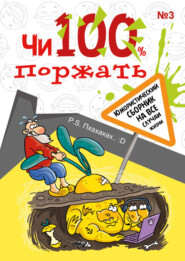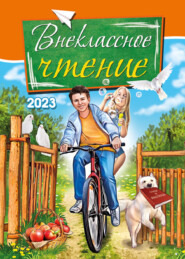По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Изобилие и аскеза в русской литературе: Столкновения, переходы, совпадения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И дочерь отведал ты нехотя.
Лежат на столе сыновья[164 - Хлебников В. В. Неизданные произведения. С. 50.].
В то время как в религиозной «жертве» Христа бог (или же сын Божий) убивается и съедается, в архаичном мифе бог фигурирует нередко как людоед; человек находит спасение благодаря тому, что он съедается богом. Разрушительную сторону человеческой жертвы у Хлебникова многократно воплощает «война», которая превращает людей и, таким образом, «тело земли» (Россию как «мать-землю») в трупы или же поедает их («Зангези», 1922):
Прочти на заумной речи. Расскажи про наше страшное время словами Азбуки! Чтобы мы не увидели войну людей, шашек Азбуки, а услышали стук длинных копий Азбуки. Сечу противников: Жр и Эль, Ка и Пэ! <…>
Страшен очерк их лиц: смуглого дико и нежно пространства. Тогда шкуру стран съедает моль гражданской войны, столицы засыхают как сухари – влага людей испарилась[165 - Хлебников В. В. Собр. произведений. Т. 3. С. 325 (Курсивы нежно и съедает моль мои. – О. Х.-Л.).].
6. Роман «Голод» К. Гамсуна
Романное творчество К. Гамсуна оказывало значительное влияние на ранний символизм 1890?х годов и впоследствии на русский модернизм в целом: его роман «Голод» («Sult»[166 - Перевод по изданию: Гамсун К. Голод: Роман / Пер. Ю. Балтрушайтиса // Гамсун К. Собр. соч.: В 6 т. / Сост. Ю. Яхина и др. М.: Худож. лит., 1991. Т. 1. Подробнее о поэтике Гамсуна ср.: Hron-?berg I. Hervorbringungen. Zur Poetik des Anfangens um 1900. Freiburg i. B.: Rombach, 2014. S. 104–123.]), вышедший именно в 1890 году, в год рождения русского «декадентства», пользовался и в России огромным успехом. Монолог Гамсуна в романе «Голод» сосредоточен на усилении неутолимого голода, психосоматические последствия которого дискурсивно отражаются по нарастающей на способности восприятия и суждения рассказчика – в той степени, в какой сам персонаж все более чахнет, распадается, исчезает.
Именно это нарастание (словесного) текста, сопровождающееся ограничением его темы по кусочкам, парадигматично продемонстрировал также Д. Хармс в «Случае 1» – «Рыжий человек»[167 - Хармс Д. И. Полет в небеса: Стихи, проза, драмы, письма / Ред. А. А. Александров. Л.: Сов. писатель, 1988. С. 353.], где корпус текста развивается за счет все более и более сокращающегося изображаемого персонажа (или темы текста).
Это тексто(де)генеративное движение у Гамсуна принимает, однако, в высшей степени психологический характер, даже как бы расширяется до своего рода психограммы с диагностическими элементами, в то время как Хармс, находящийся в конце авангарда и, следовательно, модернизма, демонстрирует физически и метафизически реальную ситуацию тоталитаризма и свойственный ему «режим голода». Наглядным примером тому служит творчество Хармса, А. П. Платонова и позднее К. С. Малевича с его безликими фигурами крестьян, которые рассматривают голод как коллективный опыт (насильственной коллективизации), служащий фоном и горизонтом для восприятия «поэтики голода» позднего авангарда[168 - Wachtel А. Meaningful voids: facelessness in Platonov and Malevich // Kelly C., Lovell S. (eds.). Russian Literature, Modernism and the Visual Arts. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.].
Думать можно и о проблеме, содержащейся в высказываниях из записных книжек и «Тетрадей» Хармса в 1930?х и 1940?х годах, постоянно говорящих о голоде и крайней нужде, и о причислении этих отчаянных «выкриков» к литературе или уже к эсхатологии в прямом смысле слова, то есть к «последним словам» на кресте…
Применимо ли это к роману «Голод» Гамсуна, в какой степени и как это применимо – вопрос, требующий отдельного исследования: параллели с Хармсом прослеживаются как в волшебно-заколдованном городе-мифе Христиании («это<т> удивительн<ый> город, который навсегда накладывает на человека свою печать…»[169 - Гамсун К. Голод. С. 45.]), так и в Петербурге/Петрограде/Ленинграде, которому для Хармса и его поколения предстояло превратиться в зону голода и смерти в 30?х годах (и далее вплоть до периода блокады).
Можно даже говорить о расширении городского мифа Петербурга в сторону текстов и жанров «голодания»; в любом случае для этого можно найти впечатляющий корпус текстов (например, Г. С. Гора, О. М. Фрейденберг, Л. Я. Гинзбург или описания Д. С. Лихачева).
Кажется неслучайным, что Хармс в своей центральной и финальной повести «Старуха» (1938) выбрал цитату из Гамсуна в качестве эпиграфа, который, однако, как мета-эпиграф доводит эту паратекстуальную категорию до абсурда. Он гласит: «И между ними происходит следующий разговор». Этот эпиграф взят из романа «Мистерий» Гамсуна, вышедшего в русском переводе в Ленинграде в 1935 году.
Псевдоним ХАРМСа, между прочим, бесспорно состоит из «частей» – букв фамилии его любимого норвежского писателя ГАМСуна, которого он не раз упоминает в своих записках. Не следует забывать о русских претекстах романа Гамсуна «Голод», например о рассказе Ф. М. Достоевского «Господин Прохарчин» или сцене о комплексе Ротшильда в романе «Подросток», который, кстати, повлиял и на другого предтечу Д. Хармса – Кафку и его поэтику абсурда. Кафка, в свою очередь, не случайно называл «Подростка» Достоевского своим любимым романом… К сожалению, невозможно здесь обширное обсуждение рассказа Кафки «Голодарь» (Ein Hungerk?nstler, 1922), где найдутся важнейшие концепты голода и аскетизма как мотивировки для абсурдной инсценировки…
Относительно проблемы генерирования мира и текста: голодание героя-рассказчика в романе Гамсуна приводит в конце концов к де-генерации, которая более не делает разницы между полами: «<…> девицы стали для меня почти все равно что мужчины, нужда иссушила меня»[170 - Там же. С. 118.]. Из-за приближающейся голодной смерти герой регрессирует до примитивного состояния автоэротики и экзистенциального аутизма, в котором сливаются финальное и инициальное и который осуществляет совпадение знакового вида индекса (символирующего палец) и «sign icon»:
<…> я беспомощно лежал с открытыми глазами, устремленными в потолок, и чувствовал, что умираю. Потом я сунул указательный палец в рот и стал его сосать. Что-то шевельнулось в моем мозгу, безумная, нелепая мысль искала выхода. А не укусить ли его? Не долго думая, я закрыл глаза и стиснул зубы[171 - Там же. С. 120.].
Инфантильное сосание пальца, которое метонимично встает на место сосания груди, переходит здесь из сферы эротики и питания в сферу Танатоса: откусить собственный палец, питаться собственным мясом, поглощать самого себя в спонтанном акте «автофагии». Этот финальный регресс в самопоедании проходит на телесной основе ступени автокоммуникации и собственного святого причастия, которые реализуют пустую циркуляцию, являющуюся типичным состоянием для абсурдных процессов: «<…> я обнимал самого себя и целовал воздух»[172 - Там же. С. 131.]. От автоязыка (выдуманных, несуществующих слов) до автофагии между Эросом и Танатосом вплоть до автоуничтожения героя, теряющего свое геройство из?за авторства рассказчика и в конце концов – мы об этом точно так и не узнаем – отправляющегося в мореплавание, теряясь в тумане.
Вариантом сосания пальца является кусание карандаша. Так, в романе В. В. Набокова «Приглашение на казнь» (1937) герой Цинциннат выступает не только как объект описания, но и как субъект писания. И в этом случае кусание карандаша, инструмента писания и вообще литературы, ассоциируется с протеканием времени, то есть с приближающейся смертью.
7. Абсурдные формы съедения: Беккет
Десять лет спустя после «Приглашения на казнь» Набокова мы читаем у С. Беккета в романе «Malone meurt» («Мэлон умирает», 1951):
Я использую оба конца, непрерывно их меняя, и часто сосу, сосать я люблю. <…> Так что постепенно мои? карандаш уменьшается, это неизбежно, и быстро приближается тот день, когда от него останется лишь крошечныи? кусочек, которыи? пальцами не удержать[173 - Беккет С. Мэлон умирает // Беккет С. Трилогия / Пер. В. Молот. СПб.: Изд-во Чернышева, 1994. С. 245.].
Абсурдный мир С. Беккета во многом находится в близком родстве с миром Хармса (в этом случае без прямого знакомства) и с романом Гамсуна – здесь несомненно непосредственным образом. В сцене с камнями, напоминающей разговорные упражнения Демосфена, мы не зря вспоминаем другого «голодаря» абсурдистического интернационала – героя Беккета Моллоя, чей трюк с перемещением гальки также представляет собой комбинаторику пустоты, а не инкорпорации – просто жевания и сосания, а не потребления. Для начала приведем сцену Гамсуна, которая, без сомнения, должна была повлиять на Беккета: «Я подобрал камешек, обтер его, сунул в рот и стал сосать; при этом я почти не шевелился и даже не моргал»[174 - Гамсун К. Голод. С. 105. Курсив мой. – О. Х.-Л.].
У Беккета суть этого мотива развертывается в абсурдно-комическую инсценировку, которая воспроизводит экономику «еды и речи» как акробатическое представление между рукой и ртом: при этом мотив «сосания», появляющийся у Беккета на удивление часто и разнообразно, играет роль фиксирования объектов фетиша (соска, сигареты и т. д.). Это удовольствие, найденное в повторении, переходит в принудительность повторения, когда «сосание» уже не играет роль регрессии.
Игра с галькой в романе «Моллой» («Molloy», 1951) соединяет принцип циркуляции с принципом телесного гротеска, который в абсурдизме (Хармса и Беккета) не совершается в постоянном воспроизведении, а, напротив, остается вращающимся и тавтологическим, пустым. Ведь то, что в этом случае «потребляется», есть – как в сказке – камень, а не хлеб, сокращенный до гальки, которую в свое время Демосфен шевелил во рту, чтобы преодолеть афазию и стать воплощением оратора:
<…> я воспользовался случаем пополнить свои запасы камнеи? для сосания. Да, на взморье я их значительно пополнил. Камни я поровну распределил по четырем карманам и сосал их по очереди. Возникшую передо мнои? проблему очередности я решил сначала следующим образом. Допустим, у меня было шестнадцать камнеи?, по четыре в каждом кармане (два кармана брюк и два кармана пальто). Я доставал камень из правого кармана пальто и засовывал его в рот, а в правыи? карман пальто перекладывал камень из правого кармана брюк, в которыи? перекладывал камень из левого кармана брюк, в которыи? перекладывал камень из левого кармана пальто, в которыи? перекладывал камень, находившии?ся у меня во рту, как только я кончал его сосать. Таким образом, в каждом из четырех карманов оказывалось по четыре камня, но уже не совсем те, что были там раньше[175 - Беккет С. Моллой // Беккет С. Трилогия. С. 73–74.].
И так далее и тому подобное – на нескольких страницах! Развязка все же следует после этой огромной циркулярной серии – а именно признание, что причина этого сложного искусства комбинации, «ars combinatoria», – принцип вариантности – не имеет никакого основания в мире абсурда:
Ибо все камни были на вкус одинаковы. <…> Впрочем, в глубине души меня абсолютно не волновало, что я останусь бел запасов; когда они кончатся, а они у меня все равно кончатся, хуже мне от этого не станет, почти не станет[176 - Там же. С. 79–80.].
Сравнительные нулевые концы, которые в большом количестве можно обнаружить у Хармса и А. И. Введенского, конструируют по принципу несоответствия издержки и эффекта, метода или системы и результата, способа и цели, сигнификанта и сигнификата и т. д. – разветвленные игры с нулевой суммой. Кроме того, здесь идет речь о циркуляции обьектов, слов, знаков, при этом не имея от них какой-либо пользы (ведь это всего лишь камни, которые сосутся, но не потребляются). Экономическое равенство всех камней соответствует их безвкусности и элементарной несъедобности.
Здесь гротескно-карнавальный, как и футуристически-неопримитивистский концепт «съедения бога» или «съедения книги мира», взрывается в некоторой степени без всякой внешней причины или внутренней потребности – и заходит в тупик.
Именно это состояние достигает кульминации в чистом ничто, как можно прочесть в романе Беккета «Мерфи» (1938):
Не тупое успокоение, возникшее в результате того, что все чувства замерли, и не уверенное спокойствие, которое возникает тогда, когда что-то уходит из Ничто либо, наоборот, просто прибавляется к ничто, к тому ничто, которое насмешник из Абдер считал более реальным, чем сама реальность. Время не остановилось – это уж было бы слишком! – однако остановился круговорот обходов и отдыха, ибо Мерфи продолжал лежать на кровати – голова на шахматной доске среди разлетевшихся во все стороны шахматных армий – и впитывать через все тайные отверстия своей усохшей души то без-событийное Одно-Единственное, которое так удобно называют Ничто[177 - Беккет С. Мерфи / Пер. А. Панасьева и А. Жгировского. Киев: Ника-центр, 1999. С. 308.].
8. Голодание и обжорство у обэриутов
В отличие от гротескного мира, где спасение дионисийского человека достигается с помощью разложения тела, абсурдное отношение к еде крайне амбивалентно: дионисийский принцип поглощения мира опрокидывается в аполлоническое состояние поста и голодания и его парадоксы. Эти парадоксы аскетизма классическим образом показаны в рассказе Кафки «Голодарь», так как проблема аскетизма и веры состоит тут именно в парадоксальном запрете «показа», демонстрации «подвига» голодаря.
Однако тело абсурдного человека постоянно находится в состоянии субъекта или объекта поедания, обжорства, как вообще любая деятельность в этом мире реализуется или минимально, или максимально.
Нормальные размеры или «умеренность» встречаются редко. Здесь царствует или принцип (пере-)полноты (???????), или недостатка (?????), обжирания или вынужденного поста. И то и другое нередко ведет прямо к смерти или в нулевые состояния («Страшная смерть», 1935):
Однажды один человек, чувствуя голод, / сидел за столом и ел котлеты. / <…> / Однако он ел и ел и ел и ел, покуда / Не почувствовал где-то в желудке смертельную тяжесть. / <…> / Волосы вдруг у него посветлели, взор прояснился; / Уши его упали на пол, / <…> / И он скоропостижно умер[178 - Хармс Д. И. Полн. собр. соч. / Сост. В. Н. Сажин. СПб.: Академический проект, 1997. Т. 1. С. 270–271.].
И здесь закон серийности исходит из цикличности процессов поедания и голодания («Случаи», 1936): «Однажды Орлов объелся толченым горохом и умер»[179 - Хармс Д. И. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 330. Курсив мой. – О. Х.-Л.].
Разговорная ситуация в «Исследовании ужаса» (начало 1930?х годов) Л. С. Липавского[180 - Липавский Л. С. Исследование ужаса // «…Сборище друзей, оставленных судьбою»: В 2 т. / Отв. ред. В. Н. Сажин. М.: Ладомир, 2000. Т. 1.] происходит в полуобщественном помещении (ресторане), в котором четыре человека ведут свободно льющийся «застольный разговор», который, как выясняется в конце первой главы, кружится вокруг «возвышенного». Вместе с тем разговор побуждается мнимым бегством мыслей цветущей «бессмыслицы», легкость и ассоциативная алогичность которой постоянно сталкиваются с возвышенной тяжеловесностью обсуждаемых тем («паники», «смерти», «отвращении», «бренности»).
Материалы, демонстрируемые Липавским на примерах и ситуациях, можно рассматривать при чтении как каталог мотивов литературных и философских текстов Хармса и Введенского, в которых собранная комната ужасов ежедневного отвращения именно здесь представлена полностью. Особенно отчетливо Хармс формулирует свое пристрастие к этим жестокостям в записанных Липавским «Разговорах» – например, при выказывании своего интереса к запахам, к «уничтожению отвращения» и к феноменам «чистоты и грязи»[181 - Липавский Л. С. Разговоры // Там же. С. 175. См. также слова Н. М. Олейникова: «Меня интересуют – питание; числа; насекомые; философия собственного приготовления; формы бесконечности; устранение отвращения; толерантность; сострадание; чистота и грязь» (Там же. С. 174. Курсив мой. – О. Х.-Л.). Ср.: Токарев Д. В. Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д. Хармса и С. Беккета. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 115 и сл.].
Аморфность и дряблость (плазмы) фигурирует у Хармса (или у обэриутов), как и у Беккета, как сама архетипичная реальность абсурдного бытия – без или до всякой индивидуализации или дифференциации. С середины 1930?х годов переход к такому аморфному первобытному состоянию представляется не как спасение сознания (как это было в раннем, отчасти все еще авангардном периоде поэта Хармса), а как тотальная угроза, как «ужас» и смерть.
Опасность инкорпорации для абсурдистского человека в том, что процесс глотания принадлежит одновременно к приобретенным рефлексам и преднамеренным, волевым актам рефлексии и свободной воли. Именно в этой промежуточной сфере возникают разного рода ляпсусы, промахи – неслучайные в аналитической психологии З. Фрейда, которые невольно показывают скрытые или даже вытесненные страсти или мотивы. Таким образом, «психология повседневной жизни» связана с «поэтикой быта» у обэриутов («Человек с глупым лицом…», середина 1930?х годов): «Человек с глупым лицом съел антрекот, икнул и умер. Официанты вынесли его в коридор, ведущий к кухне, и положили его на пол вдоль стены, прикрыв грязной скатертью»[182 - Хармс Д. И. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 71.].
Циркулярность процессов инкорпорации и экскорпорации, поедания и выделения (экскрементов), несомненно, очаровывала всех абсурдистов. Это характерно как для Хармса, так и для Беккета: «Тарелка и горшок, тарелка и горшок – вот они, полюса»[183 - Беккет С. Мэлон умирает. См. об этом также роман Беккета «Уотт»: «Ее аппетит был необычаен своеи? неутолимостью. <…> Пусть он малоежка, умеренныи? едок, обжора, вегетарианец, натурист, каннибал, копрофил, <…> пусть он какает хорошо или пусть он какает плохо, пусть он рыгает, блюет, пердит или как-то еще не сдерживает себя из?за неверно выбраннои? диеты, <…> если бы он объявил голодовку, или пребывал в кататоническом ступоре, <…> факт остается фактом, <…> что он принимает пищу порциями, будь то добровольно или насильно, <…> через рот, нос, поры, питательную трубку или снизу вверх посредством поршня сзади, это не имеет ни малеи?шего значения» (Беккет С. Уотт / Пер. П. Молчанова. М.: Эксмо, 2004. С. 79–80).].
В конце концов Хармс, варьируя уже цитировавшееся в самом начале настоящей статьи библейское высказывание («Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека»), невольно достигает своей цели, несмотря на то что он, может быть, хотел нам сказать что-то совсем другое («Власть», 1940):
Если грешит только один человек, то значит, все грехи мира находятся в самом человеке. Грех не входит в человека, а только выходит из него. Подобно пище: человек съедает хорошее, а выбрасывает из себя нехорошее. В мире нет ничего нехорошего, только то, что прошло сквозь человека, может стать нехорошим[184 - Хармс Д. И. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 151. Курсив мой. – О. Х.-Л.].
БЕЗОТЧЕТНЫЙ ПОСТ: ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АСКЕЗЫ В РУССКОЙ ПРОЗЕ XIX И XX ВЕКОВ
Кристиан Цендер
Отношения русской литературы с аскезой можно назвать напряженными, и не только в эпоху Нового времени. Осторожный, иногда почти скептический взгляд на аскетические практики восходит к первым векам христианства (на основе амбивалентных высказываний об аскезе в Евангелии) и христианской письменности на Руси. Достаточно вспомнить о разных аскетических спорах русского Средневековья[185 - Tschizewskij D. Das heilige Ru?land. Russische Geistesgeschichte I. 10.—17. Jahrhundert. Hamburg: Rowohlt, 1959. С. 46–97.]. Участники полемик оспаривали аскезу, не отрицая ее в принципе, а с целью ее усовершенствования. Крайне обобщенно говоря, спорный пункт, несмотря на практическую разницу в подходах, был таков: является ли аскеза прежде всего негативным началом, то есть отказом от мира и плоти, или же позитивной программой их трансформации?[186 - Ware K. The Way of the Ascetics: Negative or Affirmative? // Asceticism / Ed. by V. L. Wimbush and R. Valantasis. New York; Oxford: Oxford University Press, 1995. P. 12. Уэр пишет об аскезе как «vocation for all» (Ibid. P. 12) и как пути «transfiguration rather than mortification» (Ibid. P. 13).] Этот вопрос авторы, писавшие об аскезе, задавали, что важно, не только противникам в полемике, но и самим себе. Рискуя впасть в терминологический анахронизм, я предлагаю говорить о «самокритике» аскетов в таком контексте, где сообщество верующих не сомневается в принципиальной ее богоугодности.
Напряженность в обращении русской литературы XIX и XX веков к аскезе, таким образом, – отнюдь не новшество, и она не означает разрыва с аскетической традицией. Наоборот, в каком-то смысле «сфера влияния» аскезы в Новое время и в литературе Нового времени расширяется[187 - В перспективе постсекуляризма можно говорить не об упадке («decline»), а о перемещении («relocation») или вынесении в мир («carrying out <…> into the world») вероисповеданий и религиозных практик. Kaufmann M. W. The Religious, the Secular, and Literary Studies: Rethinking the Secularization Narrative in Histories of the Profession // New Literary History. 2007. № 38 (4). P. 612. См. также: прот. Ореханов Г. Лев Толстой. «Пророк без чести»: Хроника катастрофы. М.: Эксмо, 2016. С. 50 (гл. «Что такое секуляризация?»).]. Для русской традиции характерно доминирующее «богословское определение литературы» («theologischer Literaturbegriff»[188 - Schmidt W.-H. Mittelalter // Russische Literaturgeschichte / Hrsg. von K. St?dtke. 2. aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart; Weimar: J. B. Metzler, 2011. S. 37.]). Но постепенный отход от этой парадигмы с XVII века и, шире, процесс секуляризации искусства явно не отменил функционирования «религиозности» в искусстве. Он открыл неслыханную возможность нового обращения с ее формами, в частности возможность говорить на религиозном языке о мирских делах. Подобная экспансия религиозного языка может, разумеется, оказать губительное воздействие на эту религиозную субстанцию, «узурпируя»[189 - См. об этой логике в контексте секуляризации вообще (не специфически литературы): Blumenberg H. Die Legitimit?t der Neuzeit. Erneuerte Ausgabe. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988. S. 26. Д. Уффельманн пишет о таком понимании секуляризации (характерном для русских религиозных философов, в частности) как «узурпационном» (Uffelmann D. Der erniedrigte Christus. Metapher und Metonymien in der russischen Kultur und Literatur. K?ln; Weimar; Wien: B?hlau. S. 580).] ее место. Но также вероятным – если мы говорим об искусстве, а не об общих социальных тенденциях и политических событиях – является сосуществование собственной и перенесенной (или расширенной) функций религиозного языка, в крайнем случае даже внутри одного и того же художественного произведения. Последний вариант Д. Уффельманн охарактеризовал как «двойную читабельность» («doppelte Lesbarkeit») религиозной риторики в новой литературе[190 - Uffelmann D. Der erniedrigte Christus. S. 583.].
Если речь идет о социальных и поведенческих рамках секуляризации литературы, то нельзя не упомянуть сборник «Вехи» 1909 года. Его авторы показали, что в становлении этоса так называемой радикальной интеллигенции второй половины XIX века аскетические каноны и практики сыграли решающую роль[191 - Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. 2?е изд. М., 1909. Переиздано в 1967 году издательством «Посев». Frankfurt a. M. См. особенно «Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции)» С. Н. Булгакова. Булгаков говорит о «светском аскетизме» (С. 54–55), переводя таким образом понятие М. Вебера «innerweltliche Askese».]. Противопоставляя этосу «интеллигентского героизма» христианское подвижничество, С. Н. Булгаков писал: «В настоящее время можно <…> наблюдать особенно характерную для нашей эпохи интеллигентскую подделку под христианство, усвоение христианских слов и идей при сохранении всего духовного облика интеллигентского героизма»[192 - Там же. С. 57.]. Такому героизму, по Булгакову, не хватает главным образом смирения, трезвости и постоянства[193 - Там же. С. 48–49, 55.]. Сравнивая крайний случай христианского поступка – мученичество – с идеей социалистической революции, он приходит к выводу, что «нет никакого внутреннего сходства при всем внешнем тождестве их подвига»[194 - Там же. С. 57.].
«Вехи» представляют собой важнейший этап в истории того, что можно назвать религиозно мотивированной критикой аскезы – во многом самокритикой в случае бывших марксистов среди авторов сборника. Надо отдать должное его диагностической силе. При этом «Вехи» как масштабное событие в русской истории идей в каком-то смысле заслоняют собой собственно художественный, в частности повествовательный подход к аскезе. Трудно себе представить исключительно положительного аскета как литературного героя – пожалуй, не менее трудно, чем того «положительно прекрасного человека», о котором говорил Достоевский в романе «Идиот»[195 - Достоевский Ф. М. Письмо С. А. Ивановой от 1 (13) января 1868 // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1985. Т. 28. С. 251. Курсив в оригинале: «Главная мысль романа – изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за изображение положительно прекрасного, – всегда пасовал. Потому что это задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал – ни наш, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался. На свете есть одно только положительно прекрасное лицо – Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж конечно есть бесконечное чудо».]. Допуская, что у Достоевского действительно был замысел создать образ «положительно прекрасного человека», – почему этот образ святого не состоялся? О. А. Седакова дала психологический и вместе с тем жанровый ответ на этот вопрос: князь Мышкин как герой реалистического романа XIX века подвластен любовным страстям и року современного человека; он вплетен в социальные интриги. Святой же, субъект жития, по сути всегда сторонится механизмов социального мира, даже тогда, когда он своим примером непосредственно влияет на социум[196 - См.: Седакова О. А. Неудавшаяся епифания: два христианских романа – «Идиот» и «Доктор Живаго» // Континент. 2002. № 112 (2).]. Можно аргументировать и на базе более общего критерия, чем это делает Седакова. Как писал Ж.-Л. Марион в эссе о «невидимости святого» («the invisibility of the saint»), «с замыслом определить чью-либо святость надо проститься», потому что святость, с мирской точки зрения, всегда остается недоступной, то есть «по определению невидимой»[197 - «The project of determining anyone’s holiness must be abandoned», «as an object available to intentionality. <…> holiness – even Christ’s, the holiness of the resurrected – remains by definition invisible» (Marion J.-L. The Invisibility of the Saint / Trans. by Ch. M. Gschwandter // Saints: Faith without Borders / Ed. by F. Meltzer and J. Elsner. Chicago; London: University of Chicago Press. Р. 357, 361.]. Если следовать этому положению, то секулярное искусство, поскольку оно опирается на принцип изображения – и Достоевский пользуется именно термином «изображение», – не может своим взглядом охватывать святость в принципе.
С аскезой, однако, отмечается другая проблема, я бы сказал – противоположная. Путь аскезы, в отличие от феномена святости – хотя тот обычно подразумевает аскетические элементы, – в принципе доступен «мирским» усилиям; одним словом, святые чаще всего аскеты, но аскетов далеко не всегда можно назвать святыми. Аскеза является орудием духовной и телесной борьбы[198 - «Geistiger Kampf» – это перевод «аскезы/подвижничества», предложенный Д. Чижевским в уже процитированной книге «Das heilige Ru?land».], а это значит, что аскет, пусть самого радикального склада, может быть изображен в литературном произведении. Поэтому для искусства затруднение с аскезой заключается не в том, что она непостижима (как святость), а в том, что она, наоборот, постоянно грозит стать чересчур прозрачной технически, как «технологии себя» («technology of the self», М. Фуко[199 - См.: Foucault M. Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault / Ed. by L. H. Martin, H. Gutman, P. H. Hutton. Amherst: University of Massachusetts Press, 1988.]), столь от волевого импульса зависящие. Как некогда писал французский философ А. Бремонд, аскеза «всей силой, которой она обладает, говорит: хочу»[200 - «…de toute la force dont elle dispose, dit: Volo…» (Bremond H. R. P. F. Cavallera et la philosophie de la pri?re. Paris: Bloud et Gay, 1928. P. 28–29. Курсив в оригинале).]. Аскет так или иначе всегда, по крайней мере в начальной стадии, старается и «считает» свои достижения, свои подвиги по редукции жизни[201 - Мне кажется, что описание отца Ферапонта из «Братьев Карамазовых», пресловутого представителя «мрачных» аскетов в русской литературе, приобретает явную пейоративность именно тогда, когда квантифицируется его пост («постничество»): «Ел он, как говорили (да оно и правда было), всего лишь по два фунта хлеба в три дня, не более; приносил ему их каждые три дня живший тут же на пасеке пасечник, но даже и с этим прислуживавшим ему пасечником отец Ферапонт тоже редко когда молвил слово. Эти четыре фунта хлеба, вместе с воскресною просвиркой, после поздней обедни аккуратно присылаемой блаженному игуменом, и составляли все его недельное пропитание» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 151–152). Примечательно, что здесь, как и, например, в романе Чернышевского «Что делать?», рассказчик в высшей степени ненадежный.].
Лежат на столе сыновья[164 - Хлебников В. В. Неизданные произведения. С. 50.].
В то время как в религиозной «жертве» Христа бог (или же сын Божий) убивается и съедается, в архаичном мифе бог фигурирует нередко как людоед; человек находит спасение благодаря тому, что он съедается богом. Разрушительную сторону человеческой жертвы у Хлебникова многократно воплощает «война», которая превращает людей и, таким образом, «тело земли» (Россию как «мать-землю») в трупы или же поедает их («Зангези», 1922):
Прочти на заумной речи. Расскажи про наше страшное время словами Азбуки! Чтобы мы не увидели войну людей, шашек Азбуки, а услышали стук длинных копий Азбуки. Сечу противников: Жр и Эль, Ка и Пэ! <…>
Страшен очерк их лиц: смуглого дико и нежно пространства. Тогда шкуру стран съедает моль гражданской войны, столицы засыхают как сухари – влага людей испарилась[165 - Хлебников В. В. Собр. произведений. Т. 3. С. 325 (Курсивы нежно и съедает моль мои. – О. Х.-Л.).].
6. Роман «Голод» К. Гамсуна
Романное творчество К. Гамсуна оказывало значительное влияние на ранний символизм 1890?х годов и впоследствии на русский модернизм в целом: его роман «Голод» («Sult»[166 - Перевод по изданию: Гамсун К. Голод: Роман / Пер. Ю. Балтрушайтиса // Гамсун К. Собр. соч.: В 6 т. / Сост. Ю. Яхина и др. М.: Худож. лит., 1991. Т. 1. Подробнее о поэтике Гамсуна ср.: Hron-?berg I. Hervorbringungen. Zur Poetik des Anfangens um 1900. Freiburg i. B.: Rombach, 2014. S. 104–123.]), вышедший именно в 1890 году, в год рождения русского «декадентства», пользовался и в России огромным успехом. Монолог Гамсуна в романе «Голод» сосредоточен на усилении неутолимого голода, психосоматические последствия которого дискурсивно отражаются по нарастающей на способности восприятия и суждения рассказчика – в той степени, в какой сам персонаж все более чахнет, распадается, исчезает.
Именно это нарастание (словесного) текста, сопровождающееся ограничением его темы по кусочкам, парадигматично продемонстрировал также Д. Хармс в «Случае 1» – «Рыжий человек»[167 - Хармс Д. И. Полет в небеса: Стихи, проза, драмы, письма / Ред. А. А. Александров. Л.: Сов. писатель, 1988. С. 353.], где корпус текста развивается за счет все более и более сокращающегося изображаемого персонажа (или темы текста).
Это тексто(де)генеративное движение у Гамсуна принимает, однако, в высшей степени психологический характер, даже как бы расширяется до своего рода психограммы с диагностическими элементами, в то время как Хармс, находящийся в конце авангарда и, следовательно, модернизма, демонстрирует физически и метафизически реальную ситуацию тоталитаризма и свойственный ему «режим голода». Наглядным примером тому служит творчество Хармса, А. П. Платонова и позднее К. С. Малевича с его безликими фигурами крестьян, которые рассматривают голод как коллективный опыт (насильственной коллективизации), служащий фоном и горизонтом для восприятия «поэтики голода» позднего авангарда[168 - Wachtel А. Meaningful voids: facelessness in Platonov and Malevich // Kelly C., Lovell S. (eds.). Russian Literature, Modernism and the Visual Arts. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.].
Думать можно и о проблеме, содержащейся в высказываниях из записных книжек и «Тетрадей» Хармса в 1930?х и 1940?х годах, постоянно говорящих о голоде и крайней нужде, и о причислении этих отчаянных «выкриков» к литературе или уже к эсхатологии в прямом смысле слова, то есть к «последним словам» на кресте…
Применимо ли это к роману «Голод» Гамсуна, в какой степени и как это применимо – вопрос, требующий отдельного исследования: параллели с Хармсом прослеживаются как в волшебно-заколдованном городе-мифе Христиании («это<т> удивительн<ый> город, который навсегда накладывает на человека свою печать…»[169 - Гамсун К. Голод. С. 45.]), так и в Петербурге/Петрограде/Ленинграде, которому для Хармса и его поколения предстояло превратиться в зону голода и смерти в 30?х годах (и далее вплоть до периода блокады).
Можно даже говорить о расширении городского мифа Петербурга в сторону текстов и жанров «голодания»; в любом случае для этого можно найти впечатляющий корпус текстов (например, Г. С. Гора, О. М. Фрейденберг, Л. Я. Гинзбург или описания Д. С. Лихачева).
Кажется неслучайным, что Хармс в своей центральной и финальной повести «Старуха» (1938) выбрал цитату из Гамсуна в качестве эпиграфа, который, однако, как мета-эпиграф доводит эту паратекстуальную категорию до абсурда. Он гласит: «И между ними происходит следующий разговор». Этот эпиграф взят из романа «Мистерий» Гамсуна, вышедшего в русском переводе в Ленинграде в 1935 году.
Псевдоним ХАРМСа, между прочим, бесспорно состоит из «частей» – букв фамилии его любимого норвежского писателя ГАМСуна, которого он не раз упоминает в своих записках. Не следует забывать о русских претекстах романа Гамсуна «Голод», например о рассказе Ф. М. Достоевского «Господин Прохарчин» или сцене о комплексе Ротшильда в романе «Подросток», который, кстати, повлиял и на другого предтечу Д. Хармса – Кафку и его поэтику абсурда. Кафка, в свою очередь, не случайно называл «Подростка» Достоевского своим любимым романом… К сожалению, невозможно здесь обширное обсуждение рассказа Кафки «Голодарь» (Ein Hungerk?nstler, 1922), где найдутся важнейшие концепты голода и аскетизма как мотивировки для абсурдной инсценировки…
Относительно проблемы генерирования мира и текста: голодание героя-рассказчика в романе Гамсуна приводит в конце концов к де-генерации, которая более не делает разницы между полами: «<…> девицы стали для меня почти все равно что мужчины, нужда иссушила меня»[170 - Там же. С. 118.]. Из-за приближающейся голодной смерти герой регрессирует до примитивного состояния автоэротики и экзистенциального аутизма, в котором сливаются финальное и инициальное и который осуществляет совпадение знакового вида индекса (символирующего палец) и «sign icon»:
<…> я беспомощно лежал с открытыми глазами, устремленными в потолок, и чувствовал, что умираю. Потом я сунул указательный палец в рот и стал его сосать. Что-то шевельнулось в моем мозгу, безумная, нелепая мысль искала выхода. А не укусить ли его? Не долго думая, я закрыл глаза и стиснул зубы[171 - Там же. С. 120.].
Инфантильное сосание пальца, которое метонимично встает на место сосания груди, переходит здесь из сферы эротики и питания в сферу Танатоса: откусить собственный палец, питаться собственным мясом, поглощать самого себя в спонтанном акте «автофагии». Этот финальный регресс в самопоедании проходит на телесной основе ступени автокоммуникации и собственного святого причастия, которые реализуют пустую циркуляцию, являющуюся типичным состоянием для абсурдных процессов: «<…> я обнимал самого себя и целовал воздух»[172 - Там же. С. 131.]. От автоязыка (выдуманных, несуществующих слов) до автофагии между Эросом и Танатосом вплоть до автоуничтожения героя, теряющего свое геройство из?за авторства рассказчика и в конце концов – мы об этом точно так и не узнаем – отправляющегося в мореплавание, теряясь в тумане.
Вариантом сосания пальца является кусание карандаша. Так, в романе В. В. Набокова «Приглашение на казнь» (1937) герой Цинциннат выступает не только как объект описания, но и как субъект писания. И в этом случае кусание карандаша, инструмента писания и вообще литературы, ассоциируется с протеканием времени, то есть с приближающейся смертью.
7. Абсурдные формы съедения: Беккет
Десять лет спустя после «Приглашения на казнь» Набокова мы читаем у С. Беккета в романе «Malone meurt» («Мэлон умирает», 1951):
Я использую оба конца, непрерывно их меняя, и часто сосу, сосать я люблю. <…> Так что постепенно мои? карандаш уменьшается, это неизбежно, и быстро приближается тот день, когда от него останется лишь крошечныи? кусочек, которыи? пальцами не удержать[173 - Беккет С. Мэлон умирает // Беккет С. Трилогия / Пер. В. Молот. СПб.: Изд-во Чернышева, 1994. С. 245.].
Абсурдный мир С. Беккета во многом находится в близком родстве с миром Хармса (в этом случае без прямого знакомства) и с романом Гамсуна – здесь несомненно непосредственным образом. В сцене с камнями, напоминающей разговорные упражнения Демосфена, мы не зря вспоминаем другого «голодаря» абсурдистического интернационала – героя Беккета Моллоя, чей трюк с перемещением гальки также представляет собой комбинаторику пустоты, а не инкорпорации – просто жевания и сосания, а не потребления. Для начала приведем сцену Гамсуна, которая, без сомнения, должна была повлиять на Беккета: «Я подобрал камешек, обтер его, сунул в рот и стал сосать; при этом я почти не шевелился и даже не моргал»[174 - Гамсун К. Голод. С. 105. Курсив мой. – О. Х.-Л.].
У Беккета суть этого мотива развертывается в абсурдно-комическую инсценировку, которая воспроизводит экономику «еды и речи» как акробатическое представление между рукой и ртом: при этом мотив «сосания», появляющийся у Беккета на удивление часто и разнообразно, играет роль фиксирования объектов фетиша (соска, сигареты и т. д.). Это удовольствие, найденное в повторении, переходит в принудительность повторения, когда «сосание» уже не играет роль регрессии.
Игра с галькой в романе «Моллой» («Molloy», 1951) соединяет принцип циркуляции с принципом телесного гротеска, который в абсурдизме (Хармса и Беккета) не совершается в постоянном воспроизведении, а, напротив, остается вращающимся и тавтологическим, пустым. Ведь то, что в этом случае «потребляется», есть – как в сказке – камень, а не хлеб, сокращенный до гальки, которую в свое время Демосфен шевелил во рту, чтобы преодолеть афазию и стать воплощением оратора:
<…> я воспользовался случаем пополнить свои запасы камнеи? для сосания. Да, на взморье я их значительно пополнил. Камни я поровну распределил по четырем карманам и сосал их по очереди. Возникшую передо мнои? проблему очередности я решил сначала следующим образом. Допустим, у меня было шестнадцать камнеи?, по четыре в каждом кармане (два кармана брюк и два кармана пальто). Я доставал камень из правого кармана пальто и засовывал его в рот, а в правыи? карман пальто перекладывал камень из правого кармана брюк, в которыи? перекладывал камень из левого кармана брюк, в которыи? перекладывал камень из левого кармана пальто, в которыи? перекладывал камень, находившии?ся у меня во рту, как только я кончал его сосать. Таким образом, в каждом из четырех карманов оказывалось по четыре камня, но уже не совсем те, что были там раньше[175 - Беккет С. Моллой // Беккет С. Трилогия. С. 73–74.].
И так далее и тому подобное – на нескольких страницах! Развязка все же следует после этой огромной циркулярной серии – а именно признание, что причина этого сложного искусства комбинации, «ars combinatoria», – принцип вариантности – не имеет никакого основания в мире абсурда:
Ибо все камни были на вкус одинаковы. <…> Впрочем, в глубине души меня абсолютно не волновало, что я останусь бел запасов; когда они кончатся, а они у меня все равно кончатся, хуже мне от этого не станет, почти не станет[176 - Там же. С. 79–80.].
Сравнительные нулевые концы, которые в большом количестве можно обнаружить у Хармса и А. И. Введенского, конструируют по принципу несоответствия издержки и эффекта, метода или системы и результата, способа и цели, сигнификанта и сигнификата и т. д. – разветвленные игры с нулевой суммой. Кроме того, здесь идет речь о циркуляции обьектов, слов, знаков, при этом не имея от них какой-либо пользы (ведь это всего лишь камни, которые сосутся, но не потребляются). Экономическое равенство всех камней соответствует их безвкусности и элементарной несъедобности.
Здесь гротескно-карнавальный, как и футуристически-неопримитивистский концепт «съедения бога» или «съедения книги мира», взрывается в некоторой степени без всякой внешней причины или внутренней потребности – и заходит в тупик.
Именно это состояние достигает кульминации в чистом ничто, как можно прочесть в романе Беккета «Мерфи» (1938):
Не тупое успокоение, возникшее в результате того, что все чувства замерли, и не уверенное спокойствие, которое возникает тогда, когда что-то уходит из Ничто либо, наоборот, просто прибавляется к ничто, к тому ничто, которое насмешник из Абдер считал более реальным, чем сама реальность. Время не остановилось – это уж было бы слишком! – однако остановился круговорот обходов и отдыха, ибо Мерфи продолжал лежать на кровати – голова на шахматной доске среди разлетевшихся во все стороны шахматных армий – и впитывать через все тайные отверстия своей усохшей души то без-событийное Одно-Единственное, которое так удобно называют Ничто[177 - Беккет С. Мерфи / Пер. А. Панасьева и А. Жгировского. Киев: Ника-центр, 1999. С. 308.].
8. Голодание и обжорство у обэриутов
В отличие от гротескного мира, где спасение дионисийского человека достигается с помощью разложения тела, абсурдное отношение к еде крайне амбивалентно: дионисийский принцип поглощения мира опрокидывается в аполлоническое состояние поста и голодания и его парадоксы. Эти парадоксы аскетизма классическим образом показаны в рассказе Кафки «Голодарь», так как проблема аскетизма и веры состоит тут именно в парадоксальном запрете «показа», демонстрации «подвига» голодаря.
Однако тело абсурдного человека постоянно находится в состоянии субъекта или объекта поедания, обжорства, как вообще любая деятельность в этом мире реализуется или минимально, или максимально.
Нормальные размеры или «умеренность» встречаются редко. Здесь царствует или принцип (пере-)полноты (???????), или недостатка (?????), обжирания или вынужденного поста. И то и другое нередко ведет прямо к смерти или в нулевые состояния («Страшная смерть», 1935):
Однажды один человек, чувствуя голод, / сидел за столом и ел котлеты. / <…> / Однако он ел и ел и ел и ел, покуда / Не почувствовал где-то в желудке смертельную тяжесть. / <…> / Волосы вдруг у него посветлели, взор прояснился; / Уши его упали на пол, / <…> / И он скоропостижно умер[178 - Хармс Д. И. Полн. собр. соч. / Сост. В. Н. Сажин. СПб.: Академический проект, 1997. Т. 1. С. 270–271.].
И здесь закон серийности исходит из цикличности процессов поедания и голодания («Случаи», 1936): «Однажды Орлов объелся толченым горохом и умер»[179 - Хармс Д. И. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 330. Курсив мой. – О. Х.-Л.].
Разговорная ситуация в «Исследовании ужаса» (начало 1930?х годов) Л. С. Липавского[180 - Липавский Л. С. Исследование ужаса // «…Сборище друзей, оставленных судьбою»: В 2 т. / Отв. ред. В. Н. Сажин. М.: Ладомир, 2000. Т. 1.] происходит в полуобщественном помещении (ресторане), в котором четыре человека ведут свободно льющийся «застольный разговор», который, как выясняется в конце первой главы, кружится вокруг «возвышенного». Вместе с тем разговор побуждается мнимым бегством мыслей цветущей «бессмыслицы», легкость и ассоциативная алогичность которой постоянно сталкиваются с возвышенной тяжеловесностью обсуждаемых тем («паники», «смерти», «отвращении», «бренности»).
Материалы, демонстрируемые Липавским на примерах и ситуациях, можно рассматривать при чтении как каталог мотивов литературных и философских текстов Хармса и Введенского, в которых собранная комната ужасов ежедневного отвращения именно здесь представлена полностью. Особенно отчетливо Хармс формулирует свое пристрастие к этим жестокостям в записанных Липавским «Разговорах» – например, при выказывании своего интереса к запахам, к «уничтожению отвращения» и к феноменам «чистоты и грязи»[181 - Липавский Л. С. Разговоры // Там же. С. 175. См. также слова Н. М. Олейникова: «Меня интересуют – питание; числа; насекомые; философия собственного приготовления; формы бесконечности; устранение отвращения; толерантность; сострадание; чистота и грязь» (Там же. С. 174. Курсив мой. – О. Х.-Л.). Ср.: Токарев Д. В. Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д. Хармса и С. Беккета. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 115 и сл.].
Аморфность и дряблость (плазмы) фигурирует у Хармса (или у обэриутов), как и у Беккета, как сама архетипичная реальность абсурдного бытия – без или до всякой индивидуализации или дифференциации. С середины 1930?х годов переход к такому аморфному первобытному состоянию представляется не как спасение сознания (как это было в раннем, отчасти все еще авангардном периоде поэта Хармса), а как тотальная угроза, как «ужас» и смерть.
Опасность инкорпорации для абсурдистского человека в том, что процесс глотания принадлежит одновременно к приобретенным рефлексам и преднамеренным, волевым актам рефлексии и свободной воли. Именно в этой промежуточной сфере возникают разного рода ляпсусы, промахи – неслучайные в аналитической психологии З. Фрейда, которые невольно показывают скрытые или даже вытесненные страсти или мотивы. Таким образом, «психология повседневной жизни» связана с «поэтикой быта» у обэриутов («Человек с глупым лицом…», середина 1930?х годов): «Человек с глупым лицом съел антрекот, икнул и умер. Официанты вынесли его в коридор, ведущий к кухне, и положили его на пол вдоль стены, прикрыв грязной скатертью»[182 - Хармс Д. И. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 71.].
Циркулярность процессов инкорпорации и экскорпорации, поедания и выделения (экскрементов), несомненно, очаровывала всех абсурдистов. Это характерно как для Хармса, так и для Беккета: «Тарелка и горшок, тарелка и горшок – вот они, полюса»[183 - Беккет С. Мэлон умирает. См. об этом также роман Беккета «Уотт»: «Ее аппетит был необычаен своеи? неутолимостью. <…> Пусть он малоежка, умеренныи? едок, обжора, вегетарианец, натурист, каннибал, копрофил, <…> пусть он какает хорошо или пусть он какает плохо, пусть он рыгает, блюет, пердит или как-то еще не сдерживает себя из?за неверно выбраннои? диеты, <…> если бы он объявил голодовку, или пребывал в кататоническом ступоре, <…> факт остается фактом, <…> что он принимает пищу порциями, будь то добровольно или насильно, <…> через рот, нос, поры, питательную трубку или снизу вверх посредством поршня сзади, это не имеет ни малеи?шего значения» (Беккет С. Уотт / Пер. П. Молчанова. М.: Эксмо, 2004. С. 79–80).].
В конце концов Хармс, варьируя уже цитировавшееся в самом начале настоящей статьи библейское высказывание («Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека»), невольно достигает своей цели, несмотря на то что он, может быть, хотел нам сказать что-то совсем другое («Власть», 1940):
Если грешит только один человек, то значит, все грехи мира находятся в самом человеке. Грех не входит в человека, а только выходит из него. Подобно пище: человек съедает хорошее, а выбрасывает из себя нехорошее. В мире нет ничего нехорошего, только то, что прошло сквозь человека, может стать нехорошим[184 - Хармс Д. И. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 151. Курсив мой. – О. Х.-Л.].
БЕЗОТЧЕТНЫЙ ПОСТ: ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АСКЕЗЫ В РУССКОЙ ПРОЗЕ XIX И XX ВЕКОВ
Кристиан Цендер
Отношения русской литературы с аскезой можно назвать напряженными, и не только в эпоху Нового времени. Осторожный, иногда почти скептический взгляд на аскетические практики восходит к первым векам христианства (на основе амбивалентных высказываний об аскезе в Евангелии) и христианской письменности на Руси. Достаточно вспомнить о разных аскетических спорах русского Средневековья[185 - Tschizewskij D. Das heilige Ru?land. Russische Geistesgeschichte I. 10.—17. Jahrhundert. Hamburg: Rowohlt, 1959. С. 46–97.]. Участники полемик оспаривали аскезу, не отрицая ее в принципе, а с целью ее усовершенствования. Крайне обобщенно говоря, спорный пункт, несмотря на практическую разницу в подходах, был таков: является ли аскеза прежде всего негативным началом, то есть отказом от мира и плоти, или же позитивной программой их трансформации?[186 - Ware K. The Way of the Ascetics: Negative or Affirmative? // Asceticism / Ed. by V. L. Wimbush and R. Valantasis. New York; Oxford: Oxford University Press, 1995. P. 12. Уэр пишет об аскезе как «vocation for all» (Ibid. P. 12) и как пути «transfiguration rather than mortification» (Ibid. P. 13).] Этот вопрос авторы, писавшие об аскезе, задавали, что важно, не только противникам в полемике, но и самим себе. Рискуя впасть в терминологический анахронизм, я предлагаю говорить о «самокритике» аскетов в таком контексте, где сообщество верующих не сомневается в принципиальной ее богоугодности.
Напряженность в обращении русской литературы XIX и XX веков к аскезе, таким образом, – отнюдь не новшество, и она не означает разрыва с аскетической традицией. Наоборот, в каком-то смысле «сфера влияния» аскезы в Новое время и в литературе Нового времени расширяется[187 - В перспективе постсекуляризма можно говорить не об упадке («decline»), а о перемещении («relocation») или вынесении в мир («carrying out <…> into the world») вероисповеданий и религиозных практик. Kaufmann M. W. The Religious, the Secular, and Literary Studies: Rethinking the Secularization Narrative in Histories of the Profession // New Literary History. 2007. № 38 (4). P. 612. См. также: прот. Ореханов Г. Лев Толстой. «Пророк без чести»: Хроника катастрофы. М.: Эксмо, 2016. С. 50 (гл. «Что такое секуляризация?»).]. Для русской традиции характерно доминирующее «богословское определение литературы» («theologischer Literaturbegriff»[188 - Schmidt W.-H. Mittelalter // Russische Literaturgeschichte / Hrsg. von K. St?dtke. 2. aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart; Weimar: J. B. Metzler, 2011. S. 37.]). Но постепенный отход от этой парадигмы с XVII века и, шире, процесс секуляризации искусства явно не отменил функционирования «религиозности» в искусстве. Он открыл неслыханную возможность нового обращения с ее формами, в частности возможность говорить на религиозном языке о мирских делах. Подобная экспансия религиозного языка может, разумеется, оказать губительное воздействие на эту религиозную субстанцию, «узурпируя»[189 - См. об этой логике в контексте секуляризации вообще (не специфически литературы): Blumenberg H. Die Legitimit?t der Neuzeit. Erneuerte Ausgabe. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988. S. 26. Д. Уффельманн пишет о таком понимании секуляризации (характерном для русских религиозных философов, в частности) как «узурпационном» (Uffelmann D. Der erniedrigte Christus. Metapher und Metonymien in der russischen Kultur und Literatur. K?ln; Weimar; Wien: B?hlau. S. 580).] ее место. Но также вероятным – если мы говорим об искусстве, а не об общих социальных тенденциях и политических событиях – является сосуществование собственной и перенесенной (или расширенной) функций религиозного языка, в крайнем случае даже внутри одного и того же художественного произведения. Последний вариант Д. Уффельманн охарактеризовал как «двойную читабельность» («doppelte Lesbarkeit») религиозной риторики в новой литературе[190 - Uffelmann D. Der erniedrigte Christus. S. 583.].
Если речь идет о социальных и поведенческих рамках секуляризации литературы, то нельзя не упомянуть сборник «Вехи» 1909 года. Его авторы показали, что в становлении этоса так называемой радикальной интеллигенции второй половины XIX века аскетические каноны и практики сыграли решающую роль[191 - Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. 2?е изд. М., 1909. Переиздано в 1967 году издательством «Посев». Frankfurt a. M. См. особенно «Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции)» С. Н. Булгакова. Булгаков говорит о «светском аскетизме» (С. 54–55), переводя таким образом понятие М. Вебера «innerweltliche Askese».]. Противопоставляя этосу «интеллигентского героизма» христианское подвижничество, С. Н. Булгаков писал: «В настоящее время можно <…> наблюдать особенно характерную для нашей эпохи интеллигентскую подделку под христианство, усвоение христианских слов и идей при сохранении всего духовного облика интеллигентского героизма»[192 - Там же. С. 57.]. Такому героизму, по Булгакову, не хватает главным образом смирения, трезвости и постоянства[193 - Там же. С. 48–49, 55.]. Сравнивая крайний случай христианского поступка – мученичество – с идеей социалистической революции, он приходит к выводу, что «нет никакого внутреннего сходства при всем внешнем тождестве их подвига»[194 - Там же. С. 57.].
«Вехи» представляют собой важнейший этап в истории того, что можно назвать религиозно мотивированной критикой аскезы – во многом самокритикой в случае бывших марксистов среди авторов сборника. Надо отдать должное его диагностической силе. При этом «Вехи» как масштабное событие в русской истории идей в каком-то смысле заслоняют собой собственно художественный, в частности повествовательный подход к аскезе. Трудно себе представить исключительно положительного аскета как литературного героя – пожалуй, не менее трудно, чем того «положительно прекрасного человека», о котором говорил Достоевский в романе «Идиот»[195 - Достоевский Ф. М. Письмо С. А. Ивановой от 1 (13) января 1868 // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1985. Т. 28. С. 251. Курсив в оригинале: «Главная мысль романа – изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за изображение положительно прекрасного, – всегда пасовал. Потому что это задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал – ни наш, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался. На свете есть одно только положительно прекрасное лицо – Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж конечно есть бесконечное чудо».]. Допуская, что у Достоевского действительно был замысел создать образ «положительно прекрасного человека», – почему этот образ святого не состоялся? О. А. Седакова дала психологический и вместе с тем жанровый ответ на этот вопрос: князь Мышкин как герой реалистического романа XIX века подвластен любовным страстям и року современного человека; он вплетен в социальные интриги. Святой же, субъект жития, по сути всегда сторонится механизмов социального мира, даже тогда, когда он своим примером непосредственно влияет на социум[196 - См.: Седакова О. А. Неудавшаяся епифания: два христианских романа – «Идиот» и «Доктор Живаго» // Континент. 2002. № 112 (2).]. Можно аргументировать и на базе более общего критерия, чем это делает Седакова. Как писал Ж.-Л. Марион в эссе о «невидимости святого» («the invisibility of the saint»), «с замыслом определить чью-либо святость надо проститься», потому что святость, с мирской точки зрения, всегда остается недоступной, то есть «по определению невидимой»[197 - «The project of determining anyone’s holiness must be abandoned», «as an object available to intentionality. <…> holiness – even Christ’s, the holiness of the resurrected – remains by definition invisible» (Marion J.-L. The Invisibility of the Saint / Trans. by Ch. M. Gschwandter // Saints: Faith without Borders / Ed. by F. Meltzer and J. Elsner. Chicago; London: University of Chicago Press. Р. 357, 361.]. Если следовать этому положению, то секулярное искусство, поскольку оно опирается на принцип изображения – и Достоевский пользуется именно термином «изображение», – не может своим взглядом охватывать святость в принципе.
С аскезой, однако, отмечается другая проблема, я бы сказал – противоположная. Путь аскезы, в отличие от феномена святости – хотя тот обычно подразумевает аскетические элементы, – в принципе доступен «мирским» усилиям; одним словом, святые чаще всего аскеты, но аскетов далеко не всегда можно назвать святыми. Аскеза является орудием духовной и телесной борьбы[198 - «Geistiger Kampf» – это перевод «аскезы/подвижничества», предложенный Д. Чижевским в уже процитированной книге «Das heilige Ru?land».], а это значит, что аскет, пусть самого радикального склада, может быть изображен в литературном произведении. Поэтому для искусства затруднение с аскезой заключается не в том, что она непостижима (как святость), а в том, что она, наоборот, постоянно грозит стать чересчур прозрачной технически, как «технологии себя» («technology of the self», М. Фуко[199 - См.: Foucault M. Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault / Ed. by L. H. Martin, H. Gutman, P. H. Hutton. Amherst: University of Massachusetts Press, 1988.]), столь от волевого импульса зависящие. Как некогда писал французский философ А. Бремонд, аскеза «всей силой, которой она обладает, говорит: хочу»[200 - «…de toute la force dont elle dispose, dit: Volo…» (Bremond H. R. P. F. Cavallera et la philosophie de la pri?re. Paris: Bloud et Gay, 1928. P. 28–29. Курсив в оригинале).]. Аскет так или иначе всегда, по крайней мере в начальной стадии, старается и «считает» свои достижения, свои подвиги по редукции жизни[201 - Мне кажется, что описание отца Ферапонта из «Братьев Карамазовых», пресловутого представителя «мрачных» аскетов в русской литературе, приобретает явную пейоративность именно тогда, когда квантифицируется его пост («постничество»): «Ел он, как говорили (да оно и правда было), всего лишь по два фунта хлеба в три дня, не более; приносил ему их каждые три дня живший тут же на пасеке пасечник, но даже и с этим прислуживавшим ему пасечником отец Ферапонт тоже редко когда молвил слово. Эти четыре фунта хлеба, вместе с воскресною просвиркой, после поздней обедни аккуратно присылаемой блаженному игуменом, и составляли все его недельное пропитание» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 151–152). Примечательно, что здесь, как и, например, в романе Чернышевского «Что делать?», рассказчик в высшей степени ненадежный.].