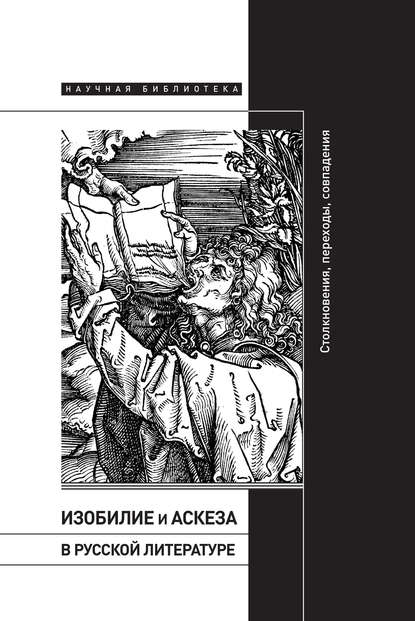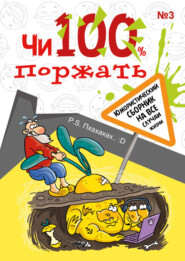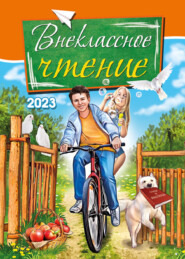По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Изобилие и аскеза в русской литературе: Столкновения, переходы, совпадения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В символизме эту роль взял на себя «поэт-демиург», который сам воспринимает себя как «воплощение слова», изображая себя в своих произведениях «иконически»[149 - Поэтические символы раннего символизма примерно от 1890 до 1900 года являются или негативными (т. е. в подлинном смысле «дьявольскими»), или же отрицающими, антиномичными («дьявольскими символами»), т. е. они воплощают в себе противоположные образы первоначальных символов, воздействие и энергетику которых они пытаются «отразить» только в буквальном и переносном смысле. Они сокращены до функции «тени» и «отражения», из?за чего не имеют собственной сущности, не имеют первичной, исходной непосредственности в смысле символистской «стихийности» и «первичности», а лишь ведут отвлеченное, вторичное, паразитическое существование. Центральным символом этой «противоположной изобразительности» в дьявольском мировом порядке является луна, лунарное начало, в то время как в символизме после 1900 года доминируют солнце и солярное начало. Вторично-отвлеченный характер лунарного мира выявляется из следующего обстоятельства, которое неоднократно являлось темой в дискурсе раннего символизма: луна не черпает (изначально) или создает (генерирует, рождает, переносит из небытия в бытие) свой свет сама по себе, а всего лишь воспроизводит свет солнца, так сказать, «передает» нечто из «вторых рук», нечто «условное» и «неподлинное» (т. е. «представляет» нечто нетождественное с самим собой, участвует в чем-то чужом).]. Связь между понятиями «глагол», «глосса» и «глотать» обоснована, между прочим, паронимической ассоциацией. «Слово Божие» в качестве «крови и тела», «текст» Откровения в качестве «пищи духовной» являлись христианскими представлениями символов, которые секуляризировались в автомессианизме современности и привели к приравниванию «текста-искусства», «текста-жизни» и «текста-поэта».
Хлебников «овеществил» этот топос, тем самым преобразовал его в «словесный каннибализм» своего «неопримитивизма». Таким образом, «земля» – (круглый) «блин» – (круглый) «день» – «солнце» и (прочитанные) «буквы» соединяются в одну-единственную парадигму:
<…> Мы не только читали, / Но и сами глотали / Блинами в сметане / И небесами другими, / Когда дни нарастали / На масленой. / <…> / Съел солнышко в масле и сыт. / Солнце щиплет дни / И нагуливает жир, / Нужно жар его жрецом жрать и жить <…>[150 - Хлебников В. В. Синие оковы // Хлебников В. В. Собр. произведений / Сост. Н. Степанов. Л.: Изд-во писателей, 1928. Т. 1. С. 286. Курсив мой. – О. Х.-Л.].
Если для архаичного сознания (и мифопоэзии Хлебникова) «есть» и «читать/слышать» являются синонимами, то «слова» приравниваются к «пище»; лексемы, однако, являются здесь не как нечто абстрактно-семиотическое, а как «слова-вещи». Ведь таким же анаграмматическим образом переплетаются понятия «письма» и «пища». В следующем стихотворении «Всем» (1922) присутствуют практически все существенные элементы рассматриваемой здесь парадигмы:
Есть письма – месть.
Мой плач готов,
И вьюга веет хлопьями,
И носятся бесшумно духи.
Я продырявлен копьями
Духовной голодухи,
Истыкан копьями голодных ртов.
Ваш голод просит есть,
И в котелке изящных чум
Ваш голод просит пищи —
Вот грудь надармака!
И после упадают, как Кучум
От колий Ермака.
То голод копий проколоть
Приходит рукопись полоть.
Ах, жемчуга с любимых мною лиц
Узнать на уличной торговке!
Зачем я выронил эту связку страниц?
Зачем я был чудак неловкий?
Не озорство озябших пастухов —
Пожара рукописей палач, —
Везде зазубренный секач
И личики зарезанных стихов.
Все что трехлетняя година нам дала,
Счет песен сотней округлить,
И всем знакомый круг лиц,
Везде, везде зарезанных царевичей тела,
Везде, везде проклятый Углич![151 - Хлебников В. В. Всем // Хлебников В. В. Собр. произведений / Сост. Н. Степанов. Л.: Изд-во писателей, 1931. Т. 3. С. 313. Курсив мой. – О. Х.-Л.]
В этом тексте первое слово «есть» фигурирует в амбивалентной форме, которую невозможно однозначно разрешить: с одной стороны, как глагол бытия, с другой – выражает прием пищи («голод просит есть»). «Письмо» означает у Хлебникова «письмо» в смысле конкретно-вещного ручного труда (руко-писи), а также – как и в немецком – Schrift как «текст» в смысле еcriture; дословное значение слова «письмо» в смысле «послания» играет лишь второстепенную роль.
Таким образом, «съедение письма» соотносится с физическим аспектом письма в области архаичных, докультурных, предсемиотических «вещей» (и их названий), оно соотносится с «буквами как таковыми», которые в футуризме обретают собственное, независимое существование, соответствующее сущности мифического языка (Адама) – слову как таковому[152 - См.: Буква, как таковая // Манифесты и программы русских футуристов / Сост. В. Ф. Марков. Мюнхен: Fink, 1967. С. 60; cp.: 1913. Слово как таковое: К юбилейному году русского футуризма: Материалы междунар. науч. конференции (Женева, 10–12 апреля 2013 г.) / Ред. Ж.-Ф. Жаккар, А. Морар. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2015.]. Недаром письма, то есть рукописи и книги, в поэтологии футуризма назывались «вещами», тем самым указывая на ремесленный, искусственный, «сделанный» характер текстов авангарда[153 - Ханзен-Леве О. А. Интермедиальность в русской культуре: От символизма к авангарду. М.: РГГУ, 2016. С. 49–56.].
Мифопоэтические письма тоже принадлежат к вещной и телесной сфере, так же как «буквы» у Хлебникова изначально происходят от мира деревьев. Поэтому-то и возможно, что (кто-то) «приходит рукопись полоть», поэтому-то письма могут поджечь полено, особенно если учесть, что понятия «сжигать» и «переваривать» в архаичном мышлении сливались в одно. «Пожар рукописей» (или их сжигание) хотя поверхностно и напоминает о Гоголе, который сжег вторую часть «Мертвых душ», на мифологическом уровне обозначает изначально упомянутую (дионисийскую) «диссоциацию», дословное «рас-членение» тела, обозначающее письмо, которое (снова) превращается в землю, «словесное тело», которое после разложения возрождается в недрах земли. В конце концов, в этом и состоит задача «палача» и «секача», мужской разновидности «женщины лунного месяца» с ее косой.
Здесь «зарезанные стихи» приравниваются к «зарезанным телам». В этом контексте немудрено, что все стихотворения являются «песнями земли» и, таким образом, своим собственным плачем. Поэзия оплакивает – в актуализированном жанре средневекового плача – свое «собственное расчленение», без которого она, однако, не смогла бы быть воспринята, то есть принята (землей) и возрождена[154 - См. «…в них качаются люди…»; «Я же во взорах прохожих письма ем…» (Хлебников В. В. Неизданные произведения. С. 272. Курсив мой. – О. Х.-Л.).].
Эквивалентность «письма» или «книги» с «землей» соответствует равнозначности «чтения» и «еды»; чтение, однако, стоит понимать не как исключительно герменевтический мотив расшифровывания «текста мира» (как это представлялось символистам), а как действительное телесное усвоение: «прочесть письмо зари»[155 - «Сегодня строгою боярыней Бориса Годунова…» (1915; Хлебников В. В. Собр. произведений. Л., 1930. Т. 2. С. 238).] соответствует «наслаждению текстом», голоданию по «словесному телу», его эротичной привлекательности, «нежности»[156 - «Где засыхает невозможность на ладонях поучения…» (Хлебников В. В. Собр. произведений. Т. 3. С. 143): «Слова – мы нежны! любим! ропщем! / <…> / Чтоб два конца речей / Слились в один ручей <…>».].
В кратком парадигматическом тексте «Муха! Нежное слово…» (1913) съедание письма приписывается мухе, которая в животной символике Хлебникова занимает, как мы знаем из множества других примеров, значительную роль. Она регулярно вступает в метонимичную связь со всеми мотивами «смерти» и «телесного разложения» (трупа, черепа), то есть с метафоричным разложением «тела» (и, аналогично, словесного тела) на части:
Муха! нежное слово, красивое,
Ты мордочку лапками моешь,
А иногда за ивою
Письмо ешь[157 - Хлебников В. В. Неизданные произведения. С. 152.].
Мифические мухи принадлежат к сфере (органического) разложения; таким образом, они представляют собой признак всех персонажей водяного и болотного мира («ива»!), – стоит только вспомнить образ «мухо-мора», который в цитируемом тексте присутствует также анаграмматически. С одной стороны, муха участвует в мотивике «съедания» (мордочка) и, таким образом, в (семиотическом) восприятии, с другой стороны, ее звуковой состав (муха) содержит тот орган, лишь благодаря которому восприятие возможно осуществить, – ухо.
Похожее встречается в прозе «Дети выдры» (1913): «Муха садится ему на ухо <…>»[158 - Хлебников В. В. Собр. произведений. Т. 2. С. 144.]. Таким образом, муха одновременно является тем самым словом (здесь оно тоже нежно, «нежное слово»!), которое поедает само себя, а именно в облике «письма», того самого текста, на котором оно «написано» («Трубите, кричите, несите!», 1921):
А вы пойдете и купите
На вечер – кусище белого хлеба.
Вы думаете, что голод – докучливая муха,
И ее можно легко отогнать,
Но знайте – на Волге засуха:
<…>
Волга всегда была вашей кормилицей,
<…>
Кричите, кричите, к устам взяв трубу![159 - Хлебников В. В. Собр. произведений. Т. 3. С. 194. Курсив мой. – О. Х.-Л.]
Для Хлебникова одновременно утопичное и архаичное состояние мира достигнуто тогда, когда «вся земля» станет «съедобной»[160 - Хлебников В. В. Утес из будущего // Собр. произведений. Т. 4. С. 299.], после того как «младшие братья человека», растения и животные, «сбросили свои оковы»; именно тогда закончится разногласие «города» и «деревни» – так же, как свободная метаморфоза между «миром» и «текстом», «вещью» и «словом», между «едой» и «речью», между «усвоением» и «олицетворением» («олицетворение слова»), которая превращает мир в единое целое, состоящее из «земли» и «речи».
Когда земля вновь перейдет в подобное состояние «съедобности», тогда (вновь) будет достигнута (футуристическая) утопия и реституция (архаичного) первобытного состояния. Съедобность распространяется не только на земле, но и во всем космосе, который – здесь Хлебников пользуется карнавальным фольклором – поглощается в образе «человеческой головы»: «Как мухи, в вышине неба жужжали летчики <…>»[161 - Там же. С. 303.].
Существенной для архаичного мира Хлебникова является анаграмматическая связь между парадигмой «имени» и «еды». С мифологической точки зрения имя является ранней формой (вербального) общепринятого знака; имени поэтому соответствует «вещная» природа земли, «слову-термину», напротив, – предмет культурного мира. Имя, им-я ассоциируется как с местоимениями «им» (дательный падеж, множественное число) и «я», так и с понятием «иметь», в то время как парадигма «еды», как уже упоминалось, составляет омонимичную связь с понятием «бытия» («есть» – «есть» или «съесть»).
И наконец, в русском языке форма прошедшего времени глагола «иметь» – то есть «имел» – допускает анаграмматическое обратное соединение как с понятием «имя» (имел), так и с понятием «есть» в смысле принятия пищи, форма прошедшего времени которого – «ел» (а значит: им-ел). В духе поэтической этимологии «ел» в смысле еды можно разыскать – хотя и в перевернутом виде – в имени «Хлебников». А «хлеб» и без того является частью целого, земли: «Угрюмый отец / Хлеб делит по крошкам / <…> / В хлебе, похожем на черную землю, / Примесь еловой муки <…>» («Голод», 1921[162 - Хлебников В. В. Собр. произведений. Т. 5. С. 77. Курсив мой. – О. Х.-Л.]).
Культ обжорства (позднее превратившийся в карнавальный, опустившийся до обычая) возвышает едящих до ранга богов («все мы сегодня цари»), заключение на «земле» гарантирует их божественное происхождение («Прачка», 1921):
Торговцы смехом,
Запевалы голода,
Обжоры прошлым годом,
Пьяницы вчерашнего дня,
Любовники водосточной трубы,
Мудрецы корки хлеба,
<…>
Все мы, все мы сегодня цари!
Любители желудка,
<…>
Землекопы вчерашних обедов —
Божьи дети[163 - Хлебников В. В. Собр. произведений. Т. 3. С. 258.].
Здесь особенно очевидна архаичная двойственность «жизни» и «смерти», «умирания» и «рождения»: труп одновременно является сосудом смерти и жизни, телу необходимо превратиться в труп, дабы послужить «хлебом» (или же «вином») жизни и возрождения тому, кто его поедает. Как обычно, Хлебников ссылается через религиозный образ Христа на архаично-мифические формы культового поедания детей («Как быстро носятся лета…», 1914):
Друзья! Извольте меня слушать.
Вам стол готов, прошу откушать
<…>
Открою я новость:
Ты сыноед!
Позавтракал ты сыновьями,