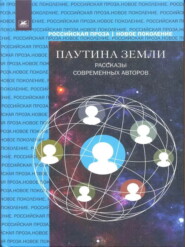По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лакан в Японии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лакан в Японии
Сборник
Лакановские тетради
Эта книга о психоанализе, его возможности и невозможности в культуре, радикально отличающейся от Западной. Отличия эти в первую очередь выражены в особенностях языка, выстроенного по иным законам. Особенности японского языка по-другому структурируют бессознательное и собирают субъект. Различные тексты, помещенные в эту книгу, с разных сторон подходят к проблематике символической системы, скроенной из странных для Западной культуры черт. Эта книга о бессознательном, иероглифической письменности и психоанализе.
Лакан в Японии
© Музей сновидений Фрейда, 2012
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2012
© «Алетейя. Историческая книга», 2012
Дани Нобус
Лакан в Японии – 2[1 - Статья «Lacan in Japan – 2» была опубликована в Journal for Lacanian Studies, Volume 3, no 1 (Karnac Books, London and New York, 2005. – Pp.125–128). Редакторы «Лакана в Японии» выражают благодарность автору за предоставление текста для перевода на русский язык. Фрейд, Лакан и Япония]
21 апреля 1971 года Жак Лакан выступил с лекцией в Токийском университете по приглашению профессора Такацугу Сасаки, который готовил перевод на японский язык «Писаний». Лекция была организована издательством «Кобундо Пресс», которое приняло решение опубликовать перевод Сасаки. Выступление Лакана на французском языке было записано на магнитофон и затем расшифровано Филиппом Понсом, в то время работавшем дальневосточным корреспондентом французской газеты «Лё Монд». Расшифровка Понса хранилась в издательстве «Кобундо», и затем была переведена на японский язык профессором Сасаки, который включил этот текст вместе с переводом «Радиофонии» Такухико Итимура в книгу, опубликованную «Кобундо» в 1985 году.
Непонятно, выступал ли Лакан по заранее написанному тексту или приблизительному плану, но стиль «Токийской речи» и отсутствие каких-либо записей самого Лакана, имеющих непосредственное отношение к этому выступлению, указывают на то, что лекция была импровизацией, основанной, вполне возможно, на каких-то предложениях Сасаки и его переводческой команды. По содержанию лекции можно придти к выводу, что в аудитории не было психоаналитиков, ни японских, ни каких-либо других, и что публика была либо вообще не знакома, либо едва знакома со спецификой трудов Лакана и историей психоанализа во Франции. Непонятно также, переводилась ли лекция на японский язык синхронно. Никаких указаний на чередование французского и японского языков, равно как и вообще на присутствие японского переводчика, в транскрипции Понса нет. Поскольку лекция была приурочена к выходу в свет японского перевода «Писаний», и поскольку в зале находился Сасаки со своей переводческой командой, то, вполне возможно, что аудитория в целом достаточно хорошо понимала по-французски, и в переводчике на японский никакой нужды вообще не было. Отсутствие вопросов и ответов в транскрипции Понса, разумеется, не означает, что после лекции не было никакой дискуссии. Напротив, опять таки исходя из того, что Лакан был приглашен по случаю публикации переводов, то, скорее всего, переводчики все же задавали какие-то вопросы по поводу отдельных неуклюже переведенных пассажей, но магнитофон просто плохо записал эту часть встречи, или вообще был на это время выключен.
Читатели «Токийской речи», безусловно, заметят, что лекция Лакана не требует никаких пояснений, по меньшей мере, потому, что она сама себя прекрасно объясняет. Трудности, которые, возможно, возникнут при чтении, скорее всего, будут вызваны буквальной транскрипцией слов Лакана, неожиданными отступлениями и оборотами, которые неизбежно включает в себя любая живая речь. Теперь уже не установить, были ли мысли Лакана настолько же ясны и прозрачны для японской аудитории, насколько для образованного западного читателя, но в сравнении с предельно абстрактными (и откровенно закрученными) соображениями, над которыми Лакан работал вначале 1970-х годов, данный текст действительно облегченный, что, впрочем, не означает, ни тривиальности его содержания, ни, тем более, того, что вся эта речь не имеет никакого значения для знатоков. В новом введении в «Писания» Лакан скептично отнесся к способности японцев его понимать: «Я ничего не жду от Японии. То понимание об обычаях этой страны и даже о ее красотах, которое у меня сложилось, не наводит меня на мысль о том, что стоит ожидать многого, в частности того, что меня там поймут» (1981 [1972], p.2). Если это и так в отношении текстов «Писания», которые, в конце концов, даже для многих французов, включая и некоторых самых верных приверженцев Лакана, остаются непонятными, то все же сложно себе представить, что «Токийская речь» полностью ускользнула бы от понимания аудитории, да и Лакан оставляет нас с ощущением, что он действительно хотел быть понятым, чего не скажешь о «Писаниях».
Посещение страны восходящего солнца в апреле 1971 года не было для Лакана первым. В «Токийской речи» он сам напоминает, что бывал в Японии раньше, в те времена, когда был членом «Французского психоаналитического общества». Лакан утверждает, что впервые побывал здесь одиннадцать лет назад, хотя на самом деле это было восемь лет назад, в апреле 1963 года, как это следует из пассажа в лекции от 8 мая 1963 года в ходе семинара по страху (Lacan, 2004 [1962-63], p.248). Что именно заставило Лакана тогда сесть в самолет, направлявшийся в Японию (через Северный полюс) в 1963 году – вопрос для историков и биографов, нас же это здесь не особенно интересует. Впрочем, стоит заметить, что первая поездка была в меньшей степени обусловлена конкретным делом и, возможно, скорее объяснялась духом открытий, жаждой новизны, экзотическим знанием. С фотоаппаратом в руках Лакан посетил древние буддийские храмы в Киото и Нара; особенно его впечатлила колоссальная статуя Будды в храме Тодайдзи. Судя по тому размаху, с которым 8 мая 1963 года Лакан предлагает вниманию аудитории то, что увидел сам (вплоть до того, что он показывает снятые им самим фотографии), то, чему научился, Япония все же сподвигла его на новые формулировки, теории, проблематизацию ряда понятий, чем он по возвращении занялся уже в своем парижском доме.
Нечто подобное случилось и в 1971 году. Вернувшись из поездки (через всю Сибирь!) и вновь оказавшись в лекционной аудитории 12 мая 1971 года, Лакан предложил вниманию публики пространный (и тщательно выстроенный) анализ того, чему его научила Япония в связи с чтением, письмом и отношениями между означающим и буквой:
Я только что вернулся из поездки в Японию, о которой долго мечтал, поскольку во время первого посещения этой страны я пережил встречу с прибрежной полосой… Я просто отмечу то, что приобрел благодаря новому маршруту, то, что уже не было под запретом, как во время первого визита. Надо признать, что пища для размышлений у меня появилась не во время дальнего перелета на самолете вдоль полярного круга, когда смотрел я на сибирскую равнину. Это мое эссе, которое может быть названо сибириэтикой, не увидело бы дневного света, если бы не подозрительность советских властей, не позволивших мне увидеть города, промышленные предприятия, военные базы, которые для них и представляют главную ценность Сибири. Но это всего лишь случайные, акцидентальные условия, хотя, возможно, не в меньшей степени, их можно назвать и западными, окцидентальными. Единственное подлинное условие – это встреча с прибрежным, которую я осознал лишь на обратном пути, благодаря тому, что Япония сделала со мной, конечно же, своей буквой, а именно слегка пощекотала меня, так, чтобы я эту встречу почувствовал (Lacan, 1971, p.6).
Разработка того, что вовлечено Лаканом в «чтение» японской культуры, особенно того, как японский субъект относится к сложнейшей системе иероглифического письма, выходит за рамки моего краткого введения, да к тому же было уже сделано в другом исследовании (Miller, 1988). Достаточно сказать, что Япония вдохновила Лакана на пересмотр культурных границ его собственной теории и даже возможности применения психоанализа как клинической практики к тем людям, чьи символические идентификации радикально отличаются от тех, что действуют в Западной культуре. «Культурный релятивизм» Лакана, по крайней мере, в отношении японцев, несомненно, не настолько очевиден в его токийской лекции, но все же он будет пришпилен к его дискурсу особенно заметно с середины 1970-х годов. Для Лакана, психоанализ в Японии, для японцев, не был ни необходимым, ни возможным (Lacan, 1972, 1977), несмотря на тот факт, что им, конечно же, в Японии пытались заниматься (Parker, 2004).
После 1971 года Лакан уже никогда в Японию не возвращался, хотя продолжал изучать восточную культуру, китайскую философию, буддизм и японские обычаи. Как сообщает Элизабет Рудинеско, после возвращения во Францию, Лакан попросил Мориса Крука, профессора архитектуры в Университете Киото, помочь ему со строительством японского домика для отдыха на его даче в Гитранкуре. Лакан «собирался постигать там тайны чайной церемонии, и даже приобрел для этого редкие антикварные предметы, включая чашу монояма, тщательно выбранную для него любимым торговцем антиквариатом» (Roudinesco, 1987 [1993], p.355). Двух посещений Лакану явно хватило для того, чтобы Япония, если и не стала для него далеким от дома домом, то, по крайней мере, иностранным домашним жилищем в интимном пространстве дачи.
Автор выражает благодарность за помощь в подготовке этой статьи профессору Университета Киото Кадзусигэ Сингу.
(пер. с англ. В. Мазина)
Библиография
Lacan, J. (1966) Еcrits. Paris: du Seuil.
Lacan, J. (1971) Lituraterre, Littеrature, 3, pp.3-10.
Lacan, J. (1977) “Extraits de la discussion qui eut lieu apr?s l’exposе de Jacques Aubert: Galerie pour un portrait” aux Confеrences du Champ freudien’, Analytica, 4: 16–18.
Lacan, J. (1981 [1972]) Prеface a l’еdition japonaise des Еcrits, La lettre mensuelle de l’Еcole de la cause freudienne, 3, pp. 2–3.
Lacan, J. (2004 [1962-63]) Le Sеminaire. Livre X: L’angoisse. Text еtabli par J.-A.Miller. Paris: du Seuil.
Miller, J.-A. (ed.) (1988) Lacan et la chose japonaise. Paris: Navarin.
Parker, I. (2004) Rakan no seishin-bunseki. Journal for Lacanian Studies, 2(2): 318–328.
Roudinesco, E. (1997[1993]) Jacques Lacan. Translated by B. Bray. New York: Columbia University Press.
Приложение
Жак Лакан
Токийская речь
Д-р Жак Лакан:
Парижская школа Фрейда, чьей программой «Писания» быть не претендуют, возникла в результате двух расколов внутри парижского психоаналитического сообщества. Говоря о сообществе, я имею в виду просто-напросто психоаналитиков, которые имелись тогда в Париже. Первый раскол привел к образованию двух отдельных организаций – одна называлась Парижским психоаналитическим институтом, а другая назвала себя Французским психоаналитическим обществом. Когда одиннадцать лет назад я приехал в Японию, я был членом Французского психоаналитического общества. В истории психоаналитических групп во Франции подобные расколы не редкость. Возьмем, к примеру, Швейцарию – там существует целый ряд групп. И связаны они между собой очень слабо.
Так получилось, что первый раскол произошел по причинам вполне случайным, связанным с вещами маловажными, вроде, например, личного соперничества. Но при этом, по причинам не менее случайным, одна из групп вышла в результате из так называемой Международной психоаналитической ассоциации. Произошло это в связи с личными отношениями, которые принцесса Мария Греческая, личность ныне прочно забытая, поддерживала с Анной Фрейд. Вследствие этих последних вместо того, чтобы признать оба возникших сообщества, что было бы вполне нормально, Ассоциация, воспользовавшись тем, что мы заявили, вполне естественно, о нашем выходе из распавшейся группы, исключила меня из своих рядов. Если бы Ассоциация играла по правилам, она сочла бы это простой формальностью и признала бы нас в качестве самостоятельной группы. Происшедшее получило любопытные последствия: среди нас оставались люди, тяжело переживавшие это разделение и сделавшие все, чтобы вернуться в Ассоциацию вновь.
Вот тут-то и выяснилось вполне значение моей десятилетней преподавательской деятельности – то, чему я учил, оказалось в корне отличным от направления, задававшего тон в англо-американском психоанализе. И это не удивительно, Фрейд нечто подобное уже предвидел – он предвидел, что, будучи включен в американское общество с присущей ему манерой мышления, психоанализ претерпит серьезные изменения. Эта мысль прослеживается в его работах. Да, он это предвидел. Так оно самым явным образом в действительности и происходит. Господин Хайнц Хартман, к примеру, чье слово в Нью-Йоркском психоаналитическом обществе решает все, ясно заявил, что программой действий для психоанализа, его практики и дидактики, должно стать включение его в рамки концептов, которые он сам именует общей психологией. Это было сказано, написано черным по белому и служит программой для всей американской школы психоанализа, насколько та Нью-Йоркскому движению следует – а она действительно движется более или менее в его русле. Соединенные Штаты большая страна и разнообразие, так или иначе, неизбежно, но командный стиль, принесенный эмигрантами из Германии, это наследие немецких университетов, наложил здесь, однако, свою печать. Именно эта группа эмигрантов, которая мне хорошо знакома, поскольку в предвоенные тридцатые годы мне многих из них довелось знать лично – они все побывали в Париже, и я, собственно, занимался ими – задала тон американскому психоанализу в послевоенные годы.
То, что произошло в 1963 году в результате настоятельного желания ряда моих коллег, преподавателей из Сорбонны, вернуться в Международную Ассоциацию, обернулось уступками с их стороны в отношении того, что как раз и составляло радикальное отличие моего учения от направления, господствовавшего в американском психоанализе, к которому была близка, скажем, Анна Фрейд, чей подход к детскому психоанализу прекрасно согласуется с программой Нью-Йоркского психоаналитического сообщества.
Именно в этот момент в связи с обстоятельствами и оборотом, который дела приняли, я заявил, что не собираюсь продолжать свою преподавательскую деятельность, бывшую, надо признать, сердцевиной Французского общества психоанализа; именно она задавала в нем тон и обусловливала его значимость. Никто кроме меня и не пытался работать над развитием психоаналитического учения. Профессора Сорбонны, чьи имена я не собираюсь здесь называть, ограничивались пережевыванием отдельных, уже порядком надоевших, тем, и большой плодовитостью не отличались. В итоге я заявил, что не собираюсь продолжать преподавание в сложившихся условиях, причем не давая никаких определенных обещаний на будущее.
Случилось так, что в этот момент мне предложили продолжить преподавание в так называемой 6-й секции Практической школы Высших исследований, где я оказался коллегой таких людей как Клод Леви-Строс. Поскольку многие из моих прежних учеников остались со мной и не проявили желания вернуться в Международное общество, я оказался за них в ответственности и основал то, что называется – точнее, что я назвал, поскольку именно я это имя придумал – Парижской фрейдовой школой. Ясно, что называя ее фрейдовой в подобных условиях, то есть порывая с международным сообществом, претендующим на монопольное владение наследием Фрейда, я заявил тем самым свой протест, в том числе в юридической форме. Интересно, что перчатку так никто и не поднял. Я имею в виду, что никто в Париже не осмелился оспаривать, что мое учение отвечало фрейдовскому. Вот что я по поводу современного положения дел в Школе могу сказать.
Есть множество людей, которые не находят в принадлежности к Международной ассоциации особых преимуществ. Я знаю немало таких, чьей ноги не бывает на их конгрессах и кто питает к подобным мероприятиям явную неприязнь. Ясно одно – те, кто в том или ином виде приобщился к моему учению, даже примыкая к другой группе, поскольку многие, по чисто карьерным соображениям, юридически от меня откололись, чувствуют себя, по собственным их признаниям, не в своей тарелке в атмосфере Международной ассоциации, где все построено на гипотезах, принципах, а, точнее сказать, предрассудках, то есть на некоторых фундаментальных положениях, которые никем никогда не оспариваются.
Вещи, которые они слышат на конгрессах Ассоциации, смущают тех, кто фактически уже строит свою работу на мною провозглашенных принципах. Относительно этих последних нелишне будет заметить, что конструкция, которую я возвожу постепенно вот уже восемнадцать лет, держится прочно – а это о чем-то да говорит. И созидательная работа продолжается, какой бы абстрактной она порою вам ни казалась – впрочем, все зависит здесь от того, каким слухом вы умеете подобные вещи прочитывать.
Среди вас нет ни одного психоаналитика. Это стыдно. Но в этом есть и свои преимущества. Поскольку случись таковой среди вас, он оказался бы воспитан на принципах, которые, как я предполагаю, хотя и не знаю наверняка, должны здесь, по идее, господствовать, то есть на принципах, ведущих свое начало от американской школы психоанализа – а это вызвало бы определенные трудности. То, что для знакомых с моим преподаванием составляет в моем стиле подачи материала и подходе к практике психоанализе главную трудность – это вещи, которые могут показаться чрезвычайно абстрактными – на самом деле это не так, они не абстрактны, а, напротив, максимально конкретны – вещи, которые тем, кто психоаналитиками не являются, очень трудно себе представить, поскольку опираются они на опыт, который мы назовем здесь опытом кушетки, на том, что происходит в кабинете аналитика на его кушетке и внутри искусственной – ибо она безусловно искусственна – ситуации психоанализа. И не нужно представлять ее себе, эту ситуацию, как открытие чего-то такого, что лежит, будто бы, в сердцевине человеческой души, человеческого существа. Так во имя чего эта ситуация создается?
Психоанализ – это не аскеза, это техника, это чрезвычайно точный инструмент, призванный проникнуть во что-то такое, чью подлинную природу нам еще предстоит выяснить. Ситуация, в которой он должен работать, примерно следующая: люди приходят к психоаналитику, требуя от него чего-то такого, о чем у них самих нет ни малейшего представления; то, чего они требуют, носит смутный характер и связано, по меньшей мере у некоторых, с болезненными симптомами, от которых они хотели бы избавиться. Психоанализ рассматривается как своего рода непонятная для них сила, способная творить чудеса. Понятно, что мы не стремимся подобное представление эксплуатировать. Я хочу сказать, что надо отдать психоанализу должное в том, что он не пытается, играя на доверии так называемого пациента, внушать ему что-то или так или иначе руководить им. Будь это так, психоанализ давно бы сошел со сцены, как произошло это со многими другими техниками, опиравшимися на подобную тактику.
Психоанализ представляет собой четкую технику, в основе которой лежит правило, согласно которому пациенту предлагается говорить все, что ему заблагорассудится. При этом его ориентируют, конечно, на что-то такое, что может показаться аналитику интересным и учат не ограничиваться так называемыми признаниями. Им предлагают выговаривать все, что им придет в голову, даже если это представляется им неуместным и маловажным. Людей, встречающихся с этой практикой, всегда поражало то, что на ее основе вырастают бесконечно более сложные и богатые отношения, именуемые переносом.
В результате анализа переноса выясняется, что он представляет собой нечто совершенно иное, нежели привязанность к аналитику, основанная на доверии к нему или вере в него. Очевидно становится, что природа этого явления не ясна, и аналитику следует лучше разобраться в том, что он делает и обратить на анализ переноса особенное внимание. Ясно, что говоря о нем и пытаясь его теоретизировать, мы систематически погружаемся в темноту и заходим в тупик. Это давно замечено. О неврозах переноса стали говорить именно от того, что манипулировать переносом оказалось не так просто, как казалось на первый взгляд. Манипулируя им неправильным образом, мы его увековечиваем, то есть приходим к чему-то такому, что представляет собой новую форму невроза, входящего в самую ткань отношений пациента и аналитика.
То, чему я учу, имеет по меньшей мере то преимущество, что позволяет выслушивать речь пациента в совершенно ином разрезе. Будем для простоты называть его именно так – пациентом, хотя выражение это крайне неудачное и вы знаете, наверное, что я предпочитаю называть его психоанализантом – термин, который знатоку английского языка, несмотря на наличие в нем герундия со значением «подлежащий психоанализу», не покажется странным; так или иначе термин этот имеет перед тем, что обычно употребляют сейчас, говоря о «психоанализируемом», то преимущество, что проходящий психоанализ если и является психоанализируемым, то разве что в самом конце. А пока этого не произошло, лучше называть его психоанализантом – это выгоднее подчеркнет активность его позиции, так как ясно, что на самом деле психоанализант не является пациентом, так как он призван проделать определенную работу, и важно лишь, чтобы работа эта не прошла даром, то есть чтобы он мог в происходящем отдать отчет. Тех, кто проходит у меня обучение, поражает порою насколько часто люди, имеющие дело с пациентами – вернемся к старому слову – или занимающиеся с ними психоанализом признаются, что слова, услышанные от меня на очередном семинаре, буквально, словно по волшебству, вторили тому, что говорил им пациент сорока восемью часами раньше. Вполне вероятно, что не присутствуй они на моем семинаре, они просто не расслышали бы, что им пациент говорил. Это нам всем очень свойственно – способ, которым мы слушаем, позволяет нам расслышать лишь то, что мы слышать уже привыкли. Если пациент говорит нам что-то другое, мы, в силу присущих практике речи правил, подвергаем это цензуре. Цензура – вещь самая банальная и имеет место не только на уровне нашего личного опыта, но и на всех уровнях наших так называемых отношений с себе подобными – другими словами, мы просто не слышим то, что не привыкли слышать заранее. Мы не обращаем внимания на то, что целый отрывок, целый параграф только что сказанного чреват чем-то особенным, хочет сказать что-то такое, чего в самом тексте нет. Это и есть то главное, чему я стремлюсь научить: хотеть недостаточно. То, что хотят сказать, сказать обычно не удается. Здесь то и требуется слух психоаналитика, способный уловить то, что другой в действительности хотел сказать. А того, что он хотел сказать, в тексте, как правило, не найдешь.
Я не знаю, что представляет собой лингвистика в Японии и в каких регистрах вы работаете. В моем курсе лингвистика послужила всего-навсего отправной точкой. Надо прямо сказать, что будь у меня другая публика, а не одни медики и психологи, то есть совершенно несведущие – не то что несведущие в лингвистике, а просто-напросто необразованные… Но именно с этого мне пришлось начинать. Начинать пришлось именно с этого, потому что это и есть то самое, что означает на моем языке возврат к Фрейду. Но говоря о возврате, я не имею в виду, что необходимо вернуться к некой воображаемой первичной чистоте.
Если появилось после Фрейда – а оно появилось – что-то действительно новое, то я, разумеется, не только не противостою этому, но напротив, проявляю к этому живой интерес. Ясно, к примеру, что выводы Мелани Кляйн, хотя и выраженные у нее в крайне нецивилизованной форме, основаны на опыте, представляющем необычайный интерес и нуждающемся в подобающем концептуальном оформлении, которое она неспособна оказалась ему придать. Как бы то ни было, перед нами плод опыта, живого опыта работы с детьми, которую она решилась проделать. Можно критиковать ее подход с терапевтической точки зрения, но ясно уже, что он принес свои результаты и что способ ее работы с детьми, который внешнего наблюдателя может повергнуть в ужас, отнюдь не имел предполагаемых ужасных последствий. Ее анализ оказался, напротив, очень щадящим и чрезвычайно плодотворным.
Возврат к Фрейду не является, таким образом, самоцелью. Я просто полагаю, что Фрейда поначалу читали так, как читают всякого, кто говорит что-то новое, то есть воспринимая сказанное им как общее место. На самом деле речь шла о радикальном перевороте. Необходимо было любой ценой выстроить защитные интеллектуальные схемы, которые позволили бы, в конечном счете, не двигаться с места, остаться верными прежним представлениям о человеке и о том, что значит быть человеком. Необходимо было во что бы то ни стало остаться при своем. В результате, читая Фрейда, вычитывали в нем то, что хотели увидеть, не замечая при этом того, что у него прочитывалось черным по белому. Об этом свидетельствуют уже три его первых книги: «Толкование сновидений», «Психопатология обыденной жизни» и «Остроумие». Несмотря на все, читателю, по крайней мере западному читателю, а я полагаю и читателю дальневосточному тоже, требуется душа. Душа – это что-то такое, что должно существовать, что может отделяться от тела и повинуется своим собственным правилам. Я прекрасно знаю, что у вас другая традиция и что пока с запада не повадились гости о психологии у вас речь не шла – место преподавания психологии как такового занимает у вас знакомство с различными практиками медитации. В то время как в университетах Запада уже с самого начала их существования, то есть со времен высокого средневековья, психология заняла место в ряду других научных дисциплин, в результате чего определенные представления стали всеобщим достоянием и вошли в обязательный умственный обиход.
Если подойти к чтению Фрейда свободным от психологических предрассудков, что вам, вероятно, сделать значительно проще, чем людям Запада, то поражает в нем в первую очередь то, что единственные вещи, о которых у него идет речь – это слова. Возьмем «Толкование сновидений» – что Фрейд о сновидениях говорит? Сновидение – говорит он с самого начала – это ребус. Говоря о возвращении к Фрейду, я призываю всего-навсего вчитаться в то, что он действительно пишет, не представляя себе бессознательное как клубок ваты, из которого торчат отдельные нити сознательного. Не пытайтесь выстраивать схемы, в основе которых лежит идея, будто существует какая-то отдельная субстанция, именуемая душой, и душа эта живет своей независимой жизнью – ведь человека трудно отучить от мысли, будто душа ведет отдельную жизнь, более того, будто она сама и есть жизнь, одушевляющая собой тело. Именно так и читали Фрейда, представляя себе бессознательное как субстанцию.
Я не спешил заняться преподаванием и начал заниматься этим когда мне стукнул пятьдесят один год – за моей спиной было к этому времени двенадцать или тринадцать лет практики и я не считал возможным приняться за это дело преждевременно, то есть не имея в своем багаже достаточного аналитического опыта и параллельного непредвзятого изучения работ Фрейда. Я не мог начать раньше, учитывая медицинскую публику, с которой я имел дело – публика, для которой все это куда более внове, чем для других, внове как раз потому, что они медики и занимаются телом, при том, что о теле-то то они как раз ничего и не знают: врач знает о теле куда меньше массажиста и приходит в восторг, когда с ним заговаривают о душе. Когда ему говорят, что причины болезни надо искать в душе, в отношениях между больным и врачом, он восторгается – нашлось, наконец, что-то такое, что дает его существованию какое-то оправдание. Беда в том, однако, что дело оборачивается для него еще хуже, чем прежде. Все это прекрасно мирится с расхожими религиозными воззрениями – ведь нет, на самом деле, ничего более органицистского, ничего более склонного к соматическим объяснениям, к решению телесных проблем при помощи механических приспособлений, нежели католическая церковь. К сожалению с развитием современной биологии ясно становится, что дело обстоит гораздо сложнее, чем медицинская традиция это в общем себе представляет. Поэтому когда им объясняют, что душа, к примеру, это отношения между доктором и больным, они самодовольно успокаиваются.
Сборник
Лакановские тетради
Эта книга о психоанализе, его возможности и невозможности в культуре, радикально отличающейся от Западной. Отличия эти в первую очередь выражены в особенностях языка, выстроенного по иным законам. Особенности японского языка по-другому структурируют бессознательное и собирают субъект. Различные тексты, помещенные в эту книгу, с разных сторон подходят к проблематике символической системы, скроенной из странных для Западной культуры черт. Эта книга о бессознательном, иероглифической письменности и психоанализе.
Лакан в Японии
© Музей сновидений Фрейда, 2012
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2012
© «Алетейя. Историческая книга», 2012
Дани Нобус
Лакан в Японии – 2[1 - Статья «Lacan in Japan – 2» была опубликована в Journal for Lacanian Studies, Volume 3, no 1 (Karnac Books, London and New York, 2005. – Pp.125–128). Редакторы «Лакана в Японии» выражают благодарность автору за предоставление текста для перевода на русский язык. Фрейд, Лакан и Япония]
21 апреля 1971 года Жак Лакан выступил с лекцией в Токийском университете по приглашению профессора Такацугу Сасаки, который готовил перевод на японский язык «Писаний». Лекция была организована издательством «Кобундо Пресс», которое приняло решение опубликовать перевод Сасаки. Выступление Лакана на французском языке было записано на магнитофон и затем расшифровано Филиппом Понсом, в то время работавшем дальневосточным корреспондентом французской газеты «Лё Монд». Расшифровка Понса хранилась в издательстве «Кобундо», и затем была переведена на японский язык профессором Сасаки, который включил этот текст вместе с переводом «Радиофонии» Такухико Итимура в книгу, опубликованную «Кобундо» в 1985 году.
Непонятно, выступал ли Лакан по заранее написанному тексту или приблизительному плану, но стиль «Токийской речи» и отсутствие каких-либо записей самого Лакана, имеющих непосредственное отношение к этому выступлению, указывают на то, что лекция была импровизацией, основанной, вполне возможно, на каких-то предложениях Сасаки и его переводческой команды. По содержанию лекции можно придти к выводу, что в аудитории не было психоаналитиков, ни японских, ни каких-либо других, и что публика была либо вообще не знакома, либо едва знакома со спецификой трудов Лакана и историей психоанализа во Франции. Непонятно также, переводилась ли лекция на японский язык синхронно. Никаких указаний на чередование французского и японского языков, равно как и вообще на присутствие японского переводчика, в транскрипции Понса нет. Поскольку лекция была приурочена к выходу в свет японского перевода «Писаний», и поскольку в зале находился Сасаки со своей переводческой командой, то, вполне возможно, что аудитория в целом достаточно хорошо понимала по-французски, и в переводчике на японский никакой нужды вообще не было. Отсутствие вопросов и ответов в транскрипции Понса, разумеется, не означает, что после лекции не было никакой дискуссии. Напротив, опять таки исходя из того, что Лакан был приглашен по случаю публикации переводов, то, скорее всего, переводчики все же задавали какие-то вопросы по поводу отдельных неуклюже переведенных пассажей, но магнитофон просто плохо записал эту часть встречи, или вообще был на это время выключен.
Читатели «Токийской речи», безусловно, заметят, что лекция Лакана не требует никаких пояснений, по меньшей мере, потому, что она сама себя прекрасно объясняет. Трудности, которые, возможно, возникнут при чтении, скорее всего, будут вызваны буквальной транскрипцией слов Лакана, неожиданными отступлениями и оборотами, которые неизбежно включает в себя любая живая речь. Теперь уже не установить, были ли мысли Лакана настолько же ясны и прозрачны для японской аудитории, насколько для образованного западного читателя, но в сравнении с предельно абстрактными (и откровенно закрученными) соображениями, над которыми Лакан работал вначале 1970-х годов, данный текст действительно облегченный, что, впрочем, не означает, ни тривиальности его содержания, ни, тем более, того, что вся эта речь не имеет никакого значения для знатоков. В новом введении в «Писания» Лакан скептично отнесся к способности японцев его понимать: «Я ничего не жду от Японии. То понимание об обычаях этой страны и даже о ее красотах, которое у меня сложилось, не наводит меня на мысль о том, что стоит ожидать многого, в частности того, что меня там поймут» (1981 [1972], p.2). Если это и так в отношении текстов «Писания», которые, в конце концов, даже для многих французов, включая и некоторых самых верных приверженцев Лакана, остаются непонятными, то все же сложно себе представить, что «Токийская речь» полностью ускользнула бы от понимания аудитории, да и Лакан оставляет нас с ощущением, что он действительно хотел быть понятым, чего не скажешь о «Писаниях».
Посещение страны восходящего солнца в апреле 1971 года не было для Лакана первым. В «Токийской речи» он сам напоминает, что бывал в Японии раньше, в те времена, когда был членом «Французского психоаналитического общества». Лакан утверждает, что впервые побывал здесь одиннадцать лет назад, хотя на самом деле это было восемь лет назад, в апреле 1963 года, как это следует из пассажа в лекции от 8 мая 1963 года в ходе семинара по страху (Lacan, 2004 [1962-63], p.248). Что именно заставило Лакана тогда сесть в самолет, направлявшийся в Японию (через Северный полюс) в 1963 году – вопрос для историков и биографов, нас же это здесь не особенно интересует. Впрочем, стоит заметить, что первая поездка была в меньшей степени обусловлена конкретным делом и, возможно, скорее объяснялась духом открытий, жаждой новизны, экзотическим знанием. С фотоаппаратом в руках Лакан посетил древние буддийские храмы в Киото и Нара; особенно его впечатлила колоссальная статуя Будды в храме Тодайдзи. Судя по тому размаху, с которым 8 мая 1963 года Лакан предлагает вниманию аудитории то, что увидел сам (вплоть до того, что он показывает снятые им самим фотографии), то, чему научился, Япония все же сподвигла его на новые формулировки, теории, проблематизацию ряда понятий, чем он по возвращении занялся уже в своем парижском доме.
Нечто подобное случилось и в 1971 году. Вернувшись из поездки (через всю Сибирь!) и вновь оказавшись в лекционной аудитории 12 мая 1971 года, Лакан предложил вниманию публики пространный (и тщательно выстроенный) анализ того, чему его научила Япония в связи с чтением, письмом и отношениями между означающим и буквой:
Я только что вернулся из поездки в Японию, о которой долго мечтал, поскольку во время первого посещения этой страны я пережил встречу с прибрежной полосой… Я просто отмечу то, что приобрел благодаря новому маршруту, то, что уже не было под запретом, как во время первого визита. Надо признать, что пища для размышлений у меня появилась не во время дальнего перелета на самолете вдоль полярного круга, когда смотрел я на сибирскую равнину. Это мое эссе, которое может быть названо сибириэтикой, не увидело бы дневного света, если бы не подозрительность советских властей, не позволивших мне увидеть города, промышленные предприятия, военные базы, которые для них и представляют главную ценность Сибири. Но это всего лишь случайные, акцидентальные условия, хотя, возможно, не в меньшей степени, их можно назвать и западными, окцидентальными. Единственное подлинное условие – это встреча с прибрежным, которую я осознал лишь на обратном пути, благодаря тому, что Япония сделала со мной, конечно же, своей буквой, а именно слегка пощекотала меня, так, чтобы я эту встречу почувствовал (Lacan, 1971, p.6).
Разработка того, что вовлечено Лаканом в «чтение» японской культуры, особенно того, как японский субъект относится к сложнейшей системе иероглифического письма, выходит за рамки моего краткого введения, да к тому же было уже сделано в другом исследовании (Miller, 1988). Достаточно сказать, что Япония вдохновила Лакана на пересмотр культурных границ его собственной теории и даже возможности применения психоанализа как клинической практики к тем людям, чьи символические идентификации радикально отличаются от тех, что действуют в Западной культуре. «Культурный релятивизм» Лакана, по крайней мере, в отношении японцев, несомненно, не настолько очевиден в его токийской лекции, но все же он будет пришпилен к его дискурсу особенно заметно с середины 1970-х годов. Для Лакана, психоанализ в Японии, для японцев, не был ни необходимым, ни возможным (Lacan, 1972, 1977), несмотря на тот факт, что им, конечно же, в Японии пытались заниматься (Parker, 2004).
После 1971 года Лакан уже никогда в Японию не возвращался, хотя продолжал изучать восточную культуру, китайскую философию, буддизм и японские обычаи. Как сообщает Элизабет Рудинеско, после возвращения во Францию, Лакан попросил Мориса Крука, профессора архитектуры в Университете Киото, помочь ему со строительством японского домика для отдыха на его даче в Гитранкуре. Лакан «собирался постигать там тайны чайной церемонии, и даже приобрел для этого редкие антикварные предметы, включая чашу монояма, тщательно выбранную для него любимым торговцем антиквариатом» (Roudinesco, 1987 [1993], p.355). Двух посещений Лакану явно хватило для того, чтобы Япония, если и не стала для него далеким от дома домом, то, по крайней мере, иностранным домашним жилищем в интимном пространстве дачи.
Автор выражает благодарность за помощь в подготовке этой статьи профессору Университета Киото Кадзусигэ Сингу.
(пер. с англ. В. Мазина)
Библиография
Lacan, J. (1966) Еcrits. Paris: du Seuil.
Lacan, J. (1971) Lituraterre, Littеrature, 3, pp.3-10.
Lacan, J. (1977) “Extraits de la discussion qui eut lieu apr?s l’exposе de Jacques Aubert: Galerie pour un portrait” aux Confеrences du Champ freudien’, Analytica, 4: 16–18.
Lacan, J. (1981 [1972]) Prеface a l’еdition japonaise des Еcrits, La lettre mensuelle de l’Еcole de la cause freudienne, 3, pp. 2–3.
Lacan, J. (2004 [1962-63]) Le Sеminaire. Livre X: L’angoisse. Text еtabli par J.-A.Miller. Paris: du Seuil.
Miller, J.-A. (ed.) (1988) Lacan et la chose japonaise. Paris: Navarin.
Parker, I. (2004) Rakan no seishin-bunseki. Journal for Lacanian Studies, 2(2): 318–328.
Roudinesco, E. (1997[1993]) Jacques Lacan. Translated by B. Bray. New York: Columbia University Press.
Приложение
Жак Лакан
Токийская речь
Д-р Жак Лакан:
Парижская школа Фрейда, чьей программой «Писания» быть не претендуют, возникла в результате двух расколов внутри парижского психоаналитического сообщества. Говоря о сообществе, я имею в виду просто-напросто психоаналитиков, которые имелись тогда в Париже. Первый раскол привел к образованию двух отдельных организаций – одна называлась Парижским психоаналитическим институтом, а другая назвала себя Французским психоаналитическим обществом. Когда одиннадцать лет назад я приехал в Японию, я был членом Французского психоаналитического общества. В истории психоаналитических групп во Франции подобные расколы не редкость. Возьмем, к примеру, Швейцарию – там существует целый ряд групп. И связаны они между собой очень слабо.
Так получилось, что первый раскол произошел по причинам вполне случайным, связанным с вещами маловажными, вроде, например, личного соперничества. Но при этом, по причинам не менее случайным, одна из групп вышла в результате из так называемой Международной психоаналитической ассоциации. Произошло это в связи с личными отношениями, которые принцесса Мария Греческая, личность ныне прочно забытая, поддерживала с Анной Фрейд. Вследствие этих последних вместо того, чтобы признать оба возникших сообщества, что было бы вполне нормально, Ассоциация, воспользовавшись тем, что мы заявили, вполне естественно, о нашем выходе из распавшейся группы, исключила меня из своих рядов. Если бы Ассоциация играла по правилам, она сочла бы это простой формальностью и признала бы нас в качестве самостоятельной группы. Происшедшее получило любопытные последствия: среди нас оставались люди, тяжело переживавшие это разделение и сделавшие все, чтобы вернуться в Ассоциацию вновь.
Вот тут-то и выяснилось вполне значение моей десятилетней преподавательской деятельности – то, чему я учил, оказалось в корне отличным от направления, задававшего тон в англо-американском психоанализе. И это не удивительно, Фрейд нечто подобное уже предвидел – он предвидел, что, будучи включен в американское общество с присущей ему манерой мышления, психоанализ претерпит серьезные изменения. Эта мысль прослеживается в его работах. Да, он это предвидел. Так оно самым явным образом в действительности и происходит. Господин Хайнц Хартман, к примеру, чье слово в Нью-Йоркском психоаналитическом обществе решает все, ясно заявил, что программой действий для психоанализа, его практики и дидактики, должно стать включение его в рамки концептов, которые он сам именует общей психологией. Это было сказано, написано черным по белому и служит программой для всей американской школы психоанализа, насколько та Нью-Йоркскому движению следует – а она действительно движется более или менее в его русле. Соединенные Штаты большая страна и разнообразие, так или иначе, неизбежно, но командный стиль, принесенный эмигрантами из Германии, это наследие немецких университетов, наложил здесь, однако, свою печать. Именно эта группа эмигрантов, которая мне хорошо знакома, поскольку в предвоенные тридцатые годы мне многих из них довелось знать лично – они все побывали в Париже, и я, собственно, занимался ими – задала тон американскому психоанализу в послевоенные годы.
То, что произошло в 1963 году в результате настоятельного желания ряда моих коллег, преподавателей из Сорбонны, вернуться в Международную Ассоциацию, обернулось уступками с их стороны в отношении того, что как раз и составляло радикальное отличие моего учения от направления, господствовавшего в американском психоанализе, к которому была близка, скажем, Анна Фрейд, чей подход к детскому психоанализу прекрасно согласуется с программой Нью-Йоркского психоаналитического сообщества.
Именно в этот момент в связи с обстоятельствами и оборотом, который дела приняли, я заявил, что не собираюсь продолжать свою преподавательскую деятельность, бывшую, надо признать, сердцевиной Французского общества психоанализа; именно она задавала в нем тон и обусловливала его значимость. Никто кроме меня и не пытался работать над развитием психоаналитического учения. Профессора Сорбонны, чьи имена я не собираюсь здесь называть, ограничивались пережевыванием отдельных, уже порядком надоевших, тем, и большой плодовитостью не отличались. В итоге я заявил, что не собираюсь продолжать преподавание в сложившихся условиях, причем не давая никаких определенных обещаний на будущее.
Случилось так, что в этот момент мне предложили продолжить преподавание в так называемой 6-й секции Практической школы Высших исследований, где я оказался коллегой таких людей как Клод Леви-Строс. Поскольку многие из моих прежних учеников остались со мной и не проявили желания вернуться в Международное общество, я оказался за них в ответственности и основал то, что называется – точнее, что я назвал, поскольку именно я это имя придумал – Парижской фрейдовой школой. Ясно, что называя ее фрейдовой в подобных условиях, то есть порывая с международным сообществом, претендующим на монопольное владение наследием Фрейда, я заявил тем самым свой протест, в том числе в юридической форме. Интересно, что перчатку так никто и не поднял. Я имею в виду, что никто в Париже не осмелился оспаривать, что мое учение отвечало фрейдовскому. Вот что я по поводу современного положения дел в Школе могу сказать.
Есть множество людей, которые не находят в принадлежности к Международной ассоциации особых преимуществ. Я знаю немало таких, чьей ноги не бывает на их конгрессах и кто питает к подобным мероприятиям явную неприязнь. Ясно одно – те, кто в том или ином виде приобщился к моему учению, даже примыкая к другой группе, поскольку многие, по чисто карьерным соображениям, юридически от меня откололись, чувствуют себя, по собственным их признаниям, не в своей тарелке в атмосфере Международной ассоциации, где все построено на гипотезах, принципах, а, точнее сказать, предрассудках, то есть на некоторых фундаментальных положениях, которые никем никогда не оспариваются.
Вещи, которые они слышат на конгрессах Ассоциации, смущают тех, кто фактически уже строит свою работу на мною провозглашенных принципах. Относительно этих последних нелишне будет заметить, что конструкция, которую я возвожу постепенно вот уже восемнадцать лет, держится прочно – а это о чем-то да говорит. И созидательная работа продолжается, какой бы абстрактной она порою вам ни казалась – впрочем, все зависит здесь от того, каким слухом вы умеете подобные вещи прочитывать.
Среди вас нет ни одного психоаналитика. Это стыдно. Но в этом есть и свои преимущества. Поскольку случись таковой среди вас, он оказался бы воспитан на принципах, которые, как я предполагаю, хотя и не знаю наверняка, должны здесь, по идее, господствовать, то есть на принципах, ведущих свое начало от американской школы психоанализа – а это вызвало бы определенные трудности. То, что для знакомых с моим преподаванием составляет в моем стиле подачи материала и подходе к практике психоанализе главную трудность – это вещи, которые могут показаться чрезвычайно абстрактными – на самом деле это не так, они не абстрактны, а, напротив, максимально конкретны – вещи, которые тем, кто психоаналитиками не являются, очень трудно себе представить, поскольку опираются они на опыт, который мы назовем здесь опытом кушетки, на том, что происходит в кабинете аналитика на его кушетке и внутри искусственной – ибо она безусловно искусственна – ситуации психоанализа. И не нужно представлять ее себе, эту ситуацию, как открытие чего-то такого, что лежит, будто бы, в сердцевине человеческой души, человеческого существа. Так во имя чего эта ситуация создается?
Психоанализ – это не аскеза, это техника, это чрезвычайно точный инструмент, призванный проникнуть во что-то такое, чью подлинную природу нам еще предстоит выяснить. Ситуация, в которой он должен работать, примерно следующая: люди приходят к психоаналитику, требуя от него чего-то такого, о чем у них самих нет ни малейшего представления; то, чего они требуют, носит смутный характер и связано, по меньшей мере у некоторых, с болезненными симптомами, от которых они хотели бы избавиться. Психоанализ рассматривается как своего рода непонятная для них сила, способная творить чудеса. Понятно, что мы не стремимся подобное представление эксплуатировать. Я хочу сказать, что надо отдать психоанализу должное в том, что он не пытается, играя на доверии так называемого пациента, внушать ему что-то или так или иначе руководить им. Будь это так, психоанализ давно бы сошел со сцены, как произошло это со многими другими техниками, опиравшимися на подобную тактику.
Психоанализ представляет собой четкую технику, в основе которой лежит правило, согласно которому пациенту предлагается говорить все, что ему заблагорассудится. При этом его ориентируют, конечно, на что-то такое, что может показаться аналитику интересным и учат не ограничиваться так называемыми признаниями. Им предлагают выговаривать все, что им придет в голову, даже если это представляется им неуместным и маловажным. Людей, встречающихся с этой практикой, всегда поражало то, что на ее основе вырастают бесконечно более сложные и богатые отношения, именуемые переносом.
В результате анализа переноса выясняется, что он представляет собой нечто совершенно иное, нежели привязанность к аналитику, основанная на доверии к нему или вере в него. Очевидно становится, что природа этого явления не ясна, и аналитику следует лучше разобраться в том, что он делает и обратить на анализ переноса особенное внимание. Ясно, что говоря о нем и пытаясь его теоретизировать, мы систематически погружаемся в темноту и заходим в тупик. Это давно замечено. О неврозах переноса стали говорить именно от того, что манипулировать переносом оказалось не так просто, как казалось на первый взгляд. Манипулируя им неправильным образом, мы его увековечиваем, то есть приходим к чему-то такому, что представляет собой новую форму невроза, входящего в самую ткань отношений пациента и аналитика.
То, чему я учу, имеет по меньшей мере то преимущество, что позволяет выслушивать речь пациента в совершенно ином разрезе. Будем для простоты называть его именно так – пациентом, хотя выражение это крайне неудачное и вы знаете, наверное, что я предпочитаю называть его психоанализантом – термин, который знатоку английского языка, несмотря на наличие в нем герундия со значением «подлежащий психоанализу», не покажется странным; так или иначе термин этот имеет перед тем, что обычно употребляют сейчас, говоря о «психоанализируемом», то преимущество, что проходящий психоанализ если и является психоанализируемым, то разве что в самом конце. А пока этого не произошло, лучше называть его психоанализантом – это выгоднее подчеркнет активность его позиции, так как ясно, что на самом деле психоанализант не является пациентом, так как он призван проделать определенную работу, и важно лишь, чтобы работа эта не прошла даром, то есть чтобы он мог в происходящем отдать отчет. Тех, кто проходит у меня обучение, поражает порою насколько часто люди, имеющие дело с пациентами – вернемся к старому слову – или занимающиеся с ними психоанализом признаются, что слова, услышанные от меня на очередном семинаре, буквально, словно по волшебству, вторили тому, что говорил им пациент сорока восемью часами раньше. Вполне вероятно, что не присутствуй они на моем семинаре, они просто не расслышали бы, что им пациент говорил. Это нам всем очень свойственно – способ, которым мы слушаем, позволяет нам расслышать лишь то, что мы слышать уже привыкли. Если пациент говорит нам что-то другое, мы, в силу присущих практике речи правил, подвергаем это цензуре. Цензура – вещь самая банальная и имеет место не только на уровне нашего личного опыта, но и на всех уровнях наших так называемых отношений с себе подобными – другими словами, мы просто не слышим то, что не привыкли слышать заранее. Мы не обращаем внимания на то, что целый отрывок, целый параграф только что сказанного чреват чем-то особенным, хочет сказать что-то такое, чего в самом тексте нет. Это и есть то главное, чему я стремлюсь научить: хотеть недостаточно. То, что хотят сказать, сказать обычно не удается. Здесь то и требуется слух психоаналитика, способный уловить то, что другой в действительности хотел сказать. А того, что он хотел сказать, в тексте, как правило, не найдешь.
Я не знаю, что представляет собой лингвистика в Японии и в каких регистрах вы работаете. В моем курсе лингвистика послужила всего-навсего отправной точкой. Надо прямо сказать, что будь у меня другая публика, а не одни медики и психологи, то есть совершенно несведущие – не то что несведущие в лингвистике, а просто-напросто необразованные… Но именно с этого мне пришлось начинать. Начинать пришлось именно с этого, потому что это и есть то самое, что означает на моем языке возврат к Фрейду. Но говоря о возврате, я не имею в виду, что необходимо вернуться к некой воображаемой первичной чистоте.
Если появилось после Фрейда – а оно появилось – что-то действительно новое, то я, разумеется, не только не противостою этому, но напротив, проявляю к этому живой интерес. Ясно, к примеру, что выводы Мелани Кляйн, хотя и выраженные у нее в крайне нецивилизованной форме, основаны на опыте, представляющем необычайный интерес и нуждающемся в подобающем концептуальном оформлении, которое она неспособна оказалась ему придать. Как бы то ни было, перед нами плод опыта, живого опыта работы с детьми, которую она решилась проделать. Можно критиковать ее подход с терапевтической точки зрения, но ясно уже, что он принес свои результаты и что способ ее работы с детьми, который внешнего наблюдателя может повергнуть в ужас, отнюдь не имел предполагаемых ужасных последствий. Ее анализ оказался, напротив, очень щадящим и чрезвычайно плодотворным.
Возврат к Фрейду не является, таким образом, самоцелью. Я просто полагаю, что Фрейда поначалу читали так, как читают всякого, кто говорит что-то новое, то есть воспринимая сказанное им как общее место. На самом деле речь шла о радикальном перевороте. Необходимо было любой ценой выстроить защитные интеллектуальные схемы, которые позволили бы, в конечном счете, не двигаться с места, остаться верными прежним представлениям о человеке и о том, что значит быть человеком. Необходимо было во что бы то ни стало остаться при своем. В результате, читая Фрейда, вычитывали в нем то, что хотели увидеть, не замечая при этом того, что у него прочитывалось черным по белому. Об этом свидетельствуют уже три его первых книги: «Толкование сновидений», «Психопатология обыденной жизни» и «Остроумие». Несмотря на все, читателю, по крайней мере западному читателю, а я полагаю и читателю дальневосточному тоже, требуется душа. Душа – это что-то такое, что должно существовать, что может отделяться от тела и повинуется своим собственным правилам. Я прекрасно знаю, что у вас другая традиция и что пока с запада не повадились гости о психологии у вас речь не шла – место преподавания психологии как такового занимает у вас знакомство с различными практиками медитации. В то время как в университетах Запада уже с самого начала их существования, то есть со времен высокого средневековья, психология заняла место в ряду других научных дисциплин, в результате чего определенные представления стали всеобщим достоянием и вошли в обязательный умственный обиход.
Если подойти к чтению Фрейда свободным от психологических предрассудков, что вам, вероятно, сделать значительно проще, чем людям Запада, то поражает в нем в первую очередь то, что единственные вещи, о которых у него идет речь – это слова. Возьмем «Толкование сновидений» – что Фрейд о сновидениях говорит? Сновидение – говорит он с самого начала – это ребус. Говоря о возвращении к Фрейду, я призываю всего-навсего вчитаться в то, что он действительно пишет, не представляя себе бессознательное как клубок ваты, из которого торчат отдельные нити сознательного. Не пытайтесь выстраивать схемы, в основе которых лежит идея, будто существует какая-то отдельная субстанция, именуемая душой, и душа эта живет своей независимой жизнью – ведь человека трудно отучить от мысли, будто душа ведет отдельную жизнь, более того, будто она сама и есть жизнь, одушевляющая собой тело. Именно так и читали Фрейда, представляя себе бессознательное как субстанцию.
Я не спешил заняться преподаванием и начал заниматься этим когда мне стукнул пятьдесят один год – за моей спиной было к этому времени двенадцать или тринадцать лет практики и я не считал возможным приняться за это дело преждевременно, то есть не имея в своем багаже достаточного аналитического опыта и параллельного непредвзятого изучения работ Фрейда. Я не мог начать раньше, учитывая медицинскую публику, с которой я имел дело – публика, для которой все это куда более внове, чем для других, внове как раз потому, что они медики и занимаются телом, при том, что о теле-то то они как раз ничего и не знают: врач знает о теле куда меньше массажиста и приходит в восторг, когда с ним заговаривают о душе. Когда ему говорят, что причины болезни надо искать в душе, в отношениях между больным и врачом, он восторгается – нашлось, наконец, что-то такое, что дает его существованию какое-то оправдание. Беда в том, однако, что дело оборачивается для него еще хуже, чем прежде. Все это прекрасно мирится с расхожими религиозными воззрениями – ведь нет, на самом деле, ничего более органицистского, ничего более склонного к соматическим объяснениям, к решению телесных проблем при помощи механических приспособлений, нежели католическая церковь. К сожалению с развитием современной биологии ясно становится, что дело обстоит гораздо сложнее, чем медицинская традиция это в общем себе представляет. Поэтому когда им объясняют, что душа, к примеру, это отношения между доктором и больным, они самодовольно успокаиваются.