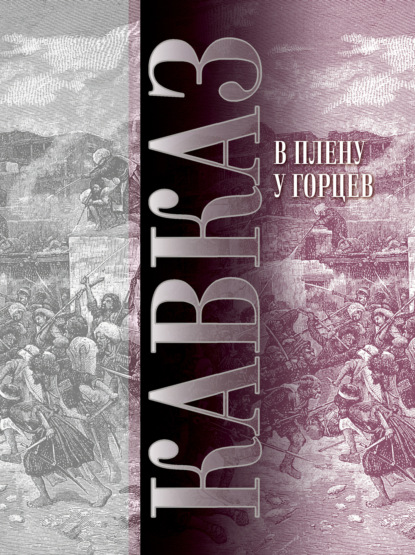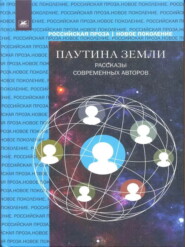По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кавказ. Выпуск XIII. В плену у горцев
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Разве твоя Цацу не могла кликнуть кого-нибудь из нас?
Так иногда, без хозяев, соседка делала мне сыскиль. Нередко хозяйка солдата, не надеясь на своего слугу, призывала меня к ребенку, когда самой было недосуг. Солдат у них был в пренебрежении. Меня же принимали иначе, и никогда, если я заходил к кому посидеть, не выпускали не накормив. Так однажды хозяевами солдата я был оставлен на вечер и собственно для меня в котел был брошен кусок мяса. Но долго оно варилось; было поздно; пришел за мной Абазат; стоя на крыше землянки, он крикнул меня, и я простился.
– Угощали ли они тебя чем? – говорил он. – Я достал мяса и пришел за тобой; станем ужинать вместе.
Так любил он меня! Никогда не хотел съесть чего-нибудь один: если, бывало, в лапше сварят небольшой кусок курдючного сала, то и тот он делил со мной пополам, не думая о жене; я же свою часть делил с Цацу; она краснела; Абазат не ревновал.
Солдат беспрестанно уговаривал меня к побегу, я не соглашался:
– Станем пока высматривать дорогу, – говорил, я, – а решусь разве тогда, когда Абазат мне изменит.
Вот однажды он зазвал меня версты за две, пойдем да пойдем, говорил, и верно, прежде обдумал улепетнуть. Но почему бы не уйти одному: нет, если мы тонем, то ухватываемся за другого. Он ходил, где хотел; мне же нельзя было пренебрегать доверием, я всегда был осторожен от подозрения, чтобы не набрякать на себя гаечных кандалов в цепи и лишиться свободы, потерять и последнюю утеху рассеять грусть хоть на малой воле. Мы шли и шли, все дальше и дальше, к счастью, издали я увидел чеченца и остановился, товарищ звал меня в сторону спрятаться; но, зная зоркость горцев, я не согласился и говорил:
– Если увидел его я, то он давным-давно рассмотрел наши костюмы. Я покрыт был мешком, солдат – в шинели. Встретившийся был Високай. Странным показалось мне его появление: я знал, что его аул в противоположной стороне. Подходя к нам, Високай кликнул меня и спросил, что мы тут делаем.
– Осматриваем дрова, чтобы отсюда можно было возить на санях.
Старик не сказал ни слова и звал меня с собой, показать ему наше жилище. Я удивился: как старику не знать дороги! И сказал солдату:
– Ну, брат, попались мы!
Солдат ругал меня, но шел с нами же вместе. Не доходя немного до хутора, я показал старику видневшуюся на тычинах кукурузу, говоря, что там наш хутор, сам же решался вовсе наутёк; но Високай отговорился, что не знает нашей землянки. Я пошел, повеся нос, солдат подался в сторону, простясь со мной. В землянке была одна Цацу, я не пропустил из их разговора ни одного слова. Видя, что дочь его спрашивает меня о моей отлучке, он не сказал обо мне ни слова, догадавшись, что я хожу свободно, а сомнением своим боялся меня огорчить. Скоро он с нами простился. С тех пор полно осматривать дороги!
Преступным чужая осторожность кажется боязливостью; а в таких-то смельчаках и больше трусости: ему ли, с низкой душой, перенести что твердо! Посмотрите на них под пулями! В ком неуместная дерзость, там и низкий трепет. Но все еще я не хотел бросать своего товарища: все-таки он человек, к тому же и свой.
* * *
Абазат жил дома мало, отыскивая своего товарища, с которым похитил лошадь. Отыскав, он принудил его уплатить себе половину того, что привелось самому отдать истцам из пожитков. Он взял у него два ружья. Сначала Цацу не оставалась со мной на ночь, всегда приглашала кого-либо из мужчин, сама уходила к соседям. Так две ночи сберегал меня один джигит, и когда я спал крепко, он беспрестанно или звал меня, тут ли я, или ощупывал, и оба раза был мной за то обруган; тогда на третью ночь Цацу, сделав огромный сыскиль и наварив любимого моего чорпу, чтобы умилостивить меня, поставила все это передо мной, просила кушать на здоровье, сколько хочу; самой было не до еды: от приглашения разделить трапезу она отказалась. Мужчины, по обыкновению, едят особо; женщина не осмелится сесть вместе, без приглашения. Наевшись досыта, я поблагодарил. Цацу все время дрожала, наконец с плаксивой ужимкой стала говорить:
– Дельга! Де линдуга! Ал, Судар (Бога ради, скажи, Судар): могу ли я спать тут, вместе с тобой, безопасно?
Я отвечал:
– Не бойся, спи спокойно! Если б я хотел уйти, то из лесу ушел бы скорей; а в твоей смерти мне пользы нет! Если захочу уйти, то ты не услышишь и так; да не укараулил бы меня и тот, кого ты призывала.
Она поблагодарила и осталась. С этой поры, когда не было дома Абазата, мы ночевали вдвоем.
Так коротал я дни свои, не находя ничего похожего на родное. В глухую полночь, когда все спало, пенье петухов, этих всеобщих мирителей времени, относило меня в русскую избу, напоминало обо всей родине. Для того нарочно нередко я сидел перед огнем своим далеко за полночь.
* * *
Настала пора Цацу разрешиться от бремени. Абазат был дома, вдруг ночью меня будят и велят идти к Тамат; Абазат ушел к соседу. Я развел огонь и стал греться; часа через три пришла Тамат и объяснила мне причину моего выхода; я просидел у нее до утра, там и позавтракал. Цацу освободилась, но войти к ней нельзя было до полудня. Вечером я сам сварил себе галушек и лег; Цацу ужин принесла Тамат, но хозяйка не хотела не поделиться со мной.
Абазата уже не было дома, от стыда он ушел еще утром и не являлся пять дней; жена и сын были оставлены на мое попечение, я принял их на себя и без его просьбы. Он простился со мной, не говоря ни слова, не заглянул и в саклю к жене. Ему сын – баран! Как говорил он мне после.
На хуторе нам все были чужие и вовсе прежде не знакомые моей хозяйке: кого же Цацу могла просить о пособии себе! А как тяжко обременять собой других! В ком нет искры сострадания, тот бережет свою доброту и не делится с неизвестными ему. Кто умеет отблагодарить нас в ласковых словах, перед тем мы и доброту свою считаем за ничто; но одно слово «спасибо», слово простое, но сильное, не всегда отзывается в сердце другого. «Спасибо тебе, мой кормилец! Мой родимый!» – слова не для всякого родные, но кто чисто русский, того они трогают. Тяжка чужая сторона, но как отрадны и минутные ласки чужих людей! Не там ли пробуждаются прежние чувства, заброшенные нами с возрастом! Не там ли больше мы научаемся любить и родных своих! Там мы уверяемся в своих друзьях; там мы всех разбираем анатомически!.. Но горе вам, если мы, забыв эти чувства на чужбине, воротимся на родину ни с чем!..
Я понимал чувства Цацу между чужими и, помня свое, не требовал мзды, видя ее внутреннюю радость. Я отдал себя на служение, приличное лишь девушке. Перестлать Цацу постель, укрыть ее, вот тут и вот тут дельга, делиндуга! Покачать ребенка – грешно мне было бы отказаться. Тогда не раз она уверяла, что я теперь нужен, что Абазат редко бывает дома; но я не таял, зная горцев хорошо, а все-таки трудился без стыда около слабой роженицы. Цацу была неретива и прежде, а тут, при моей заботе, почему было не понежиться! Иногда она не поднималась даже и на плач ребенка: быть может, надеялась на Судара, и Судар тот не считал ребенка за барана, как отец его.
Прошло пять дней, Цацу все нежилась и нежилась, и я по-прежнему сушил пеленки. Видя во мне раба безмолвного, она стала и поохивать, сердясь, что я или не так ее одел, или не умею убаюкивать. Ответом моим было молчание, всегдашний мой щит. Но прочитать этот иероглиф умел не всякий. Вот как Цацу умела читать его. На шестой день, вечером, люлька, которую я же сделал, поломалась; Цацу заставила сделать ее по-прежнему: я также сколотил ее, как старую, но не знал, как привязать веревочки и палочки, не понимая технических названий; Цацу сердилась явно, не веря моему незнанию, и принялась оправлять сама. Но учительница не умела привести в лад качалку и, злясь, беспрестанно плевала. Я не вытерпел, ушел к Тамат и стал говорить ей:
– Ты знаешь, Тамат, как я жил до сих пор; знаешь, как ходил за ребенком: не стыдился того, что пристойно только девочке!.. Я не хочу у них жить, пусть продадут кому хотят; не то пусть ее муж лучше убьет меня, чем быть таким рабом!
Выслушав хладнокровно, Тамат отвечала:
– Погоди, Судар, не сердись, она еще больна; ты знаешь, что у вас нет никого, кроме тебя.
Тамат пошла сама делать зыбку, пеняла Цацу за такое обращение, но, как свое, все-таки оправдывала ее:
– Ей думается, что ты понимаешь, но не хочешь делать; потерпи немного, она скоро выздоровеет.
Посидев немного, я ушел домой и лег спать. Ребенок не виноват – ночью я качал его по-прежнему.
Наутро пришел Абазат, я качал его сына; подавая мне руку, он спрашивал:
– Что сын мой, Судар?
– Нет, не твой он сын! – говорил я, смеясь.
– Как не мой, Судар?
– Ты видишь, что качаю его я, а не ты.
– Ну, погоди, Судар: теперь некому, я приведу девочку, сестру Цацу, ты больше никогда не возьмешь его в руки.
Посидев немного, он пошел к Тамат, а я в лес, чтобы дать им простор поговорить обо мне.
Я воротился к вечеру. Абазат сидел у огня; подумав немного, он стал говорить:
– Для чего ты, Судар, жаловался другим? Это нехорошо! Дождался бы меня.
– Я не вытерпел, Абазат, когда Цацу меня ругала.
Цацу начала божиться (вал-лаги, билляги, дейер-куранур!), что не бранила. Абазат молчал.
– Я заметил, Судар, – говорил он, уже смеясь, – что ты сердился, когда я давеча спрашивал тебя о сыне.
Я улыбался.
– Ну, потерпи: скоро придет сестра, я звал ее.
Цацу, по приходе мужа, сама убрала свою постель и лежала на одном только камышовом ковре; вечером, видя, что мы помирились, умильно просила меня снять с полки постель и постлать им, показывая тем все еще свою слабость и что точно так же ласково обращалась со мной и прежде. Но Абазат грозно крикнул на нее, заставляя встать саму. Плохо еще хитрила Цацу, должна была встать.
Утром Абазат, собираясь в путь, ни к селу ни к городу начал говорить мне, что никогда ни за что не продаст меня, как разве только на мою сторону, к русским; я слушал и подозревал. По уходе его я пошел к солдату и заранее прощался с ним, говоря:
– Я знаю, что продаст теперь, и продаст в горы; а мне хочется пожить там, узнать обо всем хорошенько: авось, Бог даст, ворочусь к своим – все пригодится.
Предположения мои сбылись.
Так иногда, без хозяев, соседка делала мне сыскиль. Нередко хозяйка солдата, не надеясь на своего слугу, призывала меня к ребенку, когда самой было недосуг. Солдат у них был в пренебрежении. Меня же принимали иначе, и никогда, если я заходил к кому посидеть, не выпускали не накормив. Так однажды хозяевами солдата я был оставлен на вечер и собственно для меня в котел был брошен кусок мяса. Но долго оно варилось; было поздно; пришел за мной Абазат; стоя на крыше землянки, он крикнул меня, и я простился.
– Угощали ли они тебя чем? – говорил он. – Я достал мяса и пришел за тобой; станем ужинать вместе.
Так любил он меня! Никогда не хотел съесть чего-нибудь один: если, бывало, в лапше сварят небольшой кусок курдючного сала, то и тот он делил со мной пополам, не думая о жене; я же свою часть делил с Цацу; она краснела; Абазат не ревновал.
Солдат беспрестанно уговаривал меня к побегу, я не соглашался:
– Станем пока высматривать дорогу, – говорил, я, – а решусь разве тогда, когда Абазат мне изменит.
Вот однажды он зазвал меня версты за две, пойдем да пойдем, говорил, и верно, прежде обдумал улепетнуть. Но почему бы не уйти одному: нет, если мы тонем, то ухватываемся за другого. Он ходил, где хотел; мне же нельзя было пренебрегать доверием, я всегда был осторожен от подозрения, чтобы не набрякать на себя гаечных кандалов в цепи и лишиться свободы, потерять и последнюю утеху рассеять грусть хоть на малой воле. Мы шли и шли, все дальше и дальше, к счастью, издали я увидел чеченца и остановился, товарищ звал меня в сторону спрятаться; но, зная зоркость горцев, я не согласился и говорил:
– Если увидел его я, то он давным-давно рассмотрел наши костюмы. Я покрыт был мешком, солдат – в шинели. Встретившийся был Високай. Странным показалось мне его появление: я знал, что его аул в противоположной стороне. Подходя к нам, Високай кликнул меня и спросил, что мы тут делаем.
– Осматриваем дрова, чтобы отсюда можно было возить на санях.
Старик не сказал ни слова и звал меня с собой, показать ему наше жилище. Я удивился: как старику не знать дороги! И сказал солдату:
– Ну, брат, попались мы!
Солдат ругал меня, но шел с нами же вместе. Не доходя немного до хутора, я показал старику видневшуюся на тычинах кукурузу, говоря, что там наш хутор, сам же решался вовсе наутёк; но Високай отговорился, что не знает нашей землянки. Я пошел, повеся нос, солдат подался в сторону, простясь со мной. В землянке была одна Цацу, я не пропустил из их разговора ни одного слова. Видя, что дочь его спрашивает меня о моей отлучке, он не сказал обо мне ни слова, догадавшись, что я хожу свободно, а сомнением своим боялся меня огорчить. Скоро он с нами простился. С тех пор полно осматривать дороги!
Преступным чужая осторожность кажется боязливостью; а в таких-то смельчаках и больше трусости: ему ли, с низкой душой, перенести что твердо! Посмотрите на них под пулями! В ком неуместная дерзость, там и низкий трепет. Но все еще я не хотел бросать своего товарища: все-таки он человек, к тому же и свой.
* * *
Абазат жил дома мало, отыскивая своего товарища, с которым похитил лошадь. Отыскав, он принудил его уплатить себе половину того, что привелось самому отдать истцам из пожитков. Он взял у него два ружья. Сначала Цацу не оставалась со мной на ночь, всегда приглашала кого-либо из мужчин, сама уходила к соседям. Так две ночи сберегал меня один джигит, и когда я спал крепко, он беспрестанно или звал меня, тут ли я, или ощупывал, и оба раза был мной за то обруган; тогда на третью ночь Цацу, сделав огромный сыскиль и наварив любимого моего чорпу, чтобы умилостивить меня, поставила все это передо мной, просила кушать на здоровье, сколько хочу; самой было не до еды: от приглашения разделить трапезу она отказалась. Мужчины, по обыкновению, едят особо; женщина не осмелится сесть вместе, без приглашения. Наевшись досыта, я поблагодарил. Цацу все время дрожала, наконец с плаксивой ужимкой стала говорить:
– Дельга! Де линдуга! Ал, Судар (Бога ради, скажи, Судар): могу ли я спать тут, вместе с тобой, безопасно?
Я отвечал:
– Не бойся, спи спокойно! Если б я хотел уйти, то из лесу ушел бы скорей; а в твоей смерти мне пользы нет! Если захочу уйти, то ты не услышишь и так; да не укараулил бы меня и тот, кого ты призывала.
Она поблагодарила и осталась. С этой поры, когда не было дома Абазата, мы ночевали вдвоем.
Так коротал я дни свои, не находя ничего похожего на родное. В глухую полночь, когда все спало, пенье петухов, этих всеобщих мирителей времени, относило меня в русскую избу, напоминало обо всей родине. Для того нарочно нередко я сидел перед огнем своим далеко за полночь.
* * *
Настала пора Цацу разрешиться от бремени. Абазат был дома, вдруг ночью меня будят и велят идти к Тамат; Абазат ушел к соседу. Я развел огонь и стал греться; часа через три пришла Тамат и объяснила мне причину моего выхода; я просидел у нее до утра, там и позавтракал. Цацу освободилась, но войти к ней нельзя было до полудня. Вечером я сам сварил себе галушек и лег; Цацу ужин принесла Тамат, но хозяйка не хотела не поделиться со мной.
Абазата уже не было дома, от стыда он ушел еще утром и не являлся пять дней; жена и сын были оставлены на мое попечение, я принял их на себя и без его просьбы. Он простился со мной, не говоря ни слова, не заглянул и в саклю к жене. Ему сын – баран! Как говорил он мне после.
На хуторе нам все были чужие и вовсе прежде не знакомые моей хозяйке: кого же Цацу могла просить о пособии себе! А как тяжко обременять собой других! В ком нет искры сострадания, тот бережет свою доброту и не делится с неизвестными ему. Кто умеет отблагодарить нас в ласковых словах, перед тем мы и доброту свою считаем за ничто; но одно слово «спасибо», слово простое, но сильное, не всегда отзывается в сердце другого. «Спасибо тебе, мой кормилец! Мой родимый!» – слова не для всякого родные, но кто чисто русский, того они трогают. Тяжка чужая сторона, но как отрадны и минутные ласки чужих людей! Не там ли пробуждаются прежние чувства, заброшенные нами с возрастом! Не там ли больше мы научаемся любить и родных своих! Там мы уверяемся в своих друзьях; там мы всех разбираем анатомически!.. Но горе вам, если мы, забыв эти чувства на чужбине, воротимся на родину ни с чем!..
Я понимал чувства Цацу между чужими и, помня свое, не требовал мзды, видя ее внутреннюю радость. Я отдал себя на служение, приличное лишь девушке. Перестлать Цацу постель, укрыть ее, вот тут и вот тут дельга, делиндуга! Покачать ребенка – грешно мне было бы отказаться. Тогда не раз она уверяла, что я теперь нужен, что Абазат редко бывает дома; но я не таял, зная горцев хорошо, а все-таки трудился без стыда около слабой роженицы. Цацу была неретива и прежде, а тут, при моей заботе, почему было не понежиться! Иногда она не поднималась даже и на плач ребенка: быть может, надеялась на Судара, и Судар тот не считал ребенка за барана, как отец его.
Прошло пять дней, Цацу все нежилась и нежилась, и я по-прежнему сушил пеленки. Видя во мне раба безмолвного, она стала и поохивать, сердясь, что я или не так ее одел, или не умею убаюкивать. Ответом моим было молчание, всегдашний мой щит. Но прочитать этот иероглиф умел не всякий. Вот как Цацу умела читать его. На шестой день, вечером, люлька, которую я же сделал, поломалась; Цацу заставила сделать ее по-прежнему: я также сколотил ее, как старую, но не знал, как привязать веревочки и палочки, не понимая технических названий; Цацу сердилась явно, не веря моему незнанию, и принялась оправлять сама. Но учительница не умела привести в лад качалку и, злясь, беспрестанно плевала. Я не вытерпел, ушел к Тамат и стал говорить ей:
– Ты знаешь, Тамат, как я жил до сих пор; знаешь, как ходил за ребенком: не стыдился того, что пристойно только девочке!.. Я не хочу у них жить, пусть продадут кому хотят; не то пусть ее муж лучше убьет меня, чем быть таким рабом!
Выслушав хладнокровно, Тамат отвечала:
– Погоди, Судар, не сердись, она еще больна; ты знаешь, что у вас нет никого, кроме тебя.
Тамат пошла сама делать зыбку, пеняла Цацу за такое обращение, но, как свое, все-таки оправдывала ее:
– Ей думается, что ты понимаешь, но не хочешь делать; потерпи немного, она скоро выздоровеет.
Посидев немного, я ушел домой и лег спать. Ребенок не виноват – ночью я качал его по-прежнему.
Наутро пришел Абазат, я качал его сына; подавая мне руку, он спрашивал:
– Что сын мой, Судар?
– Нет, не твой он сын! – говорил я, смеясь.
– Как не мой, Судар?
– Ты видишь, что качаю его я, а не ты.
– Ну, погоди, Судар: теперь некому, я приведу девочку, сестру Цацу, ты больше никогда не возьмешь его в руки.
Посидев немного, он пошел к Тамат, а я в лес, чтобы дать им простор поговорить обо мне.
Я воротился к вечеру. Абазат сидел у огня; подумав немного, он стал говорить:
– Для чего ты, Судар, жаловался другим? Это нехорошо! Дождался бы меня.
– Я не вытерпел, Абазат, когда Цацу меня ругала.
Цацу начала божиться (вал-лаги, билляги, дейер-куранур!), что не бранила. Абазат молчал.
– Я заметил, Судар, – говорил он, уже смеясь, – что ты сердился, когда я давеча спрашивал тебя о сыне.
Я улыбался.
– Ну, потерпи: скоро придет сестра, я звал ее.
Цацу, по приходе мужа, сама убрала свою постель и лежала на одном только камышовом ковре; вечером, видя, что мы помирились, умильно просила меня снять с полки постель и постлать им, показывая тем все еще свою слабость и что точно так же ласково обращалась со мной и прежде. Но Абазат грозно крикнул на нее, заставляя встать саму. Плохо еще хитрила Цацу, должна была встать.
Утром Абазат, собираясь в путь, ни к селу ни к городу начал говорить мне, что никогда ни за что не продаст меня, как разве только на мою сторону, к русским; я слушал и подозревал. По уходе его я пошел к солдату и заранее прощался с ним, говоря:
– Я знаю, что продаст теперь, и продаст в горы; а мне хочется пожить там, узнать обо всем хорошенько: авось, Бог даст, ворочусь к своим – все пригодится.
Предположения мои сбылись.