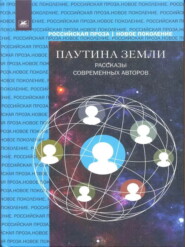По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Четырнадцать дней
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Ну ты и дурачок!» – закатила глаза сестра.
Той осенью урожай хлопка снова не удался, и, хотя мы этого не знали, родители собирались уехать с фермы и начать новую жизнь. С деньгами было туго, многие счета оставались неоплаченными. У родителей лишнего доллара не было, но как-то они нашли способ устроить нам волшебное Рождество.
Едва мы добрались до дома, хитрый отец сообщил нам, будто один из соседей только что видел Санту. Ни слова больше! Мы бросились в свои комнаты, натянули пижамы и выключили свет. Часы показывали только восемь вечера. По моим ощущениям, всего через несколько минут отец вернулся, включил свет и объявил, что Санта уже ушел.
Даже уснуть не успели, но какая разница? Мы наперегонки помчались в гостиную, где сияющую огнями елку окружали игрушки, о которых мы так мечтали.
Мы едва развернули оставленные Сантой подарки, как отец сказал, что маме пора ехать в больницу за ребеночком. Она лежала на диване, стойко пытаясь насладиться праздником вместе с нами, хотя ей, очевидно, было сильно не по себе. Я не особо за нее переживал, слишком занятый новеньким блестящим пневматическим пистолетом «Дейзи», набором для строительства крепостей «Линкольн логз» и электрической железной дорогой. Когда я замешкался, отец довольно чувствительно шлепнул меня по заднице и велел ехать прямо в пижаме: переодеваться времени нет.
Отец завел машину, и она начала скользить. Мама на него рявкнула, он рявкнул в ответ. Сквозь заднее стекло я видел маленький, покрытый снегом домик с переливающимися рождественскими огоньками в окне: отец забыл отключить гирлянду. Санта-Клаус только улетел. Наши игрушки остались дома. Ну что за несправедливость!
И в обычные-то дни отец не особо соблюдал осторожность за рулем, а от мысли, что жена вот-вот родит прямо на переднем сиденье, на глазах у троих детей, он и вовсе потерял голову. Он гнал по обледенелой дороге, и после того как машину в третий или в четвертый раз занесло, мама не выдержала: «Я не собираюсь рожать в канаве!»
До больницы было полчаса езды, а мои бабушка и дедушка жили на ферме на полпути к ней. В те времена уже существовали телефоны, но люди старались ими не пользоваться, особенно на дальних расстояниях. Никто не звонил друзьям и родственникам заранее, чтобы предупредить о своем приходе. Вот еще! Просто заявляешься в гости, когда тебе вздумается. Неожиданность считалась частью традиции.
Бабушка с дедушкой, конечно же, изумились, когда мы въехали к ним во двор в девять часов вечера с истерически ревущим сигналом. Пока они, в одних пижамах, выходили на крыльцо, отец уже высадил нас из машины и торопливо вел к дому. Передача с рук на руки заняла всего несколько секунд.
Мои дедушка с бабушкой, Марк и Мэйбл, были достойнейшими людьми, жили за счет собственного хозяйства, а самое главное – по заветам Священного Писания, причем следуя каждой его букве и исключительно в версии короля Якова[40 - То есть следуя переводу на английский язык, выполненному по приказу короля Якова I в 1611 году и считающемуся официальным вариантом в англиканстве.]. Бабушка приготовила нам какао, а дедушка растопил на полную мощность камин, служивший единственным источником тепла в старом фермерском домике. Укутавшись в стеганое одеяло и греясь у огня, мы слушали, как дедушка читал историю младенца Иисуса – он листал потрепанные страницы обожаемой Библии.
Наутро мы проснулись и узнали, что вскоре после полуночи мама родила мальчика, а значит, он настоящий рождественский младенец. Подробности нас не волновали: главное, что с мамой все в порядке. Мы только хотели поскорее вернуться домой и хорошенько рассмотреть свои новые игрушки.
Утром следующего дня, во время завтрака, мы услышали автомобильный гудок. Бабушка выглянула из окна кухни.
«Приехал!» – воскликнула она.
Мы наперегонки бросились к входной двери, через крыльцо и прямо к машине, где сидела ужасно довольная мама, гордо держа на руках свое новое чадо, которому дала имя Марк.
Мы сели в машину и поспешили домой, где все еще горели рождественские гирлянды, а подарки от Санта-Клауса валялись по всей гостиной. Мы немедленно вернулись к тому, от чего нас так безжалостно оторвали в рождественскую ночь.
Из-за снега отцу ничего не оставалось, как сидеть дома и играть с нами. Он знал, что уже никогда не посеет хлопок, и я часто задумывался потом, чувствовал он облегчение или страх. При нас-то, разумеется, подобные разговоры не велись. Шесть недель спустя мы внезапно покинули ферму – и, к счастью, никогда больше туда не возвращались. Отец нашел хорошую работу в строительной компании, которая каждое лето перевозила нас в какой-нибудь маленький южный городок.
В следующем году мы с нетерпением ждали выхода рождественского каталога от «Сирс энд Робак». Получив его, мы тут же составляли список желаний, который неизбежно был слишком длинным поначалу, а потом постепенно сокращался родителями. Когда Санта-Клаус внезапно пришел в гости в наш второй класс, я на полном серьезе заявил ему, что хочу это, а еще вот это, но чего я точно совсем не хочу, так это еще одного братишку на Рождество.
* * *
Как только Дэрроу договорил, Евровидение вскочил и первым захлопал, закивал и весь расплылся в улыбке:
– А кто-то утверждал, что не умеет рассказывать! Хорошо, очень хорошо!
Он огляделся, и я поняла, что он ищет новую жертву среди отстраненной публики. Все вдруг дружно уткнулись в телефоны.
– Ну же, давайте! Кто следующий? – Его взгляд поблуждал по группе занервничавших молчунов и уперся в меня. – Сдается мне, наша управляющая может рассказать немало интересных историй про наш дом.
Я вздрогнула и на несколько секунд замерла в паническом оцепенении.
– Да я здесь всего-то несколько недель, – покачала я головой.
Он глянул на меня искоса:
– А как насчет предыдущего дома?
– Я работала в ресторане «Ред лобстер». Там никогда ничего интересного не случается.
Снова косой взгляд.
– Ну что же, тогда вернемся к вам позже. Думаю, нам всем любопытно узнать вас поближе.
– Любопытно? Что тут такого любопытного?
Под его пронизывающим взглядом я нервничала, будто он меня в чем-то подозревал. Я видела некоторое недоверие или как минимум настороженность и на лицах остальных. Я же изо всех сил старалась не привлекать к себе внимания, и меня поразило, что у них сложилось обо мне какое-то мнение.
– Ну, вы же не станете отрицать, что не совсем соответствуете, гм, нашему представлению об управдоме.
– А, понятно. Потому что я не мужчина?
– Нет-нет! То есть… Ну, немного, в каком-то смысле. Да.
Глядя на выражение его лица, невозможно было не рассмеяться. Меня так и подмывало оставить его мяться от неловкости, но, чтобы отвлечь внимание от себя, я ответила:
– Я обязательно поделюсь историей, обещаю. Просто дайте мне немного времени.
Интересно, нет ли в бумагах Уилбура чего-нибудь, что можно выдать за свое? Меньше всего на свете мне хотелось делиться с посторонними личными секретами.
– Ладно, договорились!
– Никаких халявщиков! – заявила Кислятина. – Все, кто слушает, должны рассказывать!
– Мне есть что рассказать, – объявила Амнезия, одетая в разномастные состаренные вещи в пятнах кислоты и краски и порезанные ножом, как будто ее только что вытащили из развалин рухнувшего здания. – Когда я жила в Вермонте, мы с моей девушкой играли в компьютерную игру «Амнезия». В ней некто приходит в себя в пустыне, ничего не помня про свою предыдущую жизнь, и вынужден спасаться от вампиров, демонов и проклятий. Игра мне нравилась – до тех пор, пока не стала слишком уж походить на мою жизнь.
– Благодарю вас, – подбодрила ее Кислятина и уселась поудобнее, приготовившись слушать.
* * *
– Всю жизнь мне снится один и тот же сон про какую-то женщину, – заговорила Амнезия. – Его нельзя назвать кошмаром, но он меня нервирует, потому что всегда одинаков. Лето. Я стою во дворе. Передо мной огромный темный дом с белыми ставнями, шторы задернуты на всех окнах, кроме одного. Именно за тем окном стоит она, та женщина. Ее силуэт чернеет в белой раме окна, и она смотрит прямо на меня. У нее впалое лицо, на щеке – шрам, а на шее – золотой крестик. Я знаю, тут ничего страшного нет, но дело в том, что она никогда не улыбается. Я имею в виду, большинство людей, когда смотрят на вас, улыбаются. А она просто вперивается в меня, и тут я обычно просыпаюсь.
В детстве я однажды рассказала свой сон маме, и она прямо-таки принялась выпытывать у меня подробности. Сколько лет той женщине? Какого размера шрам? Во что одета? Как выглядит дом? В каком он состоянии? Словно мы пытались найти кого-то похищенного. Я это хорошо помню, потому что мама вцепилась мне в руку ногтями, хотя мы были в кафе «Уоффл-хаус», сразу после церковной службы, на глазах у всех.
«Отпусти ее, Кэт», – сказал папа таким тоном, словно в противном случае вмешается.
Знаете, как бывает в отношениях, когда один из двоих занимает больше места? Вот так было с родителями. Вроде как мама – это Солнце, а папа – Меркурий или что-то такое, маленькое и слишком близкое к ней, вызывающее исключительно дискомфорт. Мы с Санджеем часто шутили, что единственная причина, почему они еще вместе, – это то, что сначала мама забеременела мной, а потом им, но теперь я думаю, мы обернули правду в шутку лишь для того, чтобы осмелиться произнести ее вслух.
Родители никогда не рассказывали, как они познакомились или как начали встречаться. Если их спрашивали, они просто отвечали, что познакомились в Техасском христианском университете, словно все остальное есть неизбежное следствие, и человек, уехавший учиться из Тамилнада[41 - Тамилнад – штат на юге Индии.] и оставивший там всех друзей и близких, в конце концов не мог не найти себе жену в Лаббоке[42 - Лаббок – город в Техасе.].
В общем, я больше никогда не заговаривала про женщину из сна. Мама слишком расстроилась, и, честно говоря, именно из-за меня. Даже не знаю почему. Вы же видели рекламные ролики, в которых образцовые мамочки плачут на выступлениях детишек и наклеивают пластырь на ободранные коленки? Моя мама пыталась так вести себя со мной, но, похоже, просто не могла этого делать. Она стискивала зубы, обнимая меня, морщилась от моего смеха и уходила из комнаты, если я начинала плакать. С Санджеем она вела себя по-другому: смотрела на него умильными глазами и часто обнимала. Однажды, не подозревая о моем присутствии в соседней комнате, мама призналась миссис Хьюсон, что, конечно же, нехорошо иметь любимчика, но с Санджеем ей гораздо проще, он меньше в ней нуждается. Миссис Хьюсон засмеялась и ответила, что причина в слишком сильном сходстве дочери с матерью (о чем нам постоянно говорили: мы с мамой светловолосые и круглолицые, а Санджей и папа – смуглые и угловатые), но мама заявила: «У нее со мной нет ничего общего», и больше миссис Хьюсон не сказала ни слова.
В ту Пасху, когда у мамы случился нервный срыв, Санджею было семь, а мне – двенадцать. Мы потом много лет шептались о происшествии, словно о любимом фильме, который нам не следовало смотреть. Все выглядело еще безумнее оттого, что в Первой баптистской церкви мама всегда вела себя абсолютно безупречно: постоянно что-нибудь разглаживала, аккуратно раскладывала программки и обращалась со всеми так, словно они к ней в гости пришли, ведь она выполняла обязанности встречающего. Накануне вечером она приготовила два желтых платья и два темно-синих костюма, и мы выглядели словно какая-то безумная семейка оживших куколок: светлое-темное-светлое-темное перемежались на предпоследней скамье, откуда мама наблюдала за входными дверьми.
То утро сразу не задалось. Это я тоже помню: мама орала на нас всю дорогу в машине – как мы ее перед всеми позорим, хотя мы еще даже до церкви не доехали; она хмурилась, глядя в зеркало заднего вида, и дважды спросила, не забыла ли я воспользоваться дезодорантом. Иногда оставалось лишь надеяться на появление чего-то большего, чем ты, что заставило бы маму отвести от тебя взгляд, поэтому, когда пастор Митчелл громогласно провозгласил: «Он воскрес! Он воскрес!» – я испытала настоящее облегчение. Раскаты голоса пастора отдавались от горла до пояса, и на минуту мне почудилось, будто потолок может треснуть, открывая вид на небеса, изображенные на одной из фресок.