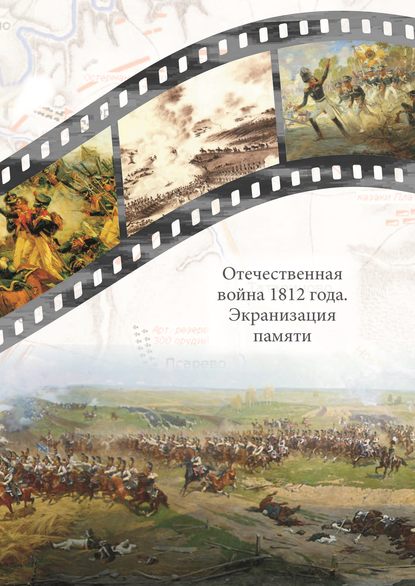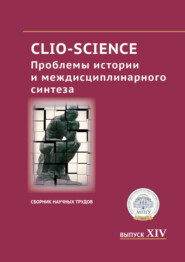По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Отечественная война 1812 года. Экранизация памяти. Материалы международной научной конференции 24–26 мая 2012 г.
Автор
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Взгляд в упор». На первом плане – языки пламени, обрушение зданий, летящие балки и падающие стропила, столбы дыма и облака гари. Город гибнет. Режиссера, похоже, занимает не человек, а сама по себе архитектоника уничтожения – сожжения Дома, Града, Мира. Буйство стихии, как она есть. Человеческая масса нелепо копошится вдали, обживая лишь задние планы кадра. Город – «фигура», человек – «фон». Маленький человек, лишенный каких бы то ни было персонифицирующих примет. Индивидуальные черты стерты. В самом деле, какое они имеют значение перед надвигающимся кошмаром апокалипсического Ничто? «Время близко». «Я» охвачено безумием агонии, растворено в стайках безоглядно бегущих, содрогается в инстинктивных попытках спасения, утопает в толпе. Камера динамична и конвульсивна. Нервный монтаж. Трансфокаторы и тревелинг иной раз возносят точку зрения на высоту, примерно равную или той, с которой Брюллов созерцает гибель Помпеи, или той, с которой Брейгель наблюдает за «Детскими играми» нидерландского городка. Паника, бессмысленная суета, судороги отчаяния, шумы, стоны, хаос, неразбериха.
«Взгляд-хиазма» – царство ярких кинопортретов и отраженных эффектов, возможных благодаря изменению масштабов объекта съемки и антуражей. Камера перемещается в один из интерьеров московских домов. На первом плане – человек в полный рост на привычном фоне уютного, обжитого мирка, который, кажется, готов вот-вот обрушиться, но все еще крепок. Человек на фоне дома или дом на фоне человека? Впрочем, не так важно: они вполне равнозначны и взаимозаменимы. Человек и есть этот Дом. В укрытии стен, способных защитить от смертной угрозы, остается быть не более чем вуайеристом, подглядывающим за пожаром из приоткрытых глазниц/окон. Речь артикулирована, слова отчетливы. Камера бережно схватывает мельчайшие перепады настроений и динамику жестов. Лицо то и дело освещается внезапными вспышками света. В кадре нет огня, лишь знаки-заместители, сигнификаторы его присутствия – блики и зеркальные отражения, отблески и отсветы. Эти киноприемы в чем-то близки к живописи Тинторетто и маньеристов: дробный, мерцающий, контрастный свет из множества источников освещения, темные фоны, резкие рельефные тени. Да, с одной стороны – смута, тревога, подавленность. Но, вместе с тем, с другой – и решимость заглянуть в зрачки Вселенской Необходимости Ананке. Это обреченный взгляд на трагедию, но не совсем лицом-к-лицу, а через стремительную чересполосицу сознаньевых отражений страшного огня, в свою очередь, отзеркаливающего сознание: человек устремляет взор в неумолимость истории, история – в не-умаляемость человека.
«Взгляд издалека» наиболее отстранен от происходящего. Выбор предельно далекой точки стояния – и отстояния – от распростертой на горизонте панорамы города, затянутого дымкой пожара, – знак смирения и примирения. Ни бунта, ни протеста – лишь усыпляющие, успокоительные ритмы скорбных кладбищенских горизонталей. Статичное панорамирование. Не человек распластан перед стихией, а она – перед человеком. В нарушении древних запретов оборачиваться вспять, в памятливости оглядки на прошлое сознание подобно жене Лота, застывающей соляным столпом. Звуки стихают, уступая место царству шепота и безветренного покоя, которые грозят перерасти в мертвящую тишину и полное оцепенение. Эмоции и страсти угасают, инстинкты смолкают, наступает странная недвижность. Безмятежность. Нет, не безразличие, а нечто вроде утишения-и-утешения безмерным, неисцелимым, неискоренимым горем. Камера прикована к бытию непроявленного, к едва различимым, скорее «внутренним», чем «внешним», движениям, – к повороту зрачков, подрагиванию век, шевелению губ. Черты лица взяты максимально крупными планами. Человек – «фигура», город – не более чем «фон». Город, созерцаемый как целое. Может, именно так Приам некогда взирал на развалины Трои? Взгляд охватывает панорамы объятых пламенем строений и словно парит, покидая пределы всех этих величественных разрушений. Он исполнен решимости и уверенности в грядущем восстановлении сгоревшей святыни.
«Взгляд в упор», «взгляд-хиазма» и «взгляд издалека» – не просто игра дистанций или смена кинематографических планов приближающейся и удаляющейся камеры. Перед нами – три маски, сквозь которые проглядывает ироническая усмешка киноязыка Парамнезии, три способа устроения искажающих фильтров видения. Первое – «я» раздавленное витальной стихией, захваченное жизненным порывом и вовлеченное в его смертоносность, вверченное в водоворот непоправимости исторического бытия, беспомощное и беззащитное, маленькое, жалкое, неразличимое в ряду себе подобных. Второе – «я» рефлектирующее и сомневающееся, испуганное, но не склонившееся перед ликом исторической неизбежности, упорствующее и силящееся ей противостоять, словно бы равновеликое огненной стихии, столь же дерзко вглядывающееся в нее, сколь и пристально ею разглядываемое. Третье – «я» мудро-отрешенное, утратившее чувствительность к трагедии, пребывающее за ее болевым порогом, отдаленное-и-от-деленное от первособытия травмы дистанцией «паноптического» всевидения, способного приоткрыть гигантский, сверхчеловеческий масштаб катастрофы.
Эти способы кино-зрения можно поставить в соответствие различным линзам умозрения – призмам ментальной оптики, фильтрам видения-и-ведения, экранирующим завесам сознания, силящегося забыть о травме и фатально не способного ее забыть. Границы между ними имеют разную степень проницаемости. Пульсируя, они маркируют уровни включенности в событие, степени погружения памятью в болезненный онтологический «разрыв» исторического континуума, – тот зияющий «провал» в памяти, который не суждено до конца заполнить-и-запомнить; тот «шов» по имени «сожжение града», который, наверное, никогда не удастся окончательно стачать, ибо он всегда чреват новой болью, новым разрывом-обнажением незаживающей раны.
5
Едва ли не трюизм – рассуждение о двойственности огня, соединяющего несоединимое: уничтожение и созидание, ужас смерти и благоговение перед жизнью, холодный мрак забвения пепелищ и теплый искрящийся свет воспоминаний. Огонь – ag-nis, Ig-nis – означает «живой», «подвижный», что, возможно, подразумевает не только принципиальную нестатичность самого феномена, но и текучесть, неуловимость его смыслов. Заметим, что во взгляде историко-культурной ретроспективы «большого времени» огонь, тесно переплетающийся с семантикой памятования, оказывается также неизбежно связанным и с образом жертвы (ритуалы огнепоклонников и исповедание памяти-божества посредством возжиганий и воскурений, приношение жертвенного огня и сжигание жертвенных животных, поминальные свечи храмов и пламя «вечного огня» et cetera).
Так память, огонь и жертва словно бы становятся субститутами друг друга. И подобно тому, как огонь предстает перед сознанием в своей пугающе-притягательной, устрашающе-пленительной двуликости, и память оказывается неизбывно сдвоенной: она вечно преследуема ее двойником – забвением и vice versa. Но разве не так же и жертва соединяет потерю и обретение, смерть и новое рождение, неизбывно следующие друг за другом? Как странники и их тени, пребывают в своем непрекращающемся путешествии по сознаньевым ландшафтам память, огонь и жертва, полные игр двойничества, взаимных отзеркаливаний и отражений. Не эта ли поэтика удвоений становится визуальным инструментом кинематографической Парамнезии, благодаря которой кинообразы теряют устойчивость, перетекают друг в руга и оставляют зрителя в нерешительности и смятении неоднозначности – «по ту сторону добра и зла», побед и поражений, жизни и смерти – по ту сторону любых оппозиций; в том неизъяснимом, абсурдном прыжке через пропасть непонимания, в котором полюса сходятся и противоречия совпадают?
В киновоспоминаниях о пожаре Москвы 1812 года память, огонь и жертва сошлись воедино, порождая ощущение метафизической и этической без-мерности и без-размерности образа «спаленного пожаром» града в мерцающих проекциях нескончаемого гипостизированиия и перетекания через протееву многоликость взаимных метаморфоз – микро-деталей и макро-панорам, внутренних и внешних пространств «я», «сердца», «дома», «мира», усиленных поэтикой извечного удвоения: града разума и сердца, града тела и души, града земного и небесного. Границы между ними неуловимы и прозрачны. Образ разрушенного-опустошенного-сожженного града есть в то же самое время и образ разрушенного-опустошенного-сожженного сердца, и образ разрушенного-опустошенного-сожженного мира.
«Зов огня», по словам Гастона Башляра, «хотя в современной действительности и не подтверждается никакими позитивными наблюдениями», по-прежнему «нас волнует»: «от Виктора Гюго до Анри де Ренье Гераклов костер служит… символом участи человеческого рода»[70 - Башляр Г. Психоанализ огня / [пер. с фр., предисл. и примеч. И.В. Кислова]. М.: Прогресс, 1993. С. 37.]. «Зов огня» не вытеснить в забытье, он неизбывно прорывается в память и чреват все новыми и новыми жертвами – очистительными, искупительными. Ибо рождение нового жаждет принесения в жертву самого дорогого, невинного, чистого. Ибо рождение грядущего живет умерщвлением прежнего.
«Умирающий в огне, в отличие от других, умирает не в одиночку. Это поистине космическая смерть, когда вместе с [ним] гибнет вся Вселенная», – утверждал Башляр, размышляя не столько о Гельдерлиновском «Эмпедокле» (которого, вслед за Пьером Дерто, сравнивал с титаном, солнечным богом Гиперионом-Гелиосом), сколько о самом порыве к добровольному принесению себя в жертву огненной стихии[71 - Там же. С. 36.]. «Мало потерять плоть, костный мозг, сок и влагу. Лишиться огня… – вот настоящая жертва. Жизнь может зародиться только ценой этой жертвы»[72 - Там же. С. 76.]. Лишиться забвения, – продолжим мы, – вот настоящая жертва. Память может существовать только ценой этой жертвы. Так «зов огня», сливаясь с «зовом памяти» и «зовом жертвы», образуют дивные полифонические созвучия – гулкое двухсотлетнее эхо, отзывающееся в травмированном сознании культуры.
Собственно, визуальным акцентом кинематографических реминисценций о войне 1812 года был и остается пожар Москвы, оставляющий за кадром сокрытые причины исторической катастрофы. Патриотический поступок российских мужиков? Бездушный цинизм пьяных французских солдат? Следствие хаоса и сумятицы? Выполнение воли и тайного указания Александра I?
Исполнение распоряжения М. И. Кутузова? Или все же реализация плана Ф. В. Ростопчина, который, как известно, отрицал свой поступок и отрекся от славы поджигателя? Не стал ли для России пожар Москвы своего рода символическим парафразом «самосожжения Сарданапала»? Ответы на эти каверзные вопросы содержатся, разве что, в свитках папируса дочери Зевса и Мнемозины, Музы истории Клио, или – что, впрочем, может, то же самое – в невербализуемых кинообразах-аффектах сожженного и восставшего из пепла града.
* * *
Можно до бесконечности перебирать четки смыслов, нанизывая их один за другим во «внутреннем кинематографе» мышления: забвение, принесенное в жертву памяти; память, нуждающаяся в жертвенном приношении забытья; забвение – всесожжение воспоминаний, память – феникс, восстающий из пепла; огонь – жертвоприношение памяти; огненная жертва – поклонение-памятование; жертвенное забытье во имя воскрешения в памяти et cetera. Словно бы к образам огненной жертвы в кинематографической «постпамяти» взывают поэтические строки из «Комедьянта»: «Вы столь забывчивы, сколь незабвенны»[73 - См.: Цветаева М. Театр / Собр. соч. в 7 т. М.: Эллис Лак, 1994. Т. 2. «Вы столь забывчивы, сколь незабвенны» [ «Комедьянт»]. С. 321, 418.]. Кто они, и тот, кто отдавал приказ о сожжении Москвы, и тот, кто исполнял его, спешно вывозя из города пожарные трубы, поджигая склады оружия, предавая огню тысячи строений, десятки мостов и башен, сотни храмов, кто они, эти российские «Анти-Геростраты», воскрешаемые Парамнезией кинопамяти в своей чарующей, заманчивой правдоподобности?
Если поджигатель храма Артемиды был приговорен эфесскими жрецами к забвению, то поджигатели Москвы были обречены на расстрел солдатами наполеоновской армии. Но столь же вопреки, сколь и благодаря огненной жертве поджигатели остаются в памяти. Герострат сжигает храм во имя славы, но это слава злодеяния – память кощунственного, пустого, бессмысленного жеста – жеста отрицания, итогом которого становится разверзнутая в сердцевине бытия холодная бездна тотального ничто. Анти-Герострат (а под этим именем могут скрываться Ростопчин, Александр I, Кутузов, императорская армия и весь российский народ) сжигает град, отказавшись от славы, но это слава благодеяния – память немыслимой, исполненной полноты веры, отчаянной, но не отчаявшейся, воистину безумной жертвы – жертвы абсолютного приятия, животворящей, созидающей, воздвигающей в символическом центре мира «Столп и утверждение Истины». «Жертва Богу – дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного Бог не презрит»[74 - Пс. 50:17.].
«Исторический фильм»: границы влияния и возможности формирования исторической памяти
Ирина Корноухова
Прошлое наполнено событиями, и искусство, образно отражающее событийный мир прошлого, осмысливает, сохраняет и транслирует его в форме особого жанра, исторической живописи, исторической романистики. Это жанровое направление было воспринято и киноискусством, создающим синтетические, зрелищные образы прошлого. «Исторический фильм» – это термин, использующийся в кинокритике для описания, главным образом игрового кино, целью которого является создание аудиовизуального образа исторического события. Именно об этой, тематически определенной, группе кинопроизведений как цельном предметно-тематическом комплексе, о его происхождении и особенностях развития, о перспективах изучения и возможностях практического использования в смежных культурных пространствах интересно порассуждать в контексте формирования исторической памяти, влияния на коллективные представления о прошлом.
Развитие исторической тематики кинематографа определено истоками его происхождения от аттракциона, зрелищного фокуса к фильмам-иллюстрациям, к искусству. Использование содержания народных песен и былин в сюжетах первых фильмов показывает, что рождение исторического жанра произошло почти одновременно с кинематографом. «Движущиеся картинки», также как наполненное событиями прошлое, нуждаются в рассказе, нарративность заложена в самой технологии кино, одновременно с которой рождается потребность в сюжете, поиск драматургии, которой так богато историческое прошлое. Следует отметить, что рождение исторического кино не было связано ни с госзаказом, ни с социальным заказом. На заре своего существования оно не выполняло никакой прикладной функции, и было органично самой технологией кинопроизводства.
Из-за утраты многих фильмов немого кино не удается проследить долю картин на исторические сюжеты в общем производстве кинофильмов. По данным, приведенным в статье И.Е. Салтыковой[75 - Салтыкова И.Е. Материалы по истории русского немого кинематографа в фондах ГИМ // Труды ГИМ, вып. 79. С. 16.], на 1986 год из 2000 немых фильмов, отснятых до 1910 года, было известно 337. Доказательством связи кинематографа с историческими сюжетами на самых ранних стадиях его развития служит то, что первым игровым фильмом кинокритика считает фильм 1908 года о Стеньке Разине, а первым полнометражным – фильм 1911 года об обороне Севастополя и Крымской войне.
Революционные события, потребности молодой советской республики выявили колоссальный пропагандистский потенциал молодого, как и она сама, киноискусства. В.А. Аксенов писал, что репертуар столичных кинотеатров до 1917 года состоял из 514 фильмов. «Причем более половины из них (только игровых картин было снято 245) были выпущены и стали демонстрироваться именно в 1917 году»[76 - Аксенов В.Б. // Отечественная история. № 6, 2003. С. 25.], что доказывает быстрое увеличение количества выпускаемых фильмов именно в этот год.
Одной из первых тем постреволюционного исторического кино стало недавнее революционное прошлое. И.Б. Орлов, рассматривая тематику исторического кино 1920-х годов, называет его историко-революционным[77 - Орлов И.Б. «Гримасы нэпа» в историко-революционном фильме 1920-х гг. // Отечественная история. № 6, 2003. С. 22.]. Так, в 1920 г., в праздник третьей годовщины Октябрьской революции вышел фильм Н. Евреинова «Взятие Зимнего дворца», в котором впервые предпринята попытка детальной реконструкции данного исторического события.
Именно в первые годы после гражданской войны историческое кино стало инструментом формирования исторической памяти, уникальным, в силу своей демократичности, в ряду всех других видов искусства, участвовавших в этом процессе. Посредством исторического кино происходила мифологизация недавних событий, необходимых и для идеологической опоры нового государства, и для объяснения глобальных социальных перемен, и в целях формирования в массовом сознании условий для бытования новых образов истории, новых объяснений прошлого.
Однако в до-сталинском кино история не была основной темой, несмотря на соответствующую идеологическую потребность. В те годы, так же как и до 1918 года, кинематограф подчинялся в большей степени законам коммерции. По замечанию И.Б. Орлова, «создатели отечественных кинолент ориентировались не на партийный заказ, а на кассовость»[78 - Там же. С. 23.].
В полной мере способность исторического кино воздействовать на массовое сознание была оценена только И.В. Сталиным, рассматривавшим его как инструмент идеологического воздействия. Именно эта сторона кинематографа интересовала его больше всего. «Историческая достоверность кинопродукции волновала вождя в наименьшей степени. Кино предоставляло наибольший простор для мифологизации истории. Многое из того, что позволял жанр киноискусства, не могло быть, без явных нарушений научной достоверности, взято на вооружение учебной литературой. Тем не менее в формировании исторического сознания народа учебники функционально подменялись кинофильмами»[79 - Багдасарян В.Э. Образ врага в исторических фильмах 1930-х – 1940-х гг. // Отечественная история. № 6, 2003. С. 32.].
В 1930-е – 1940-е годы возникает система контроля за тематикой фильмов, руководство кинопостановками через «правительственные просмотры» в Совкино в Гнездниковском переулке. Историческое кино этого времени формируется не столько социальным, сколько государственным заказом, проходя идеологический фильтр. В 1940-м году из намеченных 58 картин было выпущено 38[80 - Там же. С. 33.]. Историческое кино того периода все больше становилось похожим на «голливудскую сказку»: «Голливудская сказка была интегрирована в советскую эпоху»[81 - Там же. С. 33.].
Отражая имперские тенденции, исторические фильмы, созданные во второй половине 1920-х гг. и в предвоенное время, формировали дуалистичность в оценке героя, события, факта, заставляли делить на «своих и «чужих», расщепляли историческое сознания человека.
Сопоставляя в рамках историографического анализа мотивы работы историка над историческим материалом и создателей исторических фильмов того периода, интересно вспомнить высказывание классика исторической науки о причинах, побуждающих к познанию истории. «Людям надобится прошлое, – писал В.О. Ключевский, – когда они хотят уяснить себе связь и характер текущих явлений и начнут спрашивать, откуда эти явления пошли и к чему могут привести»[82 - Ключевский В. О. Соч. в девяти томах. – М., 1989. – Т. VII. С. 181.].
Кино, предпринимающее свое собственное «историческое исследование» в те или иные периоды, имело разную мотивацию. В сталинскую эпоху его мотивом было, встроившись в идеологическую систему, формировать мышление, которое должно было стать основой национальной консолидации.
К мотивам же, сформулированным классиком, историческое кино смогла развернуться только в 1960-е годы. А с 1960-х до середины 1980-х было сформировано проблемно-тематическое ядро исторического кино, сохранившееся во многом до сегодняшнего дня. Это, в частности, тема Великой Отечественной войны, тема крестьянства, по-новому зазвучавшая тема революции. Для этого периода характерен переход от государственного заказа в отношении кинопродукции на социальный, что, конечно же, делает историческое кино ближе тем проблемам, которые традиционно решались исторической наукой.
Можно ли историческое кино рассмотреть через призму историографического анализа, наравне с работами профессиональных историков?
С.С. Секиринский в статье 2003 года так формулировал перспективы взаимоотношений исторической науки и исторического кино: «С течением времени и прогрессом аудиовизуальных средств передачи и сохранения информации «словесная» история будет уступать все больше и больше места истории «экранной» – зримой, динамичной и поэтому особенно выразительной»[83 - Секиринский С.С. Кинематографичность истории, историзм кинематографа // Отечественная история. № 6, 2003. С. 3.].
Уровень изучения феномена исторического кино характеризуется его историографическим срезом. В рамках кинокритики сложилась традиция рассмотрения отдельных проблем исторического кино, в которой анализируются его жанры: историко-биографическая драма, историческая эпопея. Существуют подразделы жанра как, к примеру, драма, патриотический боевик.
Сформировалась источниковедческая школа кинофотофонодокументов. В структуре источниковедческого анализа поднимается пласт, связанный с эпохой создания кинофотофонодокумента, и он рассматривается как факт эпохи, его породившей.
Проблематика изучения исторического кино находится на стыке методологических, источниковедческих и историографических подходов. Сложность исторического кино как объекта исследования заставляет применять подходы, сформированные в разных классических традициях.
Одним из продуктивных направлений исследования исторического кино является историографический анализ. Его инструментарий, позволяющий сделать объектом произведения художественной литературы, изобразительного искусства, запечатленное в семейных легендах обыденное сознание, применим и к историческому кино. Фильм при этом рассматривается как историографическое произведение, подобное исследовательской монографии, с многослойной структурой.
В академической науке интерес к кинематографу как форме бытования исторического знания возникает в связи с осмыслением объекта исторического познания и развитием историографии как специальной научной дисциплины с широкой оптикой тем, уводящей от узкого понимания проблемной историографии или исследования персоналий к темам на стыке истории и философии, социологии, психологии. Уже с 1970-х годов прошлого века в рамках историографии разрабатывались темы исторического сознания, исторической памяти, форм бытования исторического научного и вненаучного знания.
Многоэтапность сложного процесса создания фильма, от первоначальной версии сценария до окончательного варианта картины, представленной зрителю, позволяет заглянуть в творческую лабораторию, отследить формирование и трансформации замысла, степень и уровни личностного влияния, социального или государственного заказа так же, как историограф отслеживает формирование концепции ученого-историка.
Перспективным применением историографического инструментария является проведение сравнительного анализа, рассмотрение всех «версий» экранизации одних и тех же событий и личностей, участвовавших в них, как, к примеру, это было сделано в 2003 году С.С. Секиринским при сравнении экранизаций повести А.С. Пушкина о Пугачевском бунте в 1928 году – «Капитанская дочка». По мотивам повести А.С. Пушкина. Совкино, М., 1928 (сценарий А. Шкловского, реж. Ю. Тарич). «Капитанская дочка», Мосфильм 1958 г. (сценарий Н. Коварский, реж. В. Каплуновский). «Капитанская дочка». Страницы романа. Гостелерадио СССР, 1978 г. (автор сценария и постановщик П. Резников, «Русский бунт». По мотивам произведения «Капитанская дочка» и «История Пугачева». НТВ-ПРОФИТ, 1999 г. (авторы сценария Г. Арбузова, С. Говорухин, В. Железников, режиссер-постановщик А. Прошкин). Одно только сопоставление образов Пугачева в фильмах разных лет высвечивает историографическую проблематику, отражая не только зависимость их трактовок от злобы дня, но и давая материал для анализа тех представлений об историческом прошлом, которые активно формировались историческим кино, ориентированным на «прочтение» замысла современниками.
Исторический фильм часто является экранизацией литературного произведения, исторического романа. В этом случае один замысел накладывается на другой, порождая многослойность историографического произведения. И чем дальше отстоят друг от друга автор романа и режиссер и сценарист, тем более сложной получается историографическая конструкция. Именно в историографии есть опыт работы с исторической романистикой. И именно рассмотрение исторического фильма как историографического произведения позволит раскрыть особенности исследовательского инструментария киноискусства.
Киноискусство возникло и развивалось как художественное направление, ориентированное на массовую аудиторию. Это свойство, отчасти технологическое, отчасти концептуальное, определило его принадлежность сфере массовой коммуникации. Фильм, как итог сложной коллективной работы, ориентирован на самую широкую аудиторию, но замысел его глубоко индивидуален. Как писал А. Михалков-Кончаловский в «Параболе замысла», два режиссера, поставившие фильмы по одному сценарию, создали бы совершенно разные, хотя и, при условии таланта, возможно, талантливые работы[84 - Михалков-Кончаловский А. Парабола замысла. М.: Искусство, 1977 С. 13.]. За киношедевром всегда стоит личность его творца. Авторство, даже если это коллективное авторство, соавторство режиссера, сценариста, автора музыкального произведения, оператора, консультантов, актеров, определяет цель и смысл высказывания, делает его посланием. Но именно в послании массам индивидуального видения возникает проблема субъективности этого послания, традиционно рассматривающаяся в историографическом исследовании.
Историческое кино, эта визуальная форма представления исторического знания, приобретает совершенно новое звучание в современном обществе. Через визуализацию исторического знания возможно преодоление отстраненности современного человека от исторического прошлого, преодоление «чувства безвременья», порожденного цинизмом, о котором пишет Петер Слотердайк в «Критике цинического разума» (1983). В описанном им послевоенном развитии гуманитарных представлений общества, просветительская и идеологическая функция исторического знания ослабевают, усиливается интерес к фактологической истории, истории событий. Это объясняет, «почему сегодня наблюдается расцвет популярной истории, рост массового интереса к мемуарам, биографиям, очеркам быта и нравов, историческому кино, детально и аутентично реконструирующему события (костюмы, прически, интерьеры и пр.) прошлого, и почему неспециалисты стали проявлять внимание к архивным материалам, в особенности же, к документам, содержащим статистические данные»[85 - Бахтин М.В. Историческое знание в эпохи цинического разума. Режим flOCTyna: _http://rudocs.exdat.com/docs/index-197655.html.].
Изменение места и роли исторического знания делает еще интереснее задачу рассмотрения форм его бытования в современном мире. В ракурсе интересов Государственного исторического музея оказалась проблематика, связанная с бытованием визуальных форм исторического знания. На семинаре «Научные реконструкции историко-культурного наследия»[86 - См. информацию на сайте Государственного исторического музея: http:// www.shm.ru/seminars.html], кино рассматривается наряду с фестивалями «живой истории» как разновидность синтетической реконструкции. «Живая история» – относительно новая форма, использующаяся в широком и многотемном движении исторической реконструкции, существующем в нашей стране с 1970-х годов прошлого века как клубное движение. На основе сохранившихся сведений его участники воссоздают предметы прошлого – одежду, утварь, а также традиции, жизненный уклад людей из прошлых эпох. Переложенные на фестивальный сценарий, мастер-классов ремесел и технологий, картинки прошлого оживают, предоставляя участникам и, в меньшей мере, зрителям, возможность пережить прошлое. Этот опыт становится для них, вручную сшивших себе костюмы по старинному крою, опытом причащения прошлому, возможно, тем «чувством истории», о котором писал Филлип Арьес, сравнивая познание истории с религиозным опытом[87 - Арьес Ф. Время истории М.: ОГИ, 2011 С. 22.].
«Наша память опирается не на выученную, а на прожитую историю», – писал Морис Хальбвакс в работе 1925 года[88 - Хальбвакс М. Коллективная и историческая память. Режим доступа: http:// magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html]. Фильм, снятый на исторический сюжет, предоставляет те же возможности, что и историческая реконструкция – пережить прошлое как опыт, но виртуально.
Зритель, ищущий свой путь познания исторического прошлого, формирует для себя путь в область виртуального опыта, сопряженный с интересом к получению правдивой информации о прошлом. Поэтому так привлекательны рекламные маркеры исторического фильма: «достоверный», «вся правда о…», «по-настоящему правдивый». «Кинофактура, ориентированная на подлинность, обладает магической силой воздействия»[89 - Анненский Л.А. Лев Толстой и кинематограф. М.: Искусство, 1980. С. 219.]. Для усиления эффекта подлинности кино использует разные приемы. Так, по словам Л.А. Анненского, при создании экранного полотна «Война и мир» «Сергей Бондарчук ничего не выставляет напоказ: у него интерьеры затемнены, а батальные планы задымлены, как на старинных гравюрах», он «не боится явных изобразительных цитат»[90 - Там же. С. 219.]. Этот прием оправдан тем, что старинная гравюра в обыденном сознании ассоциируется с подлинностью.
О силе воздействия на зрителя визуального образа исторического прошлого заговорили еще в 1970-х годах, когда сегодняшние реалии, интернет-технологии, сделавшие кино во много раз доступнее, показались бы фантастическими. Сейчас, в ситуации «новой волны» доверия к визуальной информации, сила воздействия кинематографического, экранного, образа не ослабевает, не теряется в обилии визуальной информации, а многократно возрастает в силу ставшего привычкой считывания визуальных кодов.
Зритель воспринимает фильм как послание, доверяя увиденному и его создателям как посредникам между представляемой эпохой и собственным «Я». Он видит итог грандиозной работы, но не видит последовательного поэтапного создания картины, не видит усилий исследовательской лаборатории. Он не может, как, к примеру, при чтении научной работы с оформленным научным аппаратом (системой сносок, комментариями), верифицировать предложенный ему образ. Его восприятие основывается на доверии авторскому видению. Сила воздействия «киноправды» напрямую зависит от силы эмоции, вызываемой у зрителя, а не степенью достоверности изложенных сценаристом и визуализированных на экране фактов. Возможность понять киноленту, в частности, опосредована степенью отождествления зрителя и персонажа, основой для которого, безусловно, является эмоция, внеисторичная по сути, но основанная на личном опыте воспринимающего зрителя, на силе бытующих в коллективной памяти представлений о прошлом.
Олег Аронсон, анализируя в теории кино Андре Базена соотношение обычной реальности и реальности экранной, заметил, что для Базена «важно не соотнесение образа и подобия, объекта и его изображения, но такая связь изображений, которая имеет форму реальности вне возможности сходства с ней»[91 - Аронсон О. Метакино. М.: Ad Marginem, 2003. С. 15.]. Реальность происходящего у Базена переживается зрителем как эффект присутствия «здесь и сейчас», «ощущение присутствия при совершении события»[92 - Там же. С Л 7.].
Свойства зрительского восприятия сближают историческое кино не только с фестивалями «живой истории», но и с другими видами визуальной презентации исторического знания, к примеру, с музейной экспозицией. Эта схожесть открывает новые пути для их взаимодействия. У исторического кино есть перспективы расширения проката в пространстве музея.