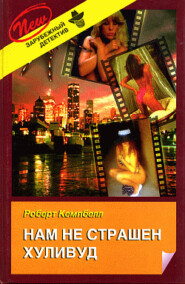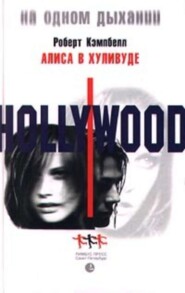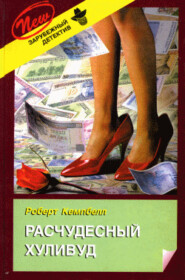По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Волшебник Хуливуда
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Заходите же.
Свистун взял ее за руку, пытаясь пресечь поток жалких слов и никому не нужных объяснений.
– Второго звали Джексон. Он говорил со мной, пока Лаббок находился в ванной. Он исчез туда надолго.
– Позвольте ваше пальто, – сказал Свистун.
– Не думаю, что ему на самом деле приспичило в уборную. Просто решил порыться в моих вещах.
– А ордер они предъявили?
– Сказал только, что у него мочевой пузырь вот-вот лопнет.
– Хотите кофе? Присядьте, а я сейчас сварю.
– Только не кофе. А то мне потом будет не уснуть.
– Бокал вина?
– Вы же не пьете.
– Люди приносят вино и не допивают до дна. Могу найти вам бокал вина или, может быть, стаканчик коньяку.
– А мне надо было потребовать у них ордер?
– Я ведь не знаю, зачем они к вам прибыли.
– Да, ладно, выпью уж кофе. Все равно сегодня, наверное, не усну.
– Вот и присядьте. Это займет пару минут. Растворимый, если вы не против?
– Да, конечно же, растворимый.
Свистун прошел на кухню вскипятить воду в мик-роволновке. Мэри крикнула ему из гостиной:
– А пари я, похоже, выиграла.
– Что?
– У вас тут самый настоящий свинарник. – Сахарин или сахар?
– Ни того, ни другого.
Он вернулся в гостиную с двумя чашками. Она, опершись на письменный стол, стояла у раздвижных дверей. Увидев его, она широко развела руками, чтобы показать, в каком бардаке он живет. На губах у нее играла веселая ухмылка.
У Свистуна и впрямь был самый настоящий бардак: газеты, журналы, нестиранные носки и объедки, оставшиеся от пары ужинов наедине с телевизором, были разбросаны повсюду. Луиза опять огорчила и разочаровала его. Предполагалось, что она будет заходить каждую среду – а сегодня как раз среда – и устраивать основательную – часика на четыре – утреннюю уборку, но было совершенно ясно, что нынче она сюда и не заглянула.
– Надо было нам спорить не просто так, а на что-нибудь, – сказал Свистун, подавая ей чашку.
Мэри отвернулась к стеклянным дверям.
– Зато вид отсюда красивый.
– Раньше он был еще лучше.
Зайдя сзади, он приобнял ее за плечи.
– Но-но, – сказала она.
– Так вы расскажете, что привело вас сюда?
– Два детектива из отдела по расследованию убийств…
– Да, я знаю. Лаббок и Джексон.
– Прибыли допросить меня.
– Допросить о чем?
– О смерти Кении Гоча.
– А с каких это пор детективы из убойного отдела расспрашивают о больных, умерших в хосписе от неизлечимой болезни?
– Кении Гоч умер не от саркомы. Ему перерезали горло.
– Но какого черта кому-то могло понадобиться убивать и без того практически мертвого человека? – воскликнул Свистун, однако это было с его стороны чисто машинальной реакцией. – Чтобы он не исповедался никому ни в чем, что затрагивало бы интересы третьих лиц, – ответил он на собственный вопрос. – Гоч вам в чем-нибудь исповедовался?
– Только в том, что раскаивается в собственной жизни. Ближе к концу ему стало казаться, что СПИД это кара Божья.
– Знакомая песенка! Ее поют все импотенты и старые девы, поджимая губы и сокрушенно качая головами при виде того, как живут другие. А если взглянуть на вещи прямо, нам всем приходится расплачиваться за то, что мы на этом свете живем.
– Вы о первородном грехе?
– Да называйте как хотите. Ну и что Лаббок и Джексон?
– Они начали расспрашивать о вашем друге. О том, как и зачем он туда попал. То есть, в палату. А вам известно, зачем?
– По просьбе родственника покойного Гоча. По просьбе Эба Форстмена.
– А что это была за просьба?
– Гоч исповедался Форстмену кое в чем. Но не до конца. У Риальто есть лицензия частного детектива. Как и у меня. Вот Форстмен и подумал, что, может, профессионалу Кении расскажет больше.
– И как, по-вашему, рассказал?
– Риальто утверждает, что нет.
Он взял ее за плечо и она вздрогнула, словно испугавшись.
Свистун взял ее за руку, пытаясь пресечь поток жалких слов и никому не нужных объяснений.
– Второго звали Джексон. Он говорил со мной, пока Лаббок находился в ванной. Он исчез туда надолго.
– Позвольте ваше пальто, – сказал Свистун.
– Не думаю, что ему на самом деле приспичило в уборную. Просто решил порыться в моих вещах.
– А ордер они предъявили?
– Сказал только, что у него мочевой пузырь вот-вот лопнет.
– Хотите кофе? Присядьте, а я сейчас сварю.
– Только не кофе. А то мне потом будет не уснуть.
– Бокал вина?
– Вы же не пьете.
– Люди приносят вино и не допивают до дна. Могу найти вам бокал вина или, может быть, стаканчик коньяку.
– А мне надо было потребовать у них ордер?
– Я ведь не знаю, зачем они к вам прибыли.
– Да, ладно, выпью уж кофе. Все равно сегодня, наверное, не усну.
– Вот и присядьте. Это займет пару минут. Растворимый, если вы не против?
– Да, конечно же, растворимый.
Свистун прошел на кухню вскипятить воду в мик-роволновке. Мэри крикнула ему из гостиной:
– А пари я, похоже, выиграла.
– Что?
– У вас тут самый настоящий свинарник. – Сахарин или сахар?
– Ни того, ни другого.
Он вернулся в гостиную с двумя чашками. Она, опершись на письменный стол, стояла у раздвижных дверей. Увидев его, она широко развела руками, чтобы показать, в каком бардаке он живет. На губах у нее играла веселая ухмылка.
У Свистуна и впрямь был самый настоящий бардак: газеты, журналы, нестиранные носки и объедки, оставшиеся от пары ужинов наедине с телевизором, были разбросаны повсюду. Луиза опять огорчила и разочаровала его. Предполагалось, что она будет заходить каждую среду – а сегодня как раз среда – и устраивать основательную – часика на четыре – утреннюю уборку, но было совершенно ясно, что нынче она сюда и не заглянула.
– Надо было нам спорить не просто так, а на что-нибудь, – сказал Свистун, подавая ей чашку.
Мэри отвернулась к стеклянным дверям.
– Зато вид отсюда красивый.
– Раньше он был еще лучше.
Зайдя сзади, он приобнял ее за плечи.
– Но-но, – сказала она.
– Так вы расскажете, что привело вас сюда?
– Два детектива из отдела по расследованию убийств…
– Да, я знаю. Лаббок и Джексон.
– Прибыли допросить меня.
– Допросить о чем?
– О смерти Кении Гоча.
– А с каких это пор детективы из убойного отдела расспрашивают о больных, умерших в хосписе от неизлечимой болезни?
– Кении Гоч умер не от саркомы. Ему перерезали горло.
– Но какого черта кому-то могло понадобиться убивать и без того практически мертвого человека? – воскликнул Свистун, однако это было с его стороны чисто машинальной реакцией. – Чтобы он не исповедался никому ни в чем, что затрагивало бы интересы третьих лиц, – ответил он на собственный вопрос. – Гоч вам в чем-нибудь исповедовался?
– Только в том, что раскаивается в собственной жизни. Ближе к концу ему стало казаться, что СПИД это кара Божья.
– Знакомая песенка! Ее поют все импотенты и старые девы, поджимая губы и сокрушенно качая головами при виде того, как живут другие. А если взглянуть на вещи прямо, нам всем приходится расплачиваться за то, что мы на этом свете живем.
– Вы о первородном грехе?
– Да называйте как хотите. Ну и что Лаббок и Джексон?
– Они начали расспрашивать о вашем друге. О том, как и зачем он туда попал. То есть, в палату. А вам известно, зачем?
– По просьбе родственника покойного Гоча. По просьбе Эба Форстмена.
– А что это была за просьба?
– Гоч исповедался Форстмену кое в чем. Но не до конца. У Риальто есть лицензия частного детектива. Как и у меня. Вот Форстмен и подумал, что, может, профессионалу Кении расскажет больше.
– И как, по-вашему, рассказал?
– Риальто утверждает, что нет.
Он взял ее за плечо и она вздрогнула, словно испугавшись.