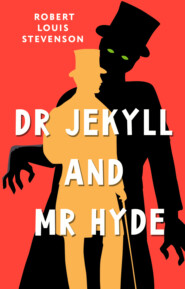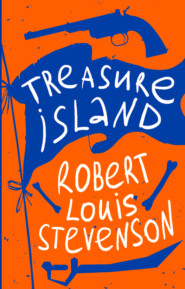По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда
Автор
Год написания книги
1886
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда
Роберт Льюис Стивенсон
«Адвокат мистер Утерсон казался суровым, его лицо никогда не освещалось улыбкой; говорил он холодно, кратко, скупясь на слова и нередко подыскивая выражения. Чувств своих Утерсон не любил показывать. Он был высокий, худощавый, угрюмый, человек, но все-таки до известной степени привлекательный. Во время дружеских пирушек, в особенности же, когда вино приходилось по вкусу Утерсону, в его глазах мелькало что-то мягкое, человечное, что-то, никогда не проскальзывающее в его речах, но проявлявшееся не в одних молчаливых взглядах после обеда; чаще и сильнее выражалась мягкость адвоката в его поступках и образе жизни. Он был суров к себе; пил джин, когда бывал один, чтобы заглушить пристрастие к вину, и, хотя любил спектакли, в течение двадцати лет не переступил порога ни одного из театров. Зато Утерсон был очень снисходителен к другим; адвокат иногда почти с завистью говорил о силе духа, скрывавшейся в проступках людей, и вообще охотнее помогал падшим, нежели осуждал их…»
Роберт Стивенсон
Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда
Глава I
История двери
Адвокат мистер Утерсон казался суровым, его лицо никогда не освещалось улыбкой; говорил он холодно, кратко, скупясь на слова и нередко подыскивая выражения. Чувств своих Утерсон не любил показывать. Он был высокий, худощавый, угрюмый, человек, но все-таки до известной степени привлекательный. Во время дружеских пирушек, в особенности же, когда вино приходилось по вкусу Утерсону, в его глазах мелькало что-то мягкое, человечное, что-то, никогда не проскальзывающее в его речах, но проявлявшееся не в одних молчаливых взглядах после обеда; чаще и сильнее выражалась мягкость адвоката в его поступках и образе жизни. Он был суров к себе; пил джин, когда бывал один, чтобы заглушить пристрастие к вину, и, хотя любил спектакли, в течение двадцати лет не переступил порога ни одного из театров. Зато Утерсон был очень снисходителен к другим; адвокат иногда почти с завистью говорил о силе духа, скрывавшейся в проступках людей, и вообще охотнее помогал падшим, нежели осуждал их.
– Я склоняюсь к Каиновой ереси, – замечал Утерсон, – я позволяю моему брату отправляться к дьяволу, как он сам того желает.
Ему случалось быть последним порядочным знакомым, последним хорошим советчиком погибавших людей. И пока они бывали у него, он не менялся по отношению к ним. Такая ровность обращения ничего не стоила Утерсону, потому что он был по натуре сдержан и так добродушен, что даже и дружил только с добродушными людьми.
Каждый истинно скромный человек вступает в тот дружеский круг, который посылает ему судьба. Так действовал и Утерсон. Друзьями адвоката делались его родственники или очень старинные знакомые. Привязанность Утерсона разрасталась как плющ с течением времени и не зависела от его сходства с избранным им другом. Этим, без сомнения, объяснялось, почему Утерсон мог сойтись с Энфильдом, своим дальним родственником и довольно известным в городе человеком. Многие ломали себе голову над тем, что общего было у них, что привлекало их друг к другу. Все встречавшие Ричарда Энфильда и Утерсона во время их воскресных прогулок, говорили, что оба они бродили молчаливо, казались невеселыми и точно с облегчением обращались к каждому встречному знакомому. Несмотря на все это, и Утерсон, и Энфильд очень ценили воскресные прогулки, считали их лучшим украшением каждой недели и, желая без помехи наслаждаться ими, не только отказывались от других удовольствий, но откладывали даже и деловые свидания.
Как-то раз они зашли в глухую улицу торговой части Лондона. Эта узкая улица была, что называется, очень спокойной, однако в течение недели на ней кипела торговля. Ее обитатели, по-видимому, жили недурно и надеялись со временем зажить еще лучше. Избыток доходов они тратили на украшение лавок, которые действительно казались приветливы и походили на ряд улыбающихся продавщиц. Даже в воскресенье, когда закрывались привлекательные витрины, улица представлялась красивой в сравнении со своими грязными соседками, и сияла, точно огонь в лесу. Она нравилась прохожему заново выкрашенными ставнями своих домов, хорошо вычищенной медной отделкой дверей и окон, вообще чистотой.
Идя по торговой улице в восточном направлении, прохожий мог заметить, что через два подъезда от угла левая линия ее домов прерывалась входом во двор, в глубине которого стояло мрачное, неуклюжее здание. В его фасаде, обращенном к улице, не блестело окон, и была только одна дверь; второй этаж представлял собой глухую, побуревшую от времени стену. Все здание носило на себе следы полного запустения. Входная дверь, без звонка или молота, сильно покоробилась и была покрыта пятнами. В ее нише ютились оборванцы, зажигавшие спички о ее порог; дети играли на ступенях, которые вели к ней; школьник пробовал нож на украшениях стен старого дома, и никто не прогонял этих случайных посетителей и не поправлял следов причиненной ими порчи.
Мистер Энфильд и адвокат были на другой стороне улицы, но когда они поравнялись со входом во двор, Энфильд указал тростью на мрачный дом и спросил:
– Замечали ли вы когда-нибудь эту дверь?
Утерсон ответил утвердительно, и Энфильд прибавил:
– В моем уме она соединяется с очень странной историей.
– Неужели? – сказал Утерсон слегка изменившимся голосом. – А в чем дело?
– Вот в чем, – ответил мистер Энфильд. – Однажды я возвращался домой издалека; было около трех часов утра; погода стояла хмурая, темная, только бесконечные фонари мерцали во мгле. Из улицы я переходил в улицу, все они были освещены, точно в ожидании процессии, и пусты как церковь; наконец я пришел в такое настроение, когда начинаешь прислушиваться к малейшему шороху и желать встретить полицейского. И вот я увидел две человеческие фигуры: крошечный человечек шел на восток очень быстрой походкой, а вдоль поперечной улицы бежала девочка лет восьми или десяти. И вот, сэр, они столкнулись на углу; тогда-то произошло нечто ужасное: прохожий спокойно наступил на упавшую девочку и пошел дальше, не обращая внимания на ее стоны. Слышать об этом одно, но действительная картина произвела на меня адское впечатление. Прохожий показался мне не человеком, а каким-то отвратительным чудовищем. Я закричал, схватил за ворот моего джентльмена и привел его обратно к месту происшествия, где вокруг стонавшего ребенка уже собралась толпа. Он был совершенно спокоен, не сопротивлялся и только взглянул на меня таким отталкивающим взглядом, что холодный пот покатился по моему лицу. Люди, окружавшие девочку, были ее родственниками; вскоре появился и доктор, за которым бежала бедная малютка. Ребенку было не особенно худо, он больше перепугался. Вы, вероятно, думаете, что этим дело и кончилось? Однако следует упомянуть об одном странном обстоятельстве. С первого взгляда мой джентльмен внушил мне отвращение. Был противен он и семейству девочки, что было вполне естественно. Но меня поразил доктор. Он походил на обыкновенного аптекаря; ни его лета, ни его наружность не заставляли обращать на него особенного внимания; говорил он с сильным эдинбургским акцентом и казался отзывчивым, как волынка. Слушайте же, сэр. Доктор Соубонс разделял всеобщие чувства и каждый раз, когда он взглядывал на моего пленника, то бледнел от желания убить его. Я понимал, что происходило в его уме, как он понимал, что творилось у меня в душе. Но так как об убийстве не могло быть и речи, мы поступили иначе: сказали моему джентльмену, что поднимем такой скандал, который опозорит его имя во всем Лондоне. Мы объявили ему, что если у него есть друзья и честное имя, он потеряет их после огласки истории. Говоря ему все это с большим жаром, мы в то же время старались не подпускать к нему женщин, потому что они были раздражены, как гарпии. Я никогда в жизни не видывал столько лиц, полных ненависти; и посреди их стоял странный человек с выражением какого-то мрачного, насмешливого спокойствия на лице. Я видел, что он испуган, что он скрывал свое чувство, точно сатана.
«Если вы хотите воспользоваться этим случаем и нажить капитал, – сказал он, – я, конечно, бессилен. Всякий порядочный человек избегает подобных историй. Скажите вашу цифру».
Ну-с, мы и назначили ему сто фунтов в пользу семьи ребенка; он, очевидно, хотел поторговаться, но в глазах многих из окружавших его людей светилась такая злоба, что он наконец согласился. Теперь следовало получить деньги. И куда бы, вы думали, он провел нас? К этому дому, к этой двери! Он вынул из кармана ключ, открыл им дверь, вошел в здание и сейчас же вернулся назад с десятью фунтами золота и чеком на банк Коутса, на подателя. Чек был подписан именем, которого я назвать не могу, хотя в этом-то и заключается одна из важнейших сторон моей истории. Следует только заметить, что это очень известное имя, часто повторяемое в печати. Мы назначили крупную сумму, но с такой подписью можно было получить гораздо больше. Я осмелился заметить незнакомцу, что дело походит на обман, что в обыкновенной жизни люди не входят в погреба в четыре часа утра и не возвращаются оттуда с чужими чеками. Однако он не смутился и насмешливо сказал:
«Будьте спокойны, я останусь с вами до открытия банка и сам получу деньги по чеку».
Итак, все мы: доктор, отец девочки, наш приятель и я сам, отправились ко мне и провели остаток ночи в моей квартире. Когда настало утро, мы позавтракали у меня и пошли в банк. Я сам подал чек и сказал, что имею все причины думать, что подпись подделана. Ничуть не бывало. Чек оказался настоящим.
– Эге!.. – произнес Утерсон.
– Я вижу, что вы разделяете мои тогдашние чувства, – сказал Энфильд. – Да, это скверная история; с таким дурным человеком, казалось бы, никто порядочный не мог иметь дела, а между тем личность, подписавшая чек, очень известна, даже знаменита, и, что еще хуже, принадлежит к числу людей, делающих добро. Предполагаю интригу, честный человек платит за какой-нибудь грех своей юности. Поэтому я называю этот глухой дом с дверью – домом интриг. Впрочем, даже это предположение не объясняет всего, – прибавил Энфильд и задумался.
Внезапный вопрос Утерсона вывел его из раздумья. Адвокат спросил:
– А вы знаете, живет ли здесь человек, принесший чек?
– Здесь? Нет, – возразил мистер Энфильд. – Но мне случилось узнать его адрес.
– И вы никогда не расспрашивали об этом доме с дверью? – спросил Утерсон.
– Нет, сэр, я деликатен; я остерегаюсь расспросов; расспросы слишком напоминают судебное разбирательство. Заданный вопрос – то же самое, что брошенный с горы камень. Вы спокойно сидите на вершине холма; камень катится вниз, сшибает другие камни; и вот какая-нибудь кроткая старая птица (о которой вы и не думали) убита в своем собственном саду, и ее семье приходится менять имя. Нет, сэр, вот какое у меня правило: чем страннее обстоятельства дела, тем меньше я спрашиваю.
– Очень хорошее правило, – заметил адвокат.
– Но я сам осматривал здание, – продолжал Энфильд. – Едва ли это жилой дом; в нем нет второй двери, и я не замечал, чтобы кто-нибудь входил в него, кроме моего незнакомца, да и он является не часто. В верхнем этаже три окна во двор, внизу ни одного; окна всегда заперты, но чисты. Затем, одна труба почти постоянно дымится, так что, вероятно, там кто-нибудь живет. Но я в этом не уверен, потому что все строения на этом дворе так скученны, что трудно сказать, где кончается одно и начинается другое.
Некоторое время друзья шли молча, наконец Утерсон сказал:
– Энфильд, ваше правило очень хорошо.
– Мне кажется, да, – ответил Энфильд.
– Тем не менее, – продолжал адвокат, – мне нужно задать вам один вопрос: я хотел бы знать имя господина, который наступил на ребенка.
– Что же, – сказал Энфильд, – я не вижу, чтобы это могло принести кому-нибудь вред. Его зовут мистер Хайд.
– Гм… – произнес Утерсон. – А каков он на вид?
– Его не легко описать. В наружности Хайда есть что-то нехорошее, что-то неприятное, что-то прямо отталкивающее. Я никогда на свете не видывал человека, который был бы мне противен до такой степени, но я с трудом могу сказать, почему именно. Вероятно, в Хайде есть какое-нибудь уродство; он производит впечатление урода, но определить, в чем заключается его безобразие, не могу. У него очень странная наружность, но я не в силах указать на ее особенности. Нет, сэр, невозможно, я не могу описать его. И это не вследствие недостатка памяти, потому что я так и вижу мистера Хайда!
Мистер Утерсон опять замолчал и некоторое время шел в глубоком раздумье.
– Вы уверены, что он открыл дверь ключом? – наконец спросил адвокат.
– Мой дорогой сэр… – начал Энфильд вне себя от изумления.
– Да, я знаю, – сказал Утерсон, – я знаю, мой вопрос должен казаться вам странным. Дело в том, что я не спрашиваю у вас другого имени, потому что уже знаю его. Вы видите, Ричард, ваша история сделала круг… Если вы были не педантично точны хоть в чем-нибудь, вам следует исправить эту неточность.
– Я думаю, вы могли бы предупредить меня, – сказал Энфильд с тенью обиды в голосе, – но я был педантично точен, выражаясь вашими словами. У этого человека был ключ, больше – этот ключ у него и до сих пор. Я видел, как неделю тому назад он открыл ключом таинственную дверь.
Утерсон тяжело вздохнул, но не вымолвил ни слова. Молодой человек произнес следующее заключение:
– Вот новое подтверждение правила ничего не говорить. Мне стыдно за свой длинный язык. Согласимся никогда более не возвращаться к этому предмету.
– Согласен от всего сердца, – сказал адвокат, – вот вам моя рука, Ричард.
Глава II
Поиски мистера Хайда
В этот вечер мистер Утерсон вернулся в свой холостой дом в очень мрачном настроении духа и сел обедать без удовольствия. Обычно по воскресеньям, после обеда, адвокат садился поближе к огню с томом какой-нибудь сухой материи на пюпитре и читал, пока часы соседней церкви не били двенадцати ударов; тогда он скромно ложился спать с благодарностью в душе. Но в этот вечер, едва с обеденного стола убрали скатерть, как Утерсон взял свечу и отправился в свой кабинет. Там он отпер несгораемый шкаф и из самого его потайного ящика вынул документ. На папке стояла надпись: «Завещание доктора Джекиля». С нахмуренным лицом адвокат принялся изучать содержание бумаги. Завещание было написано собственноручно Джекилем, потому что хотя Утерсон и принял его на хранение, но отказал в своей помощи при его составлении. В документе говорилось, что в случае смерти Генри Джекиля, доктора медицины, члена королевского общества, доктора юриспруденции и так далее, и так далее, все его имущество должно перейти в руки его «друга и благодетеля, мистера Хайда»; кроме того, там упоминалось, что в случае «исчезновения доктора Джекиля или его необъяснимого отсутствия в течение трех календарных месяцев», названный Эдуард Хайд должен вступить во владение имуществом названного Генри Джекиля без малейшего промедления; что Эдуард Хайд не повинен платить по каким бы то ни было обязательствам доктора Джекиля и только обязан выдать несколько небольших сумм слугам доктора. Этот документ уже давно служил предметом огорчения для мистера Утерсона. Он оскорблял его как адвоката и как приверженца здоровой, правильной жизни, для которого все фантастическое было несносным. Прежде его негодование увеличивалось оттого, что он не знал мистера Хайда, теперь он негодовал, узнав его. Плохо было, когда это имя представляло для адвоката один пустой звук, стало еще хуже с тех пор, как имя Хайда оделось в отталкивающие атрибуты, а через пелену тумана неизвестности вырисовывалось определенное предчувствие, которое говорило, что этот Хайд – существо адски злобное, враждебное.
– Я считал это завещание безумием, – сказал он себе, пряча оскорбительную бумагу в шкаф, – а теперь начинаю бояться, что оно позор.
Роберт Льюис Стивенсон
«Адвокат мистер Утерсон казался суровым, его лицо никогда не освещалось улыбкой; говорил он холодно, кратко, скупясь на слова и нередко подыскивая выражения. Чувств своих Утерсон не любил показывать. Он был высокий, худощавый, угрюмый, человек, но все-таки до известной степени привлекательный. Во время дружеских пирушек, в особенности же, когда вино приходилось по вкусу Утерсону, в его глазах мелькало что-то мягкое, человечное, что-то, никогда не проскальзывающее в его речах, но проявлявшееся не в одних молчаливых взглядах после обеда; чаще и сильнее выражалась мягкость адвоката в его поступках и образе жизни. Он был суров к себе; пил джин, когда бывал один, чтобы заглушить пристрастие к вину, и, хотя любил спектакли, в течение двадцати лет не переступил порога ни одного из театров. Зато Утерсон был очень снисходителен к другим; адвокат иногда почти с завистью говорил о силе духа, скрывавшейся в проступках людей, и вообще охотнее помогал падшим, нежели осуждал их…»
Роберт Стивенсон
Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда
Глава I
История двери
Адвокат мистер Утерсон казался суровым, его лицо никогда не освещалось улыбкой; говорил он холодно, кратко, скупясь на слова и нередко подыскивая выражения. Чувств своих Утерсон не любил показывать. Он был высокий, худощавый, угрюмый, человек, но все-таки до известной степени привлекательный. Во время дружеских пирушек, в особенности же, когда вино приходилось по вкусу Утерсону, в его глазах мелькало что-то мягкое, человечное, что-то, никогда не проскальзывающее в его речах, но проявлявшееся не в одних молчаливых взглядах после обеда; чаще и сильнее выражалась мягкость адвоката в его поступках и образе жизни. Он был суров к себе; пил джин, когда бывал один, чтобы заглушить пристрастие к вину, и, хотя любил спектакли, в течение двадцати лет не переступил порога ни одного из театров. Зато Утерсон был очень снисходителен к другим; адвокат иногда почти с завистью говорил о силе духа, скрывавшейся в проступках людей, и вообще охотнее помогал падшим, нежели осуждал их.
– Я склоняюсь к Каиновой ереси, – замечал Утерсон, – я позволяю моему брату отправляться к дьяволу, как он сам того желает.
Ему случалось быть последним порядочным знакомым, последним хорошим советчиком погибавших людей. И пока они бывали у него, он не менялся по отношению к ним. Такая ровность обращения ничего не стоила Утерсону, потому что он был по натуре сдержан и так добродушен, что даже и дружил только с добродушными людьми.
Каждый истинно скромный человек вступает в тот дружеский круг, который посылает ему судьба. Так действовал и Утерсон. Друзьями адвоката делались его родственники или очень старинные знакомые. Привязанность Утерсона разрасталась как плющ с течением времени и не зависела от его сходства с избранным им другом. Этим, без сомнения, объяснялось, почему Утерсон мог сойтись с Энфильдом, своим дальним родственником и довольно известным в городе человеком. Многие ломали себе голову над тем, что общего было у них, что привлекало их друг к другу. Все встречавшие Ричарда Энфильда и Утерсона во время их воскресных прогулок, говорили, что оба они бродили молчаливо, казались невеселыми и точно с облегчением обращались к каждому встречному знакомому. Несмотря на все это, и Утерсон, и Энфильд очень ценили воскресные прогулки, считали их лучшим украшением каждой недели и, желая без помехи наслаждаться ими, не только отказывались от других удовольствий, но откладывали даже и деловые свидания.
Как-то раз они зашли в глухую улицу торговой части Лондона. Эта узкая улица была, что называется, очень спокойной, однако в течение недели на ней кипела торговля. Ее обитатели, по-видимому, жили недурно и надеялись со временем зажить еще лучше. Избыток доходов они тратили на украшение лавок, которые действительно казались приветливы и походили на ряд улыбающихся продавщиц. Даже в воскресенье, когда закрывались привлекательные витрины, улица представлялась красивой в сравнении со своими грязными соседками, и сияла, точно огонь в лесу. Она нравилась прохожему заново выкрашенными ставнями своих домов, хорошо вычищенной медной отделкой дверей и окон, вообще чистотой.
Идя по торговой улице в восточном направлении, прохожий мог заметить, что через два подъезда от угла левая линия ее домов прерывалась входом во двор, в глубине которого стояло мрачное, неуклюжее здание. В его фасаде, обращенном к улице, не блестело окон, и была только одна дверь; второй этаж представлял собой глухую, побуревшую от времени стену. Все здание носило на себе следы полного запустения. Входная дверь, без звонка или молота, сильно покоробилась и была покрыта пятнами. В ее нише ютились оборванцы, зажигавшие спички о ее порог; дети играли на ступенях, которые вели к ней; школьник пробовал нож на украшениях стен старого дома, и никто не прогонял этих случайных посетителей и не поправлял следов причиненной ими порчи.
Мистер Энфильд и адвокат были на другой стороне улицы, но когда они поравнялись со входом во двор, Энфильд указал тростью на мрачный дом и спросил:
– Замечали ли вы когда-нибудь эту дверь?
Утерсон ответил утвердительно, и Энфильд прибавил:
– В моем уме она соединяется с очень странной историей.
– Неужели? – сказал Утерсон слегка изменившимся голосом. – А в чем дело?
– Вот в чем, – ответил мистер Энфильд. – Однажды я возвращался домой издалека; было около трех часов утра; погода стояла хмурая, темная, только бесконечные фонари мерцали во мгле. Из улицы я переходил в улицу, все они были освещены, точно в ожидании процессии, и пусты как церковь; наконец я пришел в такое настроение, когда начинаешь прислушиваться к малейшему шороху и желать встретить полицейского. И вот я увидел две человеческие фигуры: крошечный человечек шел на восток очень быстрой походкой, а вдоль поперечной улицы бежала девочка лет восьми или десяти. И вот, сэр, они столкнулись на углу; тогда-то произошло нечто ужасное: прохожий спокойно наступил на упавшую девочку и пошел дальше, не обращая внимания на ее стоны. Слышать об этом одно, но действительная картина произвела на меня адское впечатление. Прохожий показался мне не человеком, а каким-то отвратительным чудовищем. Я закричал, схватил за ворот моего джентльмена и привел его обратно к месту происшествия, где вокруг стонавшего ребенка уже собралась толпа. Он был совершенно спокоен, не сопротивлялся и только взглянул на меня таким отталкивающим взглядом, что холодный пот покатился по моему лицу. Люди, окружавшие девочку, были ее родственниками; вскоре появился и доктор, за которым бежала бедная малютка. Ребенку было не особенно худо, он больше перепугался. Вы, вероятно, думаете, что этим дело и кончилось? Однако следует упомянуть об одном странном обстоятельстве. С первого взгляда мой джентльмен внушил мне отвращение. Был противен он и семейству девочки, что было вполне естественно. Но меня поразил доктор. Он походил на обыкновенного аптекаря; ни его лета, ни его наружность не заставляли обращать на него особенного внимания; говорил он с сильным эдинбургским акцентом и казался отзывчивым, как волынка. Слушайте же, сэр. Доктор Соубонс разделял всеобщие чувства и каждый раз, когда он взглядывал на моего пленника, то бледнел от желания убить его. Я понимал, что происходило в его уме, как он понимал, что творилось у меня в душе. Но так как об убийстве не могло быть и речи, мы поступили иначе: сказали моему джентльмену, что поднимем такой скандал, который опозорит его имя во всем Лондоне. Мы объявили ему, что если у него есть друзья и честное имя, он потеряет их после огласки истории. Говоря ему все это с большим жаром, мы в то же время старались не подпускать к нему женщин, потому что они были раздражены, как гарпии. Я никогда в жизни не видывал столько лиц, полных ненависти; и посреди их стоял странный человек с выражением какого-то мрачного, насмешливого спокойствия на лице. Я видел, что он испуган, что он скрывал свое чувство, точно сатана.
«Если вы хотите воспользоваться этим случаем и нажить капитал, – сказал он, – я, конечно, бессилен. Всякий порядочный человек избегает подобных историй. Скажите вашу цифру».
Ну-с, мы и назначили ему сто фунтов в пользу семьи ребенка; он, очевидно, хотел поторговаться, но в глазах многих из окружавших его людей светилась такая злоба, что он наконец согласился. Теперь следовало получить деньги. И куда бы, вы думали, он провел нас? К этому дому, к этой двери! Он вынул из кармана ключ, открыл им дверь, вошел в здание и сейчас же вернулся назад с десятью фунтами золота и чеком на банк Коутса, на подателя. Чек был подписан именем, которого я назвать не могу, хотя в этом-то и заключается одна из важнейших сторон моей истории. Следует только заметить, что это очень известное имя, часто повторяемое в печати. Мы назначили крупную сумму, но с такой подписью можно было получить гораздо больше. Я осмелился заметить незнакомцу, что дело походит на обман, что в обыкновенной жизни люди не входят в погреба в четыре часа утра и не возвращаются оттуда с чужими чеками. Однако он не смутился и насмешливо сказал:
«Будьте спокойны, я останусь с вами до открытия банка и сам получу деньги по чеку».
Итак, все мы: доктор, отец девочки, наш приятель и я сам, отправились ко мне и провели остаток ночи в моей квартире. Когда настало утро, мы позавтракали у меня и пошли в банк. Я сам подал чек и сказал, что имею все причины думать, что подпись подделана. Ничуть не бывало. Чек оказался настоящим.
– Эге!.. – произнес Утерсон.
– Я вижу, что вы разделяете мои тогдашние чувства, – сказал Энфильд. – Да, это скверная история; с таким дурным человеком, казалось бы, никто порядочный не мог иметь дела, а между тем личность, подписавшая чек, очень известна, даже знаменита, и, что еще хуже, принадлежит к числу людей, делающих добро. Предполагаю интригу, честный человек платит за какой-нибудь грех своей юности. Поэтому я называю этот глухой дом с дверью – домом интриг. Впрочем, даже это предположение не объясняет всего, – прибавил Энфильд и задумался.
Внезапный вопрос Утерсона вывел его из раздумья. Адвокат спросил:
– А вы знаете, живет ли здесь человек, принесший чек?
– Здесь? Нет, – возразил мистер Энфильд. – Но мне случилось узнать его адрес.
– И вы никогда не расспрашивали об этом доме с дверью? – спросил Утерсон.
– Нет, сэр, я деликатен; я остерегаюсь расспросов; расспросы слишком напоминают судебное разбирательство. Заданный вопрос – то же самое, что брошенный с горы камень. Вы спокойно сидите на вершине холма; камень катится вниз, сшибает другие камни; и вот какая-нибудь кроткая старая птица (о которой вы и не думали) убита в своем собственном саду, и ее семье приходится менять имя. Нет, сэр, вот какое у меня правило: чем страннее обстоятельства дела, тем меньше я спрашиваю.
– Очень хорошее правило, – заметил адвокат.
– Но я сам осматривал здание, – продолжал Энфильд. – Едва ли это жилой дом; в нем нет второй двери, и я не замечал, чтобы кто-нибудь входил в него, кроме моего незнакомца, да и он является не часто. В верхнем этаже три окна во двор, внизу ни одного; окна всегда заперты, но чисты. Затем, одна труба почти постоянно дымится, так что, вероятно, там кто-нибудь живет. Но я в этом не уверен, потому что все строения на этом дворе так скученны, что трудно сказать, где кончается одно и начинается другое.
Некоторое время друзья шли молча, наконец Утерсон сказал:
– Энфильд, ваше правило очень хорошо.
– Мне кажется, да, – ответил Энфильд.
– Тем не менее, – продолжал адвокат, – мне нужно задать вам один вопрос: я хотел бы знать имя господина, который наступил на ребенка.
– Что же, – сказал Энфильд, – я не вижу, чтобы это могло принести кому-нибудь вред. Его зовут мистер Хайд.
– Гм… – произнес Утерсон. – А каков он на вид?
– Его не легко описать. В наружности Хайда есть что-то нехорошее, что-то неприятное, что-то прямо отталкивающее. Я никогда на свете не видывал человека, который был бы мне противен до такой степени, но я с трудом могу сказать, почему именно. Вероятно, в Хайде есть какое-нибудь уродство; он производит впечатление урода, но определить, в чем заключается его безобразие, не могу. У него очень странная наружность, но я не в силах указать на ее особенности. Нет, сэр, невозможно, я не могу описать его. И это не вследствие недостатка памяти, потому что я так и вижу мистера Хайда!
Мистер Утерсон опять замолчал и некоторое время шел в глубоком раздумье.
– Вы уверены, что он открыл дверь ключом? – наконец спросил адвокат.
– Мой дорогой сэр… – начал Энфильд вне себя от изумления.
– Да, я знаю, – сказал Утерсон, – я знаю, мой вопрос должен казаться вам странным. Дело в том, что я не спрашиваю у вас другого имени, потому что уже знаю его. Вы видите, Ричард, ваша история сделала круг… Если вы были не педантично точны хоть в чем-нибудь, вам следует исправить эту неточность.
– Я думаю, вы могли бы предупредить меня, – сказал Энфильд с тенью обиды в голосе, – но я был педантично точен, выражаясь вашими словами. У этого человека был ключ, больше – этот ключ у него и до сих пор. Я видел, как неделю тому назад он открыл ключом таинственную дверь.
Утерсон тяжело вздохнул, но не вымолвил ни слова. Молодой человек произнес следующее заключение:
– Вот новое подтверждение правила ничего не говорить. Мне стыдно за свой длинный язык. Согласимся никогда более не возвращаться к этому предмету.
– Согласен от всего сердца, – сказал адвокат, – вот вам моя рука, Ричард.
Глава II
Поиски мистера Хайда
В этот вечер мистер Утерсон вернулся в свой холостой дом в очень мрачном настроении духа и сел обедать без удовольствия. Обычно по воскресеньям, после обеда, адвокат садился поближе к огню с томом какой-нибудь сухой материи на пюпитре и читал, пока часы соседней церкви не били двенадцати ударов; тогда он скромно ложился спать с благодарностью в душе. Но в этот вечер, едва с обеденного стола убрали скатерть, как Утерсон взял свечу и отправился в свой кабинет. Там он отпер несгораемый шкаф и из самого его потайного ящика вынул документ. На папке стояла надпись: «Завещание доктора Джекиля». С нахмуренным лицом адвокат принялся изучать содержание бумаги. Завещание было написано собственноручно Джекилем, потому что хотя Утерсон и принял его на хранение, но отказал в своей помощи при его составлении. В документе говорилось, что в случае смерти Генри Джекиля, доктора медицины, члена королевского общества, доктора юриспруденции и так далее, и так далее, все его имущество должно перейти в руки его «друга и благодетеля, мистера Хайда»; кроме того, там упоминалось, что в случае «исчезновения доктора Джекиля или его необъяснимого отсутствия в течение трех календарных месяцев», названный Эдуард Хайд должен вступить во владение имуществом названного Генри Джекиля без малейшего промедления; что Эдуард Хайд не повинен платить по каким бы то ни было обязательствам доктора Джекиля и только обязан выдать несколько небольших сумм слугам доктора. Этот документ уже давно служил предметом огорчения для мистера Утерсона. Он оскорблял его как адвоката и как приверженца здоровой, правильной жизни, для которого все фантастическое было несносным. Прежде его негодование увеличивалось оттого, что он не знал мистера Хайда, теперь он негодовал, узнав его. Плохо было, когда это имя представляло для адвоката один пустой звук, стало еще хуже с тех пор, как имя Хайда оделось в отталкивающие атрибуты, а через пелену тумана неизвестности вырисовывалось определенное предчувствие, которое говорило, что этот Хайд – существо адски злобное, враждебное.
– Я считал это завещание безумием, – сказал он себе, пряча оскорбительную бумагу в шкаф, – а теперь начинаю бояться, что оно позор.