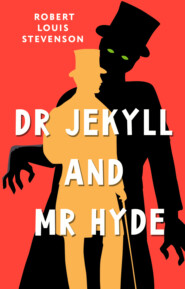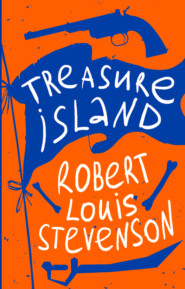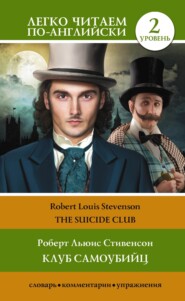По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
«Веселые ребята»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Глава III
Море и суша в Сэндэгской бухте
На другое утро я рано был на ногах и как только успел кое-чем закусить, сейчас же отправился на расследование. Что-то упорно говорило мне, что я непременно отыщу затонувшее судно Великой Армады, и хотя я старался не давать волю этим розовым надеждам и мечтам, все же я находился в прекраснейшем расположении духа, и, как говорится, был на седьмом небе. Арос очень дикий и скалистый островок, вся поверхность его усеяна громадными скалами, поросшими диким вереском и низким кустарником. Мой путь лежал с севера на юг через высшую точку острова, и хотя все расстояние не превышало двух миль, оно требовало больше времени и усилий, чем переход в четыре мили по ровному месту.
Добравшись до вершины, я остановился. Хотя высота была сравнительно незначительная, менее трехсот футов, как я полагал, все же она господствовала над всеми окрестными долинами Росса и открывала обширную панораму на море и острова. Солнце было уже довольно высоко и сильно жгло мне затылок, и воздух был неподвижен, как перед грозой, хотя и совершенно чист и прозрачен. Там, дальше к северо-западу, где острова лежали особенно густо и тесно друг к другу, целыми гроздьями, с полдюжины мелких обрывистых тучек, цепляясь одна за другую, растянулись караваном, а вершина Бэн-Кьоу на этот раз убралась не просто несколькими вымпелами, но окуталась целым капюшоном облаков. В погоде чуялось что-то угрожающее. Правда, море было спокойно, как зеркало, и даже Руст казался едва приметной трещиной на этом зеркале, а «Веселые Ребята» казались не более как клубами пены. Но для моего привычного глаза и уха, так давно сроднившегося с этими местами, море казалось неспокойным под этой гладью зеркальной, под этой словно спящей поверхностью, а едва уловимый всплеск прибоя, точно протяжный вздох, доносился ко мне. И как ни был спокоен на вид Руст, я чувствовал, что и он замышляет что-то недоброе; а надо сказать, что все мы, жители этих мест, приписывали этому опасному детищу морских прибоев если не роль непогрешимого оракула, то, во всяком случае, безошибочного предсказателя прихотей погоды.
Я поспешил вперед и вскоре спустился со склона Ароса к той части острова, которая здесь зовется Сэндэгской бухтой. По отношению к величине островка это довольно большая водная площадь, прекрасно защищенная от всех ветров, кроме преобладающего здесь ветра, дующего с моря. С западной стороны она мелководна и опоясана низкими и песчаными холмами, с восточной же она имеет значительную глубину, особенно там, где в нее отвесной стеной обрывается гряда высоких каменных утесов. Именно в это место при каждом приливе, когда он достигает известной стадии, ударяет то сильное течение из открытого моря в бухту, о котором упоминал дядя, а немного позднее, когда Руст начинает вздыматься выше, образуется еще более сильное нижнее течение в обратном направлении; именно оно, думается мне, и способствовало образованию в этом месте столь значительной глубины. Из Сэндэгской бухты не видно ничего, кроме незначительной части горизонта, а в непогоду ничего, кроме высоко вздымающихся зеленых валов, стремительно налетающих на подводные рифы.
Еще на половине спуска я увидел обломки судна, потерпевшего здесь крушение в феврале. Это был бриг весьма значительной величины и водоизмещения; он лежал с переломанным хребтом, высоко над водой, на песке, в самом дальнем восточном углу, среди песчаных холмов, на отмели. Туда я направил свои шаги, но почти на самом краю торфяного болота, граничащего с песками, мне бросилось в глаза небольшое пространство, расчищенное от папоротников и вереска, на котором возвышался продолговатой формы, напоминающий очертание человека, низенький холм, подобный тем, какие мы привыкли видеть на кладбищах. Я стоял как громом пораженный. Никто ни одним словом не обмолвился мне о каком-нибудь покойнике или о похоронах здесь, на острове. И Рори, и Мэри, и дядя равно умолчали об этом; ну, она-то, я в этом был уверен, сама ничего не знала, но тут у меня перед глазами было неопровержимое доказательство этого факта – могила! – и я невольно спрашивал себя, что за человек лежит здесь? И нервная дрожь обдавала меня холодком. Как попал он сюда и заснул вечным сном в этой одинокой могиле, где покинутый и забытый будет ждать призывного гласа трубы в день Страшного Суда?
И в уме своем я не находил другого ответа, кроме того, который страшил и пугал меня. Несомненно, он был потерпевший крушение, может быть, занесенный сюда, как и погибшие моряки Непобедимой Армады, из какой-нибудь дальней, богатой заморской страны, а быть может, и мой соплеменник, погибший здесь, у родного ему очага! Некоторое время я стоял с непокрытой головой над одинокой могилой и сожалел, что наша вера не учит нас возносить молитвы за несчастных, погибших вдали от родины, чужеземцев, или, по примеру древних народов, воздавать внешние почести умершим, прославлять их подвиги или оплакивать их горькую участь. Я знал, конечно, что хотя его прах и его кости лежат здесь, в земле Ароса, и будут здесь лежать, пока не прозвучит труба Суда Господня, – бессмертная душа его не здесь, а далеко отсюда: или в светлой обители покоя и вечного блаженства, или в стране мучений, в аду. Но воображение мое вселяло в меня тайный страх; мне чудилось, что, может быть, он здесь, стоит подле меня, на страже у своей безмолвной, одинокой могилы и не хочет расстаться с этим местом, где его настигла его злополучная судьба. Глубоко удрученный, отошел я от этой могилы, но потерпевшее крушение судно было едва ли менее печальным зрелищем, чем одинокая могила. Корма торчала высоко над водой, выше гребней прибоя; судно раскололось пополам, почти у самой передней мачты. Впрочем, мачт уже не было, обе они сломались во время крушения. Нос брига зарылся глубоко в песок, а в том месте, где судно раскололось, зияла, словно раскрытая пасть, громаднейшая щель, через которую можно было видеть всю внутреннюю часть судна от борта до борта. Название брига наполовину стерлось, и я не мог сказать наверное, звался ли он в честь столицы Норвегии «Christiania» или женским именем «Christiana». Судя по конструкции, это было иностранное судно, но какой именно страны, этого я определить не мог. Оно было окрашено зеленой краской, но теперь краска эта смылась, полиняла и лупилась пластами. Тут же рядом торчала мачта, наполовину зарывшаяся в песок. Все вместе представляло тяжелую картину. Я не мог видеть эти обрывки канатов, еще уцелевшие кое-где, остатки снастей, у которых год за годом работали смуглые, сильные руки матросов, раздавались их голоса, смех, шутки и брань; не мог глядеть на эти трапы, по которым постоянно сбегали и вбегали живые проворные люди, делая свое привычное дело; не мог смотреть на белую фигуру ангела с отбитым носом, украшавшую переднюю часть брига, еще так недавно рассекавшую бурные, грозные волны, а теперь неподвижную, точно застывшую на века.
Не знаю, впечатление ли от погибшего судна, или от одинокой могилы настроило меня так странно, но только стоя здесь и опираясь на кучу разбитых досок, я невольно поддался чувству безотчетной, тихой грусти и мучительных сомнений, не знакомых мне до сих пор. Я болезненно живо почувствовал бездомность и беспомощность людей и даже таких неодушевленных предметов, как суда, когда они окажутся выброшенными на чужой им берег, и мне казалось, что извлечь пользу из такого несчастья неблагородно, что это недостойный поступок. И мои поиски затонувшего испанского судна показались мне теперь чем-то святотатственным. Но когда я вспомнил о Мэри, я снова осмелел. Дядя никогда не согласился бы на ее неразумный брак с человеком, не могущим обеспечить его дочь, – а она, я в том был уверен, никогда не решится на брак без его согласия. И тогда я уверил себя, что делаю это только ради Мэри, моей будущей жены, и невольно рассмеялся над своими тревогами и сомнениями при мысли, сколько времени прошло с тех пор, как плавучий чертог «Espiritu Santo» сложил свои кости на дне Сэндэгской бухты, и каким малодушием с моей стороны было бы считаться с правами собственности, столь давно пропустившими все законные сроки, и вспоминать о несчастье, давно позабытом и потонувшем во мгле веков.
Относительно того, где мне следует искать затонувший корабль Непобедимой Армады, у меня сложился совершенно определенный план.
И все течения, и сама глубина указывали на то, что если «Espiritu Santo» погиб в Сэндэгской бухте и если от него еще что-нибудь уцелело, то искать его надо в восточной части бухты под скалистыми утесами. Вода здесь очень глубока, и даже непосредственно под скалой глубина достигает нескольких сажен. Стоя на краю скалы, я мог видеть на большом протяжении песчаное дно бухты; солнце светило ярко и проникало глубоко в зеленые прозрачные воды залива, придавая ему вид громадного кристалла зеленого хрусталя, прозрачного и светлого; ничто не напоминало о том, что это вода, кроме легкого дрожания и колебания света и теней где-то в глубине, да еще появлявшихся время от времени морщинок и пузырьков у самых краев. Тень от скал ложилась довольно далеко, от самого подножья утесов, а моя собственная тень, двигавшаяся и останавливавшаяся на вершине скал, достигала иногда до половины ширины бухты. Как раз именно в этом поясе тени я рассчитывал найти «Espiritu Santo», потому что именно в этом месте нижнее течение было особенно сильно. Вода в бухте всегда казалась холодной, особенно в этот знойный палящий день, но в этом месте она была еще холодней и манила глаз какой-то странной таинственностью. Однако как я ни вглядывался в ее таинственную глубину и как ни прозрачна была здесь вода, я не видел ничего, кроме рыб и кустов водорослей, да там и сям каменных глыб, оторвавшихся от скалы, упавших в воду и лежащих теперь одиноко на песчаном дне бухты. Дважды я прошел из конца в конец по всему краю утесов, и на всем этом протяжении мне не удалось увидеть ничего похожего на затонувшее судно, ни даже такого места, где можно было бы предположить его присутствие, кроме только, пожалуй, одного. Это место была большая ровная терраса на пяти саженях глубины, подымавшаяся на весьма значительную вышину над уровнем песчаного дна и казавшаяся сверху просто большим подводным выступом скалы, той самой, на которой я стоял. Он представлял собой одну сплошную массу морских трав и водорослей, настоящую подводную рощу, что и мешало мне определить истинный характер этой террасы; но по виду и размерам она имела некоторое сходство с корпусом корабля. Во всяком случае, это был единственный мой шанс. Если «Espiritu Santo» не лежал здесь, то его не было нигде в Сэндэгской бухте, и потому я решил испытать свое счастье раз навсегда и либо вернуться в Арос богатым человеком, либо навеки отказаться от всяких мечтаний о богатстве.
Я разделся донага и стал на край утеса, сложив руки, но не решался. Бухта была в этот момент совершенно спокойна. Кругом ни звука, кроме плеска дельфинов где-то вдали за мысом. Но тем не менее какой-то безотчетный страх удерживал меня в решительный момент. Боязнь воды, всякие суеверия, мысли об умершем, что лежит в той могиле, о потерпевших крушение судах, – все это беспорядочной вереницей проносилось у меня в голове. Но палящее солнце жгло так сильно мои плечи, что согрело даже и мое оледеневшее сердце; собравшись с духом, я подался вперед и бросился в воду.
Нырнув, я очутился на упомянутой площадке и поспешил ухватиться за попавшуюся мне под руку водоросль; эта подводная площадка так густо поросла всякой морской травой, что в следующий же момент я уже ухватился обеими руками за эти скользкие, облепленные морской тиной травы, стараясь с их помощью удержаться на глубине, и упираясь в то же время ногами в край площадки, оглянулся вокруг. Во все стороны, сколько мог охватить глаз, раскинулся один желтый песок вплоть до самого подножья утесов, чистый, ровный, как песок на садовых дорожках, благодаря постоянным приливам и отливам, обмывающим его, и солнце, освещавшее все дно, освещало всюду все только песок, и ничего больше. Только одна эта подводная площадка, на которой я с трудом удерживался, была так же густо покрыта всякими водяными травами, как наше торфяное болото вереском, и подводная часть утеса, выступом которого мне представлялась эта площадка, была увита сплошной сетью темных, коричневых лиан. Вся эта густая растительность до того перепуталась и сплелась между собой и к тому же все время колыхалась под напором течения, что тут трудно было различить что-нибудь. Я все еще не мог решить, упираюсь ли я ногами в природную скалу, или стою на дощатой обшивке корабля Непобедимой Армады, когда весь куст водорослей остался вдруг у меня в руках, и в один момент я всплыл на поверхность. Весь берег бухты и сверкающая на солнце вода ослепили меня страшной яркостью своих красок.
Я выбрался на скалу и кинул оставшийся у меня в руке пучок водорослей к своим ногам. При этом что-то резко звякнуло о камень, словно упавшая монета. Я нагнулся и увидел всю покрытую ржавчиной стальную пряжку с башмака. Вид этой жалкой дешевенькой пряжки глубоко потряс меня; но не надежда загорелась при этом в моем сердце, не чувство страха проснулось в нем, а какая-то безотчетная грусть. Я держал ее в руках, и мысль о владельце этой пряжки предстала мне в образе живого человека. Я видел его перед собой, этого смуглого загорелого моряка с его сильными, грубыми руками, несколько сиплым, как у большинства моряков, голосом, видел эту самую ногу, на которой некогда красовалась эта пряжка, ногу, столько раз ступавшую по доскам палубы при качке и в бурю. И весь этот человек как живой стоял тут, подле меня, такой же, как я сам, с такими же волосами, теплой живой кровью и блестящими глазами, отнюдь не как призрак, а скорее как друг, которого я жестоко обидел. Он стоял тут в ясный солнечный день, на этой одинокой скале и как будто ласково упрекал меня. Неужели же гордый корабль, везший громадные сокровища, лежит здесь, у моих ног, со всеми его орудиями, якорями, цепями и богатствами, словом, такой, каким он покинул Испанию? Только палубы его превратились теперь в рощи водорослей, а в каютах его рыбы мечут икру. Все безмолвно кругом, только плещет вода, неподвижно лежат все сокровища, только там, наверху морские травы плавно качает прилив. И весь этот плавучий чертог с многолюдным его населением превратился теперь в подводный риф прекрасной Сэндэгской бухты! Или же, – и это мне казалось вероятнее, – эту пряжку сюда занесло с иностранного брига, потерпевшего здесь крушение в феврале, и купил ее только недавно и носил мой современник, живший теми же современными интересами, как и я, слышавший изо дня в день те же новости, что и я, думавший, может быть, те же думы, что и я, и, быть может, молившийся в том же храме, где я!.. Тяжелые мысли одолели меня, и слова дяди: «Там густо лежат мертвецы, словно водоросли» – звучали у меня в ушах. Я решил еще раз нырнуть под воду, но с громадным отвращением подошел к краю утеса.
Удивительная перемена произошла в этот момент в картине тихой бухты. Это уже не было более то светлое прозрачное подводное царство, тот хрустальный дворец под стеклянной крышей, в зеленых глубинах которого так весело и спокойно дремали солнечные лучи; внезапно налетевший ветерок подернул легкой рябью зеркальную поверхность бухты, глубь ее всколыхнулась и потемнела, проблески света и тени облаков боролись между собой на воде. Даже сама площадка выступа там, в глубине, как будто дрожала и колыхалась. Теперь мне казалось более опасным рисковать собой в этом предательском месте, и на этот раз я прыгнул в воду с сильно дрогнувшим сердцем.
Как и в первый раз, я ухватился за колыхавшиеся стебли водорослей и стал шарить кругом. Все попадавшееся мне под руку было холодное, скользкое, мягкое. Чаща эта кишела крабами, морскими раками, ползавшими боком взад и вперед, и я скрепя сердце преодолевал чувство гадливости и отвращения от соседства этих гадин. Везде и всюду я ощущал неровности и трещины твердого, холодного камня, но нигде ни досок, ни железа, ни малейших признаков остова корабля. Очевидно, «Espiritu Santo» здесь не было. И при этом я испытал даже какое-то чувство облегчения, несмотря на мое разочарование, и собрался уже выпустить из рук водоросли, служившие мне причалом, как вдруг случилось нечто, что заставило меня мгновенно всплыть на поверхность, не помня себя от ужаса. Я и так уже слишком долго задержался под водой; течение усилилось, вода делалась холодной с переменой прилива, и Сэндэгская бухта становилась ненадежным местом для любого пловца. Но вот в самый последний момент течение хлынуло с удивительной силой, словно вал налетел, и напором воды повалил водоросли и меня; выпустив при падении водоросли, которые удерживали меня, я инстинктивно стал искать опоры и в этот момент почувствовал в своей руке что-то твердое и холодное. Мне кажется, что я в тот же момент угадал, что это было. Во всяком случае я тотчас же выпустил водоросли и поднялся наверх, а секунду спустя стоял уже на уступе скалы с берцовой костью человека в руке. Человек существо слишком материальное, мысль медленно вращается в его мозгу и еще медленнее сопоставляет факты. Могила там внизу, на песках, разбившееся судно, наконец, эта пряжка, все это, несомненно, ясные показатели того, что здесь когда-то разыгралась ужасная человеческая драма. Дитя могло бы догадаться об этом, и тем не менее я тогда лишь понял весь ужас хищного моря, когда у меня очутилась в руке человеческая кость. Я положил ее подле пряжки на скалу, подобрал свое платье и побежал, как был, вдоль гряды скал к нашему жилищу. Мне казалось, что я не мог уйти достаточно далеко от этих мест; никакие богатства не могли теперь заставить меня повторить мою попытку. Отныне кости утопленников-мертвецов могли спокойно лежать среди водорослей или груды золота и камней. И едва я вступил на мягкую почву торфяного болота и прикрыл свою наготу, как упал на колени, лицом к разбитому бригу, и от всей души долго и горячо молился о всех плавающих по морям и погибших в их коварных волнах. Такая бескорыстная молитва никогда не пропадает даром; если даже она не будет услышана, все ровно, молящийся все же будет награжден снисшедшей на него благодатью. И я тоже почувствовал себя умиротворенным, чувство ужаса не преследовало меня, и я мог снова с полным душевным спокойствием смотреть на это великое и прекрасное творение Божье, на искрившийся на солнце безбрежный океан. Когда я двинулся дальше вверх по крутому подъему Ароса, от моих прежних мучительных дум и тревог не осталось ничего, кроме твердой решимости не иметь больше никакого дела с добычей с потерпевших крушение судов или богатством утонувших людей. Я поднялся уже довольно высоко, остановился, чтобы перевести дух и оглянуться назад. Зрелище, представившееся теперь моим глазам, было вдвойне странно. Во-первых, шторм, приближение которого я предвидел, приближался с невероятной, почти тропической быстротой; все море потемнело и вместо подозрительно сверкавшей на солнце прозрачной зеленой поверхности представляло собой безобразную буро-свинцовую бородавчатую пелену. Там, вдали, уже забегали белые зайчики, которых гнало ветром вперед; хотя на Аросе ветер этот еще не чувствовался, но до слуха моего уже доносился прибой, разыгравшийся у берегов Сэндэгской бухты и разбивавшийся там под скалистой стеной. Еще более разительна была перемена на небе: там с юго-запада подымалась громадная сплоченная масса тяжелых грозовых туч; в просветы, остававшиеся еще между ними, солнце еще пропускало свои ослепительно яркие, горячие лучи. Там и сям по краям тучи раскинулись по небу длинные черные полосы, точно вымпелы, покрывая темными пятнами все еще чистое и безоблачное небо. Вид его был угрожающий, и в тот момент, когда я стоял и смотрел на него, солнце вдруг разом точно погасло, словно черная туча поглотила его. С минуты на минуту должна была разразиться гроза над Аросом. Быстрота и внезапность этой перемены до такой степени приковали мое внимание к небесному своду, что я не сразу снова перевел свой взгляд на залив, расстилавшийся у моих ног и лишенный теперь солнечного освещения. Пригорок, на который я только что взобрался, возвышался над небольшим амфитеатром более низких холмов, спускавшихся постепенно к морю, а несколько ниже желтели полукругом прибрежные пески, окаймлявшие берег Сэндэгской бухты. Все это я видел много-много раз, но никогда я не видел здесь ни одной живой человеческой души. Я только что сам ушел оттуда, и кроме меня там не было никого; а теперь, к превеликому моему удивлению, я увидел лодку и нескольких человек среди этой пустыни. Лодка была причалена у скалы, два человека с непокрытыми головами, с засученными рукавами, и третий, вооруженный багром, с трудом удерживали лодку у берега, так как течение усиливалось с каждой минутой. На некотором расстоянии от лодки, на выступе скалы, двое мужчин в черном, на мой взгляд, принадлежавшие к более высокому общественному классу, склонялись оба над какой-то работой, которой я не мог определить в первый момент, но в следующий я уже догадался: они делали вычисления по компасу. Затем я увидел, как один из них развернул большой лист бумаги и стал указывать на нем что-то пальцем, как бы сверяя по карте или плану местоположение. Тем временем третий их товарищ расхаживал взад и вперед по краю скалы, останавливаясь и как бы знакомясь с ее характером и время от времени нагибаясь вперед, чтобы заглянуть в воду под скалой. И вот, в то время как я наблюдал их с нескрываемым удивлением, едва веря своим глазам, этот третий вдруг остановился как вкопанный и крикнул своих товарищей так громко, что звук его голоса долетел до меня, стоявшего высоко на горе. Двое остальных поспешно подбежали к нему, уронив свой компас, и я увидел, что оставленная мной человеческая кость и ржавая пряжка стали переходить из рук в руки, вызывая необычайно оживленную жестикуляцию, служившую, очевидно, выражением живейшего интереса и удивления со стороны этих людей.
В этот момент матросы, находившиеся в лодке, стали кричать что-то, указывая на запад, на ту огромную сплоченную группу облаков, быстро разраставшуюся и застилавшую черной пеленой целую половину неба.
Те, что были на берегу, стали, по-видимому, совещаться; однако опасность была слишком очевидна, чтобы мешкать долее, – все трое поспешили сесть в лодку, забрав с собой мои реликвии, после чего лодка под дружным усилием привычных гребцов быстро пошла к выходу из бухты.
Я не стал более раздумывать над тем, что видел, а повернулся и со всех ног бросился бежать по направлению к дому. Кто бы ни были эти люди, во всяком случае, дяде необходимо было тотчас же дать знать об этом. Возможно было, что это был десант якобитов, и быть может, один из трех пассажиров был тот самый принц Чарли, которого, как мне хорошо было известно, так ненавидел мой дядя, – тот, который прогуливался там на выступе скалы. Однако в то время, как я бежал, перепрыгивая с камня на камень, с бугра на бугор, и все время обсуждая в уме все случившееся, а все больше и больше убеждался в неправдоподобности и неудовлетворительности этого моего первого предположения. Компас, карта или план, интерес, вызванный в них моими находками, и вообще все поведение этих незнакомцев, особенно того из них, который только раз с напряженным вниманием смотрел с выступа скалы в воду, – все это наводило меня на мысль об иных причинах их присутствия в этой бухте, на этом затерянном среди моря безвестном острове.
Историк из Мадрида, расследования доктора Робертсона, бородатый незнакомец, уже побывавший здесь, человек с множеством золотых перстней, наконец, мои личные бесплодные поиски сегодня утром в этой самой Сэндэгской бухте, все это одно за другим приходило мне на память и рождало во мне уверенность в том, что эти незнакомцы, должно быть, испанцы, явившиеся сюда для розысков затонувшего здесь судна Великой Непобедимой Армады и находившихся на нем сокровищ. Но люди, живущие на таких отдаленных островах, предоставлены самим себе в отношении своей безопасности; им негде искать себе не только защиты, но даже и помощи, а потому присутствие в таком месте, как Арос, экипажа, состоящего из чужеземцев-авантюристов, вероятно, алчных, безденежных и не признающих никаких прав и законов, невольно вызвало во мне опасение за достояние моего дяди и даже за безопасность его дочери.
Продолжая обдумывать, как бы нам избавиться от этих людей, я, едва переводя дух, добежал до вершины Ароса. Теперь уже все кругом заволокли тучи, и только на самом краю горизонта, в восточной его части, на одном из холмов на материке держался еще последний луч солнца, светившийся в окружающем полумраке, как драгоценный яхонт; дождь начал накрапывать, не частый, но большими тяжелыми каплями; на море волны ходили высокие; с каждой минутой они вздымались все выше и выше, и белая пена сплошной каймой опоясывала уже Арос и ближайший к ней берег Гризаполя. Лодка с незнакомцами все еще продолжала уходить в открытое море, и теперь я увидел то, что раньше было скрыто от моих глаз, – большую, тяжело оснащенную шхуну, лежащую в дрейфе у южной оконечности Ароса. Так как я не видел ее сегодня поутру, когда я так внимательно исследовал горизонт, наблюдая погоду, а в этих водах, где так редко появляется парус, я не заметить его не мог, – то было ясно, что шхуна пришла сюда еще с ночи и всю ночь простояла за необитаемым маленьким островком Эйлиан-Гоур. Уже это одно доказывало, что экипаж этого судна был чужеземный, совершенно незнакомый с этими берегами, потому что эта стоянка, хотя на вид и довольно благоприятная и удобная, на самом деле являлась настоящей западней для судов. С таким несведующим экипажем, у этих опасных и коварных берегов, приближавшаяся буря грозила принести на крылах своих гибель и смерть.
Глава IV
Буря
Я застал дядю на верхушке крыши дома, где он с подзорной трубой в руках наблюдал погоду.
– Дядя, – сказал я, – там, в Сэндэгской бухте, были люди на берегу, я…
Но я не мог продолжать дальше, все разом выскочило у меня из головы, до того поразило меня впечатление, произведенное на дядю моими словами. Он выронил из рук свою трубу и отшатнулся назад с отвисшей челюстью, вытаращенными глазами и побледневшим как полотно лицом. С минуту мы молча глядели друг на друга, наконец он вместо ответа спросил:
– На нем была мохнатая шапка?
Теперь я знаю так же хорошо, как если бы я его видел своими глазами, что человек, который лежал там, в могиле у Сэндэгской бухты, имел на голове мохнатую шапку и добрался до берега живым. И в первый и единственный раз в моей жизни я почувствовал себя беспощадным к этому человеку, обласкавшему и приютившему меня у своего очага, к отцу девушки, которую я надеялся назвать своей женой.
– То были живые люди, – сказал я, – быть может, якобиты, быть может, французы, а может, и пираты или авантюристы, явившиеся сюда искать сокровищ испанского судна. Но кто бы они ни были, они могут быть опасными для вашей дочери и моей кузины. Что же касается ваших преступных деяний и страхов, то знайте, что мертвец спит спокойно в своей могиле, в которую вы зарыли его, и не встанет, пока не прозвучит труба Страшного Суда. Я сегодня был там и стоял над его могилой.
Пока я говорил, старик смотрел на меня, моргая глазами; затем он опустил их и стал ломать пальцы. Ясно было, что говорить он не был в состоянии.
– Пойдемте, – сказал я, – вы должны теперь подумать и о других, вы должны пойти за мной туда, на гору, и взглянуть на судно.
Он молча повиновался, не протестуя ни единым жестом. Он медленно плелся за мной, с трудом поспевая за моими торопливыми шагами; очевидно, он совершенно утратил способность легко и быстро двигаться; он тяжело и с трудом взбирался и спускался с каждого пригорка или валуна вместо того, чтобы перепрыгивать с одного камня или валуна на другой, как он имел привычку это делать. Все мои понукания и окрики оставались бессильными против его апатии и не могли заставить его поторапливаться. Только раз он жалобно отозвался, как человек, страдающий физически: «Ну, ну, человече, иду!..» Еще задолго до того, как мы добрались до вершины, я уже не испытывал ничего, кроме беспредельной жалости, к этому человеку. Если преступление его было чудовищно, то и наказание его было не менее ужасно.
Наконец мы достигли вершины горы и могли окинуть взглядом громадное пространство; все кругом потемнело: черное грозовое небо нависло над землей и над морем, последний луч солнца угас. Поднялся ветер, не особенно сильный пока, но коварный, порывистый и изменчивый; дождь между тем перестал. Несмотря на то, что прошло так немного времени с тех пор, как я в последний раз стоял здесь, море сильно расходилось за это время, громадные косматые волны и валы разбивались уже с шумом о подводные рифы, лежащие вне бухты, и море стонало и громко рокотало в подводных пещерах Ароса. В первый момент я тщетно искал глазами шхуну.
– А, вот она! – сказал я, указывая дяде на шхуну.
Меня поразило, что я увидел судно на этом месте, и еще больше поразил меня тот курс, который оно держало. – Не может быть, чтобы они думали выйти в открытое море, – невольно воскликнул я.
– Именно это они рассчитывают сделать, – сказал дядя, и в голосе его слышалось что-то похожее на скрытую радость.
В этот самый момент шхуна повернула на другой галс, после чего их намерение стало настолько ясно, что не подлежало ни малейшему сомнению. Эти чужеземцы, видя приближение бури, прежде всего решили уйти в открытое море, на широкий морской простор, но при угрожавшем им ветре, в этих усеянных подводными рифами водах и при страшной силе течения и прибоя, их курс вел прямо к смерти и гибели.
– Ах, Боже мой! Ведь они погибнут! – воскликнул я.
– Да, да… Все, все погибнут, – подтвердил дядя. – У них только одно спасение: идти к Кайль Дона, а через эти проклятые ворота им не пройти. Сам черт не проведет их здесь, будь он у них за лоцмана! Да, человече, – добавил он, дотрагиваясь до моего рукава, – славная эта ночь для кораблекрушения!.. Целых два крушения за один год!.. Да, весело попляшут сегодня наши «Веселые Ребята!»
– Если бы не поздно, – воскликнул я возмущенный, – я бы сел в лодку и поехал их предостеречь!
– Нет, нет, человече, – запротестовал дядя, – ты не должен вступаться, не должен вмешиваться в такие дела, нет, нет… На то Его Святая воля!.. – И он набожно снял шапку. – А ночь-то какая чудесная для такого случая!..
Нечто похожее на страх стало закрадываться мне в душу; я напомнил дяде, что я еще не обедал, и предложил ему вернуться домой. Но нет, ничто не могло заставить его оторваться от этого зрелища, которым он положительно упивался.
– Я должен видеть все, все до конца, понимаешь ты, Чарли? – старался он мне втолковать. – А, смотри, ведь они славно там управляются! – вдруг воскликнул он, видя, что шхуна снова повернула на другой галс. – «Christ-Anna» и сравниться с ними не могла…
Вероятно, люди на судне начали понимать грозившую им опасность, не в полном ее объеме, конечно, но все же достаточно для того, чтобы всячески стараться спасти свое обреченное на гибель судно. При каждом новом порыве капризного ветра люди на судне убеждались, с какой невероятной силой их снова относило назад течением. Они спешили убирать паруса, видя, что они мало им помогают, а громадные валы вздымались все выше и выше и пенились над подводными рифами справа и слева. Все снова и снова громадный бурун рассыпался под самым носом шхуны, обнажая на мгновение темный риф и мокрые водоросли, повисшие на нем. Люди работали, не покладая рук; всем было вдоволь работы на судне, видит Бог! И этим-то зрелищем отчаянной борьбы людей за жизнь, зрелищем, леденившим душу каждому одаренному человеческим сердцем существу, – дядя мой наслаждался и смаковал все эти страшные перипетии человеческой драмы с видом знатока. Когда я обернулся, спускаясь с горы, я увидел его лежащим на животе, с вытянутыми вперед руками, с жадно устремленным вперед взором; он казался ожившим и помолодевшим и телом, и духом.
Вернувшись домой в тяжелом угнетенном состоянии, я почувствовал себя еще более опечаленным при виде Мэри. Засучив рукава, она спокойно месила своими сильными руками тесто для хлебов. Взяв с буфета большую овсяную лепешку, я сел и стал молча есть ее.
– Ты, видно, утомился, парень? – спросила Мэри немного погодя.
– Я не столько утомился, Мэри, – ответил я, вставая, – сколько меня томит проволочка, а быть может, и само пребывание на Аросе. Ты знаешь меня достаточно хорошо, чтобы безошибочно судить обо мне: ты знаешь, чего я хочу. Но во всяком случае знай, что тебе лучше быть где угодно, только не здесь.
– Я знаю только одно, – возразила она, – что буду там, где мне повелевает быть мой долг.
– Ты забываешь, что у тебя есть долг и к самой себе, – заметил я.
– Ах, Чарли, уж не в Библии ли ты это вычитал? – спросила она, продолжая месить руками тесто.
– Послушай, Мэри, ты не должна теперь шутить со мной, – сказал я почти торжественно. – Видит Бог, я сейчас не в настроении смеяться. Слушай, что я тебе скажу. Если нам удастся уговорить твоего отца, это было бы, конечно, всего лучше, но с ним ли, или без него, я хочу видеть тебя далеко отсюда, дитя мое; пойми, что и ради тебя самой, и ради меня, а также ради твоего отца, хочу, чтобы ты была далеко-далеко отсюда. Я приехал сюда с совершенно другими намерениями; я приехал сюда, как человек едет домой к себе, в свой родной дом. Но теперь все изменилось, теперь у меня только одно желание, одна мечта, одна надежда, это бежать отсюда! Именно бежать, бежать с этого проклятого острова.