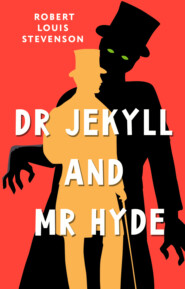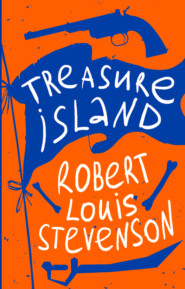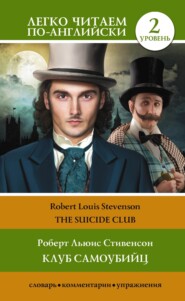По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
«Веселые ребята»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мэри прервала свою работу и смотрела на меня.
– Что же ты думаешь, – сказала она, когда я закончил, – что у меня нет глаз, нет ушей? Неужели ты думаешь, что сердце мое не разрывается от присутствия в доме всей этой «бронзы», – как он ее называет, прости его Господи! – которую я хотела бы выбросить в море? Или ты думаешь, что я жила здесь все время день за днем с ним и не видела того, что ты увидел в несколько часов? Нет, Чарли, – продолжала она – я знаю, что у нас что-то неладно, что есть тут какой-то грех. Какой именно и в чем он, я не знаю; я не знаю, да и не хочу знать. Не хочу, потому что никогда еще дурное дело не было исправлено тем, что другие люди вмешивались в него; по крайней мере, я никогда не слыхала об этом; но вот, что я скажу тебе, друг, – не требуй от меня никогда, чтобы я оставила отца! Пока он жив, пока он дышит, я останусь подле него. Он не жилец на этом свете, – недолго он протянет, это я тебе говорю. Помни мое слово, Чарли, недолго он будет с нами; я вижу печать смерти на его челе, – и быть может, это и к лучшему.
Я некоторое время молчал, не зная что сказать, а когда я поднял голову, чтобы ответить ей, она встала и с некоторой торжественностью произнесла:
– Чарли, то, что повелевает мне мой долг, не может быть обязательным для тебя; то, с чем должна мириться я, с тем ты не должен мириться. Над этим домом тяготеет грех, и несчастье носится над ним, но ты посторонний человек; забирай свое добро и уходи отсюда, уходи в иные, лучшие места, к другим, лучшим людям; но если бы тебе когда-нибудь вздумалось вернуться сюда, хотя бы через двадцать лет, ты все равно найдешь меня той же; я всегда буду ждать тебя.
– Мэри Эллен! – воскликнул я. – Я просил тебя быть моей женой, и ты почти сказала мне да, так оно и будет! И где ты будешь, там буду и я; а за все остальное я отвечу Богу.
Когда я это сказал, сильный шквал с бешенством пронесся в воздухе и как будто замер и, притаившись, дрожал вокруг дома у Ароса. Это был первый шквал, предвестник надвигавшегося шторма. Мы вскочили и осмотрелись; кругом все потемнело, точно на землю спустились сумерки ночи.
– Сжалься, Господи, над всеми несчастными, кто теперь в море! – сказала Мэри. – Мы теперь не увидим отца до завтрашнего утра, – добавила она со вздохом, и затем рассказала мне о том, как произошла с дядей эта перемена.
Всю прошлую зиму он был мрачен, раздражителен и всякий раз, когда Руст бушевал, или, как выражалась Мзри, «Веселые Ребята» принимались плясать свою адскую пляску, он целыми часами лежал на мысе или на вышке дома, если это было ночью, или же на вершине Ароса, если дело было днем, и следил за прибоем, пожирая глазами горизонт, высматривая, не покажется ли где-нибудь парус. После десятого февраля, когда судно, обогатившее их всяким добром, было выброшено на берег в Сэндэгской бухте, он был первое время необычайно весел и возбужден; и возбуждение его с тех пор отнюдь не падало, а только видоизменялось, становясь все более и более мрачным. Он сам ничего не делал и постоянно отрывал Мэри от работы. Они вместе с Рори забирались на крышу дома, где вышка, и там беседовали целыми часами, вполголоса, почти шепотом, и так таинственно, что их можно было бы заподозрить даже в чем-нибудь преступном. И когда она спрашивала того или другого, что она вначале иногда делала, то оба они как-то конфузились и старались отделаться от ее расспросов с видимым замешательством. С того времени, как Рори впервые заметил рыбу, следовавшую неизменно за лодкой, хозяин его, то есть дядя, только один-единственный раз был на мысе Росс, и это было в разгар весны; он перешел пролив вброд во время отлива, но замешкавшись дольше, чем он рассчитывал, на той стороне, он оказался отрезанным от Ароса, так как с приливом вода в проливе поднялась. С диким криком ужаса перескочил он через пролив и добежал до дома, трясясь от страха как в лихорадке. С того времени какой-то непреодолимый ужас перед морем неотступно преследует его, неотвязчивая мысль о море, об ужасах моря не покидает его ни на минуту, и даже когда он молчит, этот страх читается у него в глазах.
К ужину пришел только один Рори, но немного позднее явился и дядя. Он взял под мышку бутылку коньяка и краюшку хлеба в карман, и снова побежал на свой обсервационный пункт, на этот раз в сопровождении Рори. Из их разговора я узнал, что шхуна постепенно подается вперед, – но что экипаж все еще продолжает бороться против беспощадной стихии, оспаривая у нее каждый дюйм с безнадежным упорством и геройским мужеством. И это привело меня в еще большее уныние. Самые черные мысли преследовали меня.
Вскоре после заката буря разразилась во всей своей бешеной силе; такой страшной бури я еще не видывал летом, а судя по тому, с какой быстротой она надвигалась, даже и зимой я ничего подобного не видал. Мэри и я, мы сидели молча, прислушиваясь, как скрипел и трещал над нами дом, как кругом завывала буря, а капли дождя, попадая через трубу камина на огонь в очаге, зловеще шипели на горячих углях. Мысли наши были далеко, с теми несчастными, там, на море, или с моим не менее несчастным дядей, мокнувшим и дрогнувшим на узком выступе скалы. Но каждый новый порыв бури, каждый новый налетевший шквал пробуждал нас к действительности, заставлял вздрагивать и прислушиваться, как стонали, словно живой человек, стропила дома, как ветер с воем врывался в трубу камина, высоко вздувал в нем пламя и вдруг разом замирал. И сердца наши бились шибче и тревожней. А вновь налетевший шквал то подхватывал со всех четырех углов крышу и, казалось, был готов сорвать ее, и ревел, как разъяренный Левиафан, то внезапно стихал, и, жалобно завывая, как будто баюкая кого-то, врывался в комнату и наполнял ее своим холодным, влажным дыханием, вызывая в нас дрожь и заставляя волосы наши дыбом подыматься на голове в тот момент, когда проносился между мной и Мэри, сидевшими друг подле друга у очага.
И опять ветер принимался жалобно и уныло завывать в трубе, под окном и вокруг дома и протяжно выл и рыдал тихими жалобными звуками флейты, похожими на вопли и стоны людей.
Было, вероятно, около восьми часов вечера, когда Рори вошел в кухню и с порога таинственно поманил меня к двери. Видно, дядя на этот раз напугал даже и своего неизменного товарища, и Рори, встревоженный его странным поведением, позвал меня и просил, чтобы я пошел вместе с ним сторожить дядю. Я поспешил исполнить его желание с тем большей готовностью и охотой, что и сам я, под давлением безотчетного страха и чувства леденящего ужаса, в этой наэлектризованной грозовой атмосфере испытывал непреодолимую потребность действовать и двигаться. Мое беспокойное, душевное состояние побуждало меня идти и предпринять что бы то ни было, лишь бы только не сидеть здесь в томительном бездействии, прислушиваясь к вою бури. Сказав Мэри, чтобы она ни о чем не тревожилась, так как я обещаю ей оберегать ее отца, я укутался потеплее пледом и последовал за Рори.
Несмотря на то, что стояла середина лета, ночь была темная, как в январе. Моменты густых сумерек чередовались с минутами полнейшего мрака, и не было никакой возможности проследить причину этих быстрых перемен по несущимся по небу облакам. От сильного ветра захватывало дух; в глазах рябило; все небо и вся атмосфера кругом содрогались от страшных ударов грома; казалось, будто гигантский черный парус развернулся и бился у вас над головой, а когда ветер над Аросом на мгновение стихал, было слышно, как он жалобно и зловеще завывал в отдалении. И над всеми долинами и равнинами Росса ветер гулял так же свободно, как и в открытом море. Одному только Богу известно, что за ужасы творились там, вокруг вершины мрачного великана Бэн-Кьоу. Клочья морской пены и брызги дождя били нам в лицо. Вокруг всего Ароса прибой с непрерывным ревом и стоном неистово бился о прибрежные скалы, опережая свирепые буруны, стремительно налетавшие на подводные рифы и с громом рассыпавшиеся вокруг них, или перекатывавшиеся и перескакивавшие через них. И шум волн слышался то громче в одном месте, то тише в другом, точно то был оркестр, играющий в унисон, а над всем этим морем звуков, то грозных, то жалобных, покрывая их все своим могучим хором, слышались изменчивые голоса Руста и перемежающийся шум и рев «Веселых Ребят». В этот момент мне вдруг стало понятно, почему эти буруны получили странное название «Веселых Ребят». Их шум казался почти радостным, когда он покрывал и рев бури, и стоны прибоя, и вой и гудение волн, и завывание ветра в эту страшную ночь. Да, только они одни, можно сказать, весело шумели, шумели громче всего, и как бы ни на что не взирая, забавлялись своей неистовой пляской; в их голосах слышалось даже что-то человеческое. Как опившиеся до потери рассудка дикари неистовствуют и орут, утратив способность издавать членораздельные звуки, горланят все вместе, в безумном опьянении, так именно звучал в эту ночь в моих ушах своеобразный, грозный и вместе с тем разгульный и веселый рев «Веселых Ребят» – этих страшных бурунов, бушующих у Ароса, словно потешаясь своим диким неистовством.
Взявшись под руки и спотыкаясь на каждом шагу, под напором валившего нас с ног ветра, Рори и я с невероятным трудом, шаг за шагом, подвигались вперед. Мы спотыкались в мокрой траве, падали на облитых дождем и брызгами скалах и камнях, на которых скользили и разъезжались ноги; разбитые, измученные, промокшие и задыхающиеся, мы добрались не раньше чем через добрых полчаса от дома, лежащего внизу, до оконечности мыса, возвышающейся над Рустом. Это был излюбленный обсервационный пункт дяди. Как раз в том месте, где утесы всего выше и где они почти отвесно спускаются в море, большая земляная глыба на самом краю утеса образовала род парапета, могущего служить защитой от ветра. Здесь можно было спокойно сидеть и наблюдать прилив и борющиеся с ним зеленые валы прибоя; как из окна комнаты в доме можно смотреть на уличную драку, так точно можно было смотреть отсюда на бушующих внизу «Веселых Ребят». В такую ночь, конечно, приходилось смотреть в черный мрак, среди которого бурлили, кипели и кружились, как на мельничном колесе, косматые волны, где они сшибались с силой взрыва, а пена и брызги взлетали на невероятную высоту и затем в мгновение ока разлетались мелкой водяной пылью. Никогда еще я не видел «Веселых Ребят» такими неистово бурными и бешено свирепыми; эту дикую разнузданность, эту необычайную вышину всплесков и эту силу и быстроту их налета надо было видеть, потому что они не поддавались никакому описанию. Высоко-высоко у нас над головами, когда мы стояли на вершине утеса, вздымались и вырастали во тьме белые столбы пены, и в тот же момент исчезали как призраки. Иногда два-три таких столба вырастали и пропадали в одно мгновение, а иногда их подхватывал порыв ветра, и тогда нас обдавало брызгами и пеной, словно на нас налетела волна. И все же зрелище это не столько подавляло своей силой и величием, сколько ошеломляло своим шумом и движением, – мысль цепенела от этого одуряющего страшного шума, непрерывно возрастающего и падающего; какая-то почти веселящая пустота воцарялась в мозгу; наступало состояние, близкое к острому умопомешательству. Минутами я ловил себа на том, что, следя за бешеной пляской «Веселых Ребят», я подпевал им, вторя их голосам.
Мы еще были в нескольких саженях от дяди, когда я впервые увидел его в один из мимолетных проблесков полусвета среди окружающей тьмы этой черной ночи. Он стоял за парапетом с откинутой назад головой и тянул из бутылки, которую он держал обеими руками. Когда он отнял бутылку от рта, он увидел и узнал нас, в знак чего махнул нам рукой.
– Разве он пьет? – крикнул я Рори.
– О, он всегда напивается, когда ветер ревет, – отвечал Рори на таких же высоких нотах, потому что иначе ничего нельзя было бы здесь расслышать.
– Стало быть… и в феврале… он тоже был пьян? – допрашивал я.
Рорино «да» несказанно обрадовало меня. Значит, и убийство он совершил не хладнокровно, не с заранее обдуманным расчетом; это, вероятно, было сделано под воздействием пьяного безумия, которое могло служить оправданием даже на суде. Значит, дядя мой был просто опасный помешанный, если хотите, а не жестокий и низкий преступник, как я того опасался. Но что за странное место для попойки! Какой ужасный порок развился у дяди, да еще при какой невероятной обстановке предавался он ему, бедняга! Я всегда считал пьянство диким и почти страшным наслаждением, опасной и безобразной страстью, скорее демонической, чем человеческой; но пьянство здесь, в такую страшную минуту! Среди всего этого невероятного хаоса разбушевавшихся и обезумевших стихий и волн стоять с затуманенной головой, в которой все стучит и клокочет, как там, на Русте, со спотыкающимися ногами на краю бездны, на волосок от смерти, и ловить жадным ухом звуки, возвещающие гибель человеческих жизней, – это казалось мне совершенно невероятным, положительно невозможным для такого человека как дядя, суеверного, верящего в проклятия и возмездие и постоянно преследуемого мрачными опасениями и беспочвенными страхами. А между тем это было так. И когда мы добрались наконец до вершины и очутились под защитой парапета и могли отдохнуть и перевести дух, я увидел, что глаза его светились недобрым блеском и как-то зловеще сверкали в темноте.
– А что, Чарли, человече, ведь это великолепно, не так ли? Посмотри-ка на них, как они пляшут! – крикнул он мне и потащил меня к самому краю обрыва, висевшего над черной бездной, откуда доносился оглушительный шум и подымались до нас целые облака белой пены. – Гляди на них, человече! Смотри, как они пляшут сегодня чертовски! А?
Слово «чертовски» он произнес с особым смаком, и мне показалось, что и самое слово, и та манера, какой оно было произнесено, одинаково соответствовали данному моменту и разыгрывающейся на наших глазах сцене.
– Это они вот о той шхуне, – продолжал дядя, и его тоненький визгливый голосок явственно слышался здесь, в прикрытии, за парапетом. – И видишь то судно – оно все ближе… все ближе подходит… да, все ближе и ближе!.. И они там, на судне, знают… все хорошо знают, что их песенка спета… И знаешь, Чарли, мой славный парень, ведь они все там пьяны… все пьяны, говорю я тебе!.. Все мертвецки пьяны! И на «Крист-Анне» они тоже все были пьяны под конец, поверь мне; никто не может тонуть в море не напившись! Без водки тут никак нельзя!.. Да ты не разевай рта, разве ты что-нибудь можешь знать об этом! – вдруг крикнул он в припадке беспричинного гнева. – Я тебе говорю, что быть этого не может! Они не осмелятся без водки; смелости у них не хватит утонуть без нее… На вот, хлебни! – добавил он, протягивая мне бутылку.
Я хотел было отказаться, но Рори украдкой дернул меня, как бы желая предостеречь, да и сам я уже передумал на этот счет, и потому, взяв из рук дяди бутылку, не только хорошенько хлебнул из нее, но успел еще и выплеснуть значительную долю ее содержимого. Это был чистый спирт, от которого у меня захватило дыхание так, что я едва мог проглотить его. Дядя не обратил внимания на убыль в бутылке, но снова, закинув назад голову, стал тянуть из нее до тех пор, пока не выпил все до последней капли, а затем, громко рассмеявшись, он швырнул пустую бутылку «Веселым Ребятам», которые как будто нарочно шумно рванулись вперед, чтобы поймать ее налету.
– Гей, чертовы ребята! – крикнул он. – Вот на вашу долю!.. Может, вы завтра добрее станете.
И вдруг из черного мрака ночи – не далее как в двухстах шагах от нас, – в момент, когда ветер на минуту затих, мы явственно услышали человеческий голос, резкий и отчетливый. Но в то же мгновение ветер с диким воем налетел на мыс, Руст заревел и забурлил оглушительно и «Веселые Ребята» бешено заплясали с каким-то диким озлоблением. Но все же мы слышали звук этого голоса, и он продолжал звучать у нас в ушах, и мы знали, что обреченное на гибель судно переживает свою предсмертную агонию, что оно гибнет в нескольких саженях от нас, и что мы слышали голос его командира, отдававшего последние приказания. Сбившись в кучу у самого края утеса, мы с напряжением ловили каждый звук, и все чувства и ощущения наши сводились к одному безумно мучительному ожиданию неизбежной развязки… Но нам пришлось долго ждать, и эти бесконечные минуты казались нам годами. И вот на одно краткое мгновение мы увидели шхуну на фоне громадного столба сверкающей белой пены. Я как сейчас вижу ее с убранными парусами, с болтающимся, сорванным гротом, в тот момент, когда мачта тяжело рухнула на палубу; я как сейчас вижу черный силуэт злосчастного судна, и мне кажется, что я различаю на нем темную фигуру человека, склонившегося над рулем. Но все это минутное видение исчезло с быстротой молнии. Тот же вал, что так высоко поднял его на свой гребень, – он же и поглотил злополучное судно и похоронил его навеки в бездонной пучине морской. Душераздирающий предсмертный крик слившихся в один вопль десятков человеческих голосов огласил воздух, но был тотчас же заглушён треском и шумом и ревом «Веселых Ребят». Так разыгрался в одно мгновение последний акт этой тяжелой трагедии: мощное судно со всем его достоянием и, быть может, даже с лампой, горевшей еще в каюте в последний момент, со всеми этими человеческими жизнями, столь драгоценными для их близких и родных и уж, во всяком случае, ценными для них самих, – все это в одно мгновение пошло ко дну среди водоворота бушующих волн. Все они канули в вечность точно сон. А ветер все еще продолжал свирепствовать и шуметь, и холодные бездушные волны продолжали нагонять друг друга, сшибаться, перескакивать и раскатываться там, на Русте, как будто ничего не случилось.
Долго ли мы там пролежали все трое, прижимаясь друг к другу, безмолвные и неподвижные, – этого я не знаю, но думаю, что долго. Наконец мы один за другим, почти механически сползли вниз под защиту земляного парапета. И в то время, как я лежал там совершенно разбитый и не вполне сознавая, что со мной, с вяло бьющимся сердцем и мутящимися мыслями, я услышал, как дядя мой бормотал что-то вполголоса совершенно изменившимся печальным голосом:
– Так бороться, как им пришлось, беднягам… так бороться… так тяжело бороться… да… да… – И вдруг он начал плакаться: – И все то добро пропало… все пропало!.. И никому не достанется, потому что судно затонуло среди «Веселых Ребят», вместо того, чтобы выброситься на берег… как «Christ-Anna». – И это имя все снова и снова возвращалось в его бреду, и он каждый раз произносил его с ужасом и содроганием.
А буря между тем быстро начинала стихать. Через каких-нибудь полчаса ветер, неистовствовавший и ревевший, как бешеный зверь, спал до легкого ветерка, и вместе с тем пошел холодный, тяжелый, шлепающий дождь. Вероятно я тогда заснул, а когда я пришел в себя, промокший, прозябший, почти окоченевший, с тяжелой головой и разбитым телом, на небе уже начался день, серый, сырой, неприятный день. Ветер дул слабыми капризными порывами, прилив окончился. Руст был сравнительно вялый, точно сонный, и только сильно ударявший о берег прибой на всем протяжении побережья Ароса свидетельствовал еще о свирепствовавшей всю ночь буре.
Глава V
Человек, вышедший из моря
Рори направился домой, чтобы обогреться и поесть; но дядя захотел непременно обследовать все побережье Ароса, и я счел своим долгом сопровождать его повсюду. Теперь он был кроток и спокоен, но, видимо, сильно ослабел; ноги у него дрожали, чувствовался полный упадок сил, физических и умственных. С настойчивостью ребенка он продолжал свое обследование, спускался до самого подножья скал, бежал за отступающим прибоем. Малейшая разбитая доска или обрывок снасти казались ему сокровищами, ради которых стоило подвергать опасности свою жизнь. Видеть, как он едва держась на своих слабых, дрожащих ногах, ежеминутно подвергался опасности быть унесенным прибоем или попасть в предательскую волчью яму, поросшую бурьяном среди скал, приводило меня в ужас. Моя рука постоянно была готова ухватить его, поддержать и удержать за куртку, когда он падал или спотыкался; мало того, я помогал ему вытаскивать из воды всякие ни на что не нужные и ни к чему не пригодные щепки, рискуя ежеминутно быть подхваченным волной. Нянька, сопровождающая семилетнего ребенка, не могла бы сделать больше.
Но как он ни был ослаблен реакцией, наступившей после возбуждения и безумия вчерашней ночи, душевные ощущения и переживания его оставались переживаниями сильного по своей натуре человека. Его страх перед морем, хотя и побежденный в данное время неудержимым желанием жалкой наживы от утонувшего судна, не утратил своей прежней остроты, и если бы море представляло собой огненное озеро, дышащее языками пламени, он едва ли бы отшатывался от него в большем паническом страхе, чем от прикосновения воды. Однажды, когда он, поскользнувшись, попал ногой в образовавшуюся от прибоя лужу, он вскрикнул так, как только может вскрикнуть человек в предсмертной агонии. После того он долгое время стоял неподвижно, тяжело дыша, как загнанная охотничья собака. Но жажда поживиться чем-нибудь от кораблекрушения была в нем до того сильна, что восторжествовала даже над этим его страхом. И он снова, спотыкаясь и шатаясь от слабости, лез к оставшимся на песке клубам пены, полз вдоль прибрежных утесов, о которые разбивались ленивые слабые валы, и с невероятной жадностью ловил плывшую доску, щепку или бревно, которое едва ли даже годилось на то, чтобы бросить его в огонь. Но как ни радовался он всем этим приобретениям, он тем не менее продолжал все время роптать на свою неудачу, жаловаться, что ему нет счастья.
– Арос, – сказал он, – вовсе не место для кораблекрушений. За все годы, что я здесь живу, это всего только второе; да и то все лучшее добро пошло ко дну…
– Дядя, – обратился я к нему в тот момент, когда мы находились на голой полосе желтого берегового песка, где положительно нечего было искать, потому что все было видно как на ладони на большом расстоянии, а следовательно, ничто не отвлекало его внимания, – дядя, я видел вас вчера в таком состоянии, в каком я никогда не думал вас увидеть. Вы были пьяны.
– Ну, ну, – возразил он довольно добродушно, – уж и пьян!.. Нет, пьян я не был, но я пил, да! И если сказать тебе, человече, божескую правду, я тут ничего поделать не могу. Нет человека трезвее меня, когда я в добром порядке; но когда я услышу, как завывает ветер, то я убежден, что я должен пить… Понимаешь ты это? Должен! Не могу иначе!
– Вы человек религиозный, дядя, – заметил я, – а ведь это грех.
– Еще бы! – отозвался он. – Да ведь если бы это не было грехом, разве я стал бы пить? Что мне за охота? Видишь ли ты, человече, ведь это я назло делаю, это, так сказать, вызов ему с моей стороны, вот это что! Много, много греха тяготеет над морем, старого, мирового греха… Нехристианское это дело, пьянство, но это вызов ему, я знаю, и как только море забушует и ударит ветер, – и ветер, и море, ведь они друг другу сродни, я полагаю, потому что они всегда действуют заодно, – и «Веселые Ребята», эти воплощенные черти, захохочут, заревут, запляшут, а там бедняги борются всю долгую ночь, и их несчастное судно кидает из стороны в сторону и бьет волнами, тогда на меня находит… словно колдовство какое, и я чувствую, что весь перерождаюсь, и знаю, что я дьявол, воплощенный дьявол! И тогда я не думаю о тех беднягах, что в смертельном страхе и ужасе борются за свою жизнь, мне не жаль их, я весь на стороне моря, я заодно с ним, с этими коварными, бездушными, безжалостными валами, – я словно один из тех «Веселых Ребят».
Я полагал, что мне удастся тронуть его сердце, задев его за его больное место. Я повернулся лицом к морю, где прибой весело бежал к берегу, где увенчанные белыми пенистыми гривами, развевающимися у них на хребтах, веселые резвые волны догоняли одна другую и рядами выбегали на берег, на пологий песчаный берег, где они наскакивали друг на друга, перепрыгивали одна через другую, изгибались дугой и раскатывались мелкими струйками по твердому, мокрому песку пологой песчаной отмели. Если бы не соленый морской воздух и не мечущиеся с криком испуганные чайки, эти белогривые волны прибоя казались бы широко развернувшейся армией морских конных ратников на белогривых конях, сдержанным ржанием приветствующих друг друга, которая выезжает дружными рядами на берег, чтобы взять приступом Арос. Перед нами же, у самых наших ног, лежала совершенно ровная плоская полоса песка, которой волны прибоя, несмотря на их численность, силу и мощь, никогда не могли перейти.
– Положен предел, его же не перейдешь, – сказал я, цитируя слова священного писания и указывая дяде на плоскую песчаную отмель у наших ног. И при этом я с особенной торжественностью продекламировал стихи, которые я не раз применял к музыке наших бурунов:
Но Бог, что там на небесах,
Велик и силен, и могуч.
Пред Ним ничто
И моря бешеные волны,
И шум ветров, и грозный вой прибоя…
– Ах, да, – отозвался на это дядя, – да, в конце концов Господь, конечно, надо всем восторжествует! В этом я нисколько не сомневаюсь. Но здесь-то, на земле, глупые грешные люди осмеливаются бросать Ему вызов в лицо. Это неразумно. И я не говорю, что это разумно или хорошо, нет, но это дает человеку право гордиться собой. Это наслаждение жизни, это верх удовлетворения!
Я ничего на это не возразил. Мы теперь пересекали узенький перешеек, отделявший нас от Сэндэгской бухты, и я решил воздержаться от дальнейшего увещевания этого заблудшего человека до того момента, когда мы с ним будем стоять на том месте, которое неразрывно должно быть связано в его воображении с воспоминанием о совершенном им преступлении. И он также не стал далее развивать эту тему, но шел теперь рядом со мной твердым, уверенным шагом. Несомненно было, что мое обращение к нему не пропало даром; оно подействовало на него, как возбуждающее средство; он; по-видимому, забыл про свое увлечение поисками негодных обломков и впал в глубокое и мрачное раздумье, носившее волнующий и возбужденный характер; казалось, он чем-то был сильно потрясен и взволнован. Минуты три-четыре спустя мы были уже на вершине пригорка и начали спускаться к Сэндэгской бухте. Буря значительно повредила разбившееся здесь судно; форштевень перевернуло и оттащило несколько ниже к воде, а корму как будто выдвинуло немного повыше, так что теперь обе половины лежали совершенно отдельно на песке. Когда мы подошли к могильному холму, я остановился, обнажил голову, несмотря на сильный дождь, и тогда прямо в лицо моему родственнику произнес:
– Волей Божьей одному человеку дано было спастись от смертельной опасности и общей гибели. Он был нищ, он был наг, он был голоден, он озяб и устал, потому что был измучен и горем, и страхом, и ужасом, и борьбой за свою жизнь, и он был чужестранец в этой пустынной и неприветливой местности. Он имел все права на твою жалость и твое гостеприимство; быть может, он был солью земли, человек добродетельный, добрый, разумный, полный лучших и благородных надежд, а может быть, он был обременен грехами и проступками, для которого смерть являлась началом вечных мучений. И я спрашиваю тебя пред лицом неба, Гордон Дарнэуей, где этот человек, за которого Сам Христос положил свою жизнь?
При последних словах моих он заметно вздрогнул, но никакого ответа не последовало, и лицо его не выразило никакого чувства, кроме смутной тревоги.
– Вы были братом моего отца, – продолжал я, – и вы научили меня смотреть на вас как на родного, и на ваш дом как на мой родной дом. Оба мы с вами люди грешные, рожденные и ходящие во грехе перед лицом Всевышнего. Но милосердный Бог путем греха и зла ведет нас к добру и спасению; мы грешим, я не скажу, что по Его Святой воле, но с Его соизволения. Он допускает нас совершать грех, потому что для каждого, не озверевшего еще человека, грех есть начало исправления, начало покаяния, ведущего к спасению. Бог пожелал предостеречь вас этим страшным грехом. И теперь еще Он хочет вразумить вас и этой могилой, лежащей у ваших ног, этой кровавой могилой. Но если и после всего этого не последует ни раскаяния, ни исправления, ни возвращения к Богу, то что можем мы ожидать в будущем, если не страшного и примерного Суда Божия!..
И пока я еще говорил, я заметил, что взгляд его уклонялся куда-то в сторону, и странная, неописуемая перемена произошла в его лице: все черты его как будто съежились, всякая краска сбежала с его лица, рука нерешительным дрожащим жестом поднялась, указывая куда-то в пространство через мое плечо, тогда как с уст его чуть слышно сорвались так часто повторяемые им слова: «Christ-Anna».
Я обернулся в указанном направлении, и хотя я не был потрясен в той мере, как дядя, так как, благодарение Богу, я не имел к тому основания, тем не менее и я был поражен тем, что представилось моим глазам.
Человеческая фигура ясно вырисовывалась на трапе, ведущем в каюту разбившегося судна; он стоял к нам спиной и, по-видимому, всматривался в даль открытого моря, прикрывая глаза рукой; вся его фигура во весь, по-видимому, богатырский рост отчетливо выделялась на фоне неба и моря. Я уже много раз говорил, что я вовсе не суеверен, но в этот момент, когда мысли мои были заняты думами о смерти, грехе и преступлении, такое неожиданное появление человека на этом острове вызвало во мне недоумение и удивление, близкое к ужасу. Казалось почти невероятным и невозможным, чтобы хоть одна живая душа могла спастись вчера в эту страшную бурю, чтобы хоть один человек мог добраться живым до берега, при том состоянии моря, в каком оно было в эту ночь у берегов Ароса. И единственное судно, бывшее накануне на моих глазах, пошло ко дну среди неистовствовавших «Веселых Ребят». Мной овладели сомнения, нестерпимо мучительные сомнения, от которых мутится ум. Чтобы положить им конец, я выступил вперед и окликнул человека на судне. Он тотчас же повернулся к нам лицом, и мне показалось, что и он был удивлен, увидев нас. При этом все мое присутствие духа и самообладание разом вернулись ко мне, и я стал кричать ему и делать знаки, приглашая его подойти ближе. Тогда он, недолго думая, спустился на песчаную отмель и стал медленно подвигаться вперед, ближе к нам, много раз останавливаясь как бы в нерешимости. С каждым новым проявлением его тревоги или беспокойства, я чувствовал себя все более успокоенным и уверенным. Я сделал шаг вперед, кивая ему головой и делая знак рукой, чтобы он продолжал идти вперед. Ясно было, что до этого человека дошли рассказы о негостеприимстве нашего острова, и потому мы внушали ему некоторые опасения; и действительно, в это время население, живущее немного дальше к северу, пользовалось весьма печальной репутацией.