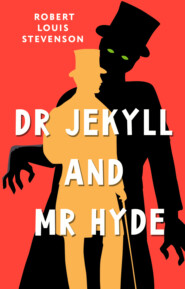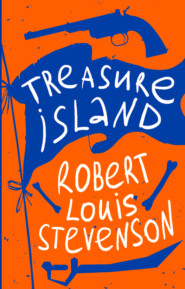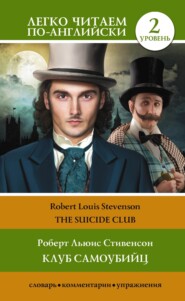По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
«Веселые ребята»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ай! – невольно воскликнул я, когда неизвестный подошел несколько ближе. – Ведь это чернокожий!
И в этот самый момент дядя мой принялся клясться и божиться, проклинать и молиться вперемешку страшным изменившимся, совершенно неузнаваемым голосом, подавленной скороговоркой, изливая целый поток неясных, странных слов.
Я взглянул на него. Он упал на колени, лицо его исказилось до неузнаваемости, на нем отразился смертельный страх. С каждым новым шагом неизвестного голос его становился все крикливее и рронзительнее, речь его лилась быстрее и с большей страстностью. Я хотел бы назвать это словоизлияние молитвой, потому что оно было обращено к Богу, потому что имя Божье призывалось в нем, но никогда еще столь ужасные, бессвязные, безумные слова не были обращены к Творцу Его созданием, и если молитва может быть грехом, то такая молитва была несомненно греховна, более того, она была кощунственна!
Я подбежал к дяде, схватил его за плечо и заставил его подняться на ноги.
– Замолчи! – крикнул я. – Чти, человек, Господа, своего, если не в делах твоих, то хоть в словах твоих! Пойми, что здесь, на самом месте, оскверненном твоим проступком, Бог посылает тебе возможность искупить или хоть отчасти загладить твой грех!.. Прими же эту милость Божью с благодарностью и умилением и прими в свои объятия, как родное дитя, это несчастное создание, просящее у нас милосердия и защиты.
И с этими словами я старался заставить его пойти навстречу чернокожему; но он сшиб меня с ног, осыпая меня бешеными ударами, вырвался от меня, оставив в моих руках клок своей куртки, и понесся вверх, в гору, по направлению к вершине Ароса, как олень, преследуемый гончими. Я поднялся на ноги, ошеломленный и ушибленный; негр между тем остановился в недоумении, быть может, в ужасе, приблизительно на полпути между разбитым судном и мной. Дядя был уже далеко;, он перескакивал с камня на камень, со скалы на скалу, так что я оказался на распутье между двумя призывавшими меня обязанностями. Подумав, я решил, и теперь благодарю Бога, что решил по справедливости, – я решил в пользу несчастного, пострадавшего при кораблекрушении негра; его несчастье произошло по крайней мере не по его вине; кроме того, это был человек, который, без сомнения, мог ожить, а я к этому времени начинал уже убеждаться, что дядя мой был неизлечимый и жалкий помешанный. Согласно своему решению, а пошел навстречу негру, который теперь стоял и, по-видимому, ждал, чтобы я подошел к нему. Он сложил руки на груди и стоял неподвижно, словно он был одинаково готов ко всему, что бы ни сулила ему судьба.
Когда я приблизился к нему, он протянул вперед руку ораторским жестом и заговорил несколько приподнятым и торжественным ораторским тоном на языке, из которого я не понял ни слова. Я сначала попробовал заговорить с ним по-английски, затем по-гэльски, но тщетно, так что обоим нам стало ясно, что надо переходить на взгляды и жесты. Я сделал ему знак следовать за мной, что он и исполнил с полной готовностью, но в то же время и с величавым, спокойным достоинством низвергнутого короля. Во все это время в его чертах не произошло ни тени заметной перемены; его лицо не выражало ни страха, ни опасений в то время, когда он стоял и ждал моего приближения; точно также не отразилось на нем ни чувства радости, ни облегчения, когда он наконец убедился в моем дружелюбном отношении к нему. Если он был раб, как я предполагал, то, во всяком случае, я был убежден, что вижу перед собой в его лице не простолюдина, а падшее величие, что у себя на родине он несомненно был человеком, занимавшим высокое положение. И теперь, видя его в его падении, я не мог надивиться тому такту и чувству достоинства, с каким этот человек умел держать себя, даже и в столь необычайных условиях. Проходя мимо могильного холмика, я остановился и, воздев руки и глаза к небу, набожно склонил голову в знак моего уважения к усопшему и моей скорби о нем. Как бы следуя моему примеру, неизвестный низко склонился всем корпусом и широким, плавным движением раскинул руки в стороны. Этот жест показался мне странным, но у него он вышел как обычное, общепринятое в таких случаях движение, и я подумал, что, вероятно, таков обычай в его стране.
Затем он указал мне на дядю, который, взобравшись на верхушку пригорка, на значительном расстоянии от нас, скорчившись, присел там, вероятно, чтобы отдохнуть, и боязливо озирался назад; отсюда нам прекрасно было видно его, и, указав на него, неизвестный слегка коснулся своего лба, как бы желая этим сказать, что ему кажется, что этот человек не в здравом уме. Я утвердительно кивнул головой, и мы пошли дальше. Мы шли дальним путем, в обход, все берегом; я побоялся идти напрямик, опасаясь встревожить дядю еще больше. Идя окружным путем, у меня было достаточно времени воспроизвести перед моим спутником небольшую мимическую сцену, с помощью которой я рассчитывал выяснить некоторые интересовавшие меня обстоятельства. Остановившись на краю скалы, я старательно проделал все, что делали вчера на берегу Сэндэгской бухты вооружившиеся компасом незнакомцы. Мой собеседник сразу уловил мое намерение и тут же сам продолжал дальше представлять эту самую сцену. Прежде всего он указал мне место, где находилась шлюпка, и тот пункт, на котором в тот момент стояла шхуна, а затем длинным выразительным жестом обвел всю линию берега и при этом произнес слова «Espiritu Santo», выговорив их весьма своеобразно, но все же так, что их можно было понять. Из этого я заключил, что был прав в своем предположении, и что все это историческое исследование было нечто иное, как благовидный предлог, под которым скрывалась самая низменная жажда наживы в поисках затонувших сокровищ, и что человек, одурачивший доктора Робертсона, был тот самый господин в золотых перстнях, приезжавший сюда весной для ознакомления с Гризаполем и его окрестностями и вернувшийся теперь снова сюда для того, чтобы вместе с еще многими несчастными уснуть мертвым сном между подводными рифами Руста, у Ароса. Сюда их привела их алчность, жажда наживы, сюда, где их кости должны будут стать игрушкой подводных течений и беснующихся бурунов.
Между тем чернокожий продолжал мимически представлять знакомую мне сцену; он делал это великолепно: то он указывал на небо, словно видя на нем приближение бури, то обычным у моряков движением руки как будто сзывал всех на борт; то имитируя вчерашних незнакомцев, бежал по краю утеса и спешил сесть в лодку; потом изображал, как тяжело приходится гребцам работать веслами, когда гребешь против течения. И все это он передавал так серьезно, так деловито, что у меня ни на секунду не явилось желание хоть бы только улыбнуться. Наконец он дал мне понять с помощью все той же выразительной пантомимы, которую невозможно передать в словах, что сам он отправился осмотреть разбившееся судно и, к великому своему негодованию и огорчению, был покинут там своими товарищами, спешившими скорее добраться до шхуны и предоставлен его судьбе. В заключение он гордо выпрямился, скрестив на груди руки, и опустил голову, очевидно, выражая этим свою готовность покориться той участи, которая ему суждена.
Выяснив таким образом то, что я желал знать, я, в свою очередь, сообщил ему о судьбе, постигшей шхуну и всех находившихся на ней. Эта весть не вызвала в нем ни удивления, ни особого огорчения; он только показал выразительным жестом руки, что предает своих былых господ или товарищей, кто бы они ни были, на волю Божью. Чем больше я наблюдал этого человека, тем большим я к нему проникался почтением и уважением. Несомненно, он обладал большим умом и сильной волей, и характера был строгого и серьезного. Общество такого рода людей я предпочитал всякому другому, и прежде чем мы дошли до дома Ароса, я не только от всей души простил ему цвет его кожи, но даже забыл о нем.
Придя в дом, я рассказал Мэри все, как было, без малейших утаек, хотя, признаюсь, сердце у меня усиленно билось во время этого признания; но оказалось, что я напрасно усомнился даже и на одно мгновение в ее чувстве справедливости.
– Конечно, ты поступил правильно, – сказала она. – Да будет воля Господня! – И она сейчас же поставила перед нами большое блюдо с мясом.
Как только я поел и поручил Рори позаботиться о пришельце, я тотчас же отправился разыскивать дядю. Не успел я выйти из дома, как увидел его на том же самом месте, на вершине пригорка, где мы с чернокожим в последний раз видели его. Он сидел все так же, скорчившись, словно притаясь, и как будто в той же самой позе, в какой мы оставили его. С этого места, где он находился, перед ним расстилалась, как на разложенной карте, наибольшая часть Ароса и находящийся с ним по соседству Руст; несомненно, что он зорко глядел во все стороны и по всем направлениям, потому что едва только моя голова показалась над верхушкой первой части подъема, как он стремительно вскочил на ноги и обернулся, как бы желая меня встретить лицом к лицу. Я тотчас же окликнул его как только мог громче, совершенно тем же тоном и в тех же словах, как я это делал сотни раз, когда, бывало, ходил звать его обедать или ужинать. Но он ни единым движением не подал вида, что слышит меня. Тогда я прошел еще немного дальше и опять стал звать его, но также безуспешно. Когда я снова пошел вперед, им вдруг овладел тот же безумный ужас, и, продолжая хранить мертвое молчание, он кинулся бежать от меня с невероятной быстротой вдоль скалистой вершины горы. Всего час тому назад я видел его изнемогающим, истощенным, ослабевшим, тогда как я был еще сравнительно бодр, но теперь его сила и выносливость поражали меня. Безумие придавало ему силы, и я не мог даже мечтать угнаться за ним. Мало того, я опасался, что сама попытка догнать его могла только внушить ему еще больший страх и, пожалуй, еще ухудшить наше печальное положение. Мне не оставалось ничего более, как вернуться домой и сообщить Мэри неутешительную весть.
Она выслушала меня, как и в первый раз, со сдержанным спокойствием и, уговорив меня прилечь и отдохнуть, в чем я, действительно, сильно нуждался после ужасной, проведенной без сна ночи, сама отправилась разыскивать своего несчастного отца. В те годы едва ли была на свете такая вещь, которая могла бы лишить меня аппетита и сна, и потому я заснул крепко и спал долго, и время было далеко за полдень, когда я наконец проснулся и спустился из своей комнаты вниз в кухню, служившую в одно и то же время и общей столовой. Мэри, Рори и чернокожий сидели молча у очага. Я сразу заметил, что Мэри плакала. Вскоре я узнал, что ей действительно было о чем плакать. Сначала ходила она, а затем Рори искать и звать ее отца; и оба они каждый раз заставали его сидящим скорчившись на самой вершине горы, и от обоих он бежал, как преследуемый охотниками зверь, бежал молча, в безумном страхе. Рори пытался догнать его, но напрасно. Безумие придавало ему нечеловеческие силы, он делал изумительные прыжки, перескакивал со скалы на скалу через широкие трещины и ущелья, кружил, как дикарь, стараясь запутать свой след, и делал петли, как заяц, чувствующий гончих за собой. Наконец Рори утомился и поплелся домой, и когда он оглянулся в последний раз, то опять увидел дядю все на том же месте, на вершине Ароса, сидящим скорчившись, как притаившийся загнанный зверь. Даже и в самый разгар погони, даже и тогда, когда быстроногий и проворный Рори почти нагнал его и чуть было не схватил его, несчастный не проронил ни слова, не издал ни звука. Он убегал молча, как зверь, и это молчание наводило ужас на гнавшегося за ним Рори.
Было что-то душу надрывающее во всей этой сцене; положение становилось трагическим. Как поймать сумасшедшего человека, не подпускавшего к себе никого? Как хотя бы только накормить его? Ведь он со вчерашнего дня не видал никакой пищи! А затем, как с ним быть, если его удастся каким-нибудь образом изловить? Таковы были три главных затруднительных вопроса, которые нам приходилось разрешить.
– Чернокожий, – сказал я, – по-видимому, главная причина, вызвавшая у него этот острый приступ умопомешательства; может быть, именно его присутствие здесь, в доме, удерживает дядю там, на горе. Мы сделали, что должны были сделать, мы накормили и обогрели его под этим кровом, а теперь я предлагаю, чтобы Рори отвез его на лодке на ту сторону залива и проводил его по Россу до самого Гризаполя.
На это предложение Мэри ничего не возразила, а потому, предложив негру следовать за нами, мы все трое, то есть он, Рори и я, направились к пристани. Очевидно, Господу было так угодно, чтобы все обстоятельства складывались против Гордона Дарнэуея; случилось нечто, не имевшее никогда ничего себе подобного здесь, в Аросе: во время вчерашней бури лодку оторвало прибоем, и ее било о пристань с такой силой, что сделало в ней громадную пробоину, вследствие чего она теперь лежала на четырех футах глубины с проломленным боком. Потребовалось бы по крайней мере дня три работы, чтобы снова привести ее в исправность. Но я решил настоять на своем и потому повел всех к тому месту, где пролив, отделяющий Арос от мыса, всего уже, смело переплыл на ту сторону и стал звать чернокожего, приглашая его последовать моему примеру. На это он мне знаками дал понять, что не умеет плавать; и, по-видимому, это была правда. Никому из нас даже в голову не пришло усомниться в правдивости его заявления. Когда и этот исход оказался несостоятельным, нам волей-неволей пришлось вернуться обратно домой в том же порядке, в каком мы оттуда вышли. Возвращаясь назад, негр шел с нами так же непринужденно и естественно, как он шел, идя к пристани.
Все, что нам оставалось еще сделать в этот день, который начинал уже клониться к вечеру, это было еще раз попытаться завязать какие-нибудь отношения с несчастным помешанным. И опять мы его увидели на прежнем месте, на самой вершине горы, но, завидя нас, он опять также молча пустился бежать куда глаза глядят. Тем не менее нам удалось оставить для него на его излюбленном месте пищу и большой теплый плащ. Впрочем, дождь перестал, небо прояснилось и ночь обещала даже быть теплой. Теперь мы решили, что нам можно отдохнуть до утра; в покое и отдыхе мы все особенно нуждались; в эту ночь нам надо было собраться с силами для предстоящей нам завтра работы, и так как никто из нас не был расположен разговаривать, то все мы рано разошлись по своим углам.
Я долго не мог заснуть, создавая разные планы на завтра. Я хотел поставить негра со стороны Сэндэгской бухты, чтобы он, в качестве загонщика, гнал дядю в сторону его дома. Рори, как я предполагал, должен будет зайти с западной стороны, а я с восточной; таким образом, мы с трех сторон образовали бы цепь. И чем больше я мысленно изучал характер острова, тем более я убеждался, что нам будет возможно, если и не легко, но все же возможно, заставить дядю спуститься к низинам и болотам, лежащим вдоль берега Аросской бухты. А раз у нас это получится, то при всей той силе, какую ему придавало безумие, все же едва ли можно было опасаться, что ему здесь удастся уйти от нас. Я особенно рассчитывал на страх, который ему внушал чернокожий; я был уверен, что в каком бы направлении несчастный безумец ни побежал, во всяком случае он не побежит на негра, которого он, очевидно, принимал за выходца из могилы, и это мне давало уверенность, что по крайней мере одна из сторон компаса безусловно защищена. Когда я наконец заснул, то только для того, чтобы вскоре вновь пробудиться под впечатлением страшного кошмара, в котором мне представлялось кораблекрушение, чернокожие и всевозможные подводные приключения. Все это так на меня подействовало, что я почувствовал себя сильно потрясенным и настолько лихорадочно возбужденным, что встал, спустился вниз и вышел из дома на улицу. В доме Рори и чернокожий спали вместе на кухне, а на дворе была чудная ясная звездная ночь, и лишь там да сям еще удерживалось небольшое облачко, последнее напоминание о вчерашней ужасной буре. Было как раз время высшей точки прилива, и «Веселые Ребята» громко ревели в безветренной тишине ночи. Никогда еще, даже и в самую страшную бурю, не казались мне их голоса такими ужасающими, и никогда я не прислушивался к ним со столь жутким, леденящим душу чувством. Теперь, когда все ветры умчались далеко, когда морская глубь улеглась и погрузилась в свою летнюю дремоту, когда звезды далекие изливали на море и на землю свои нежные ласковые лучи, только одни эти неугомонные буруны по-прежнему бушевали и ревели, нарушая тишину и спокойствие ночи. Положительно, мне начинало казаться, что они часть мирового зла, что они трагизм жизни! Но их безотчетный, лишенный смысла рев и завывания не были единственными звуками, нарушавшими в эту ночь покой и тишину дремлющей природы; нет, я отчетливо слышал то высокие крикливые, то дрожащие и подавленные звуки человеческого голоса, вторившего шуму и реву прибоя на Русте. Я знал, что то был голос дяди, и неописуемый, непреодолимый страх напал на меня: страх Страшного Суда Господня, страх перед силой мирового зла! И я поспешил скорее уйти в дом, как бы желая укрыться в его мраке, и, вернувшись к себе наверх, еще долго лежал на постели все с теми же неотвязными думами, которые продолжали преследовать меня.
Было уже поздно, когда я снова пробудился. Я поспешно оделся и сбежал вниз, в кухню. Там не было никого. И Рори, и чернокожий уже давно тихонько ушли, и видя это, у меня сердце невольно упало. Я, конечно, мог вполне понадеяться и на привязанность, и на добрые намерения Рори, но не мог поручиться за его рассудительность и благоразумие. Если он так, не сказав никому ни слова, вышел ни свет ни заря из дома, то несомненно он рассчитывал и намеревался оказать какую-нибудь услугу дяде. Но какого рода услугу мог он оказать ему даже и будучи один, а тем более в обществе человека, который являлся в глазах дяди воплощением всех преследовавших его ужасов! Если уже не поздно было помочь делу, то, во всяком случае, нельзя было мешкать ни минуты, С быстротой мысли выбежал я из дома, и хотя я часто взбегал по крутому скату Ароса, но так я еще никогда не взбегал, как в это роковое утро. Кажется, менее чем в двадцать минут я был уже на вершине. Дяди здесь не было. Корзина с провизией, которую мы ему оставили, была раскрыта, вернее, у нее была сорвана крышка, и мясо раскидано по траве и по мху; но, как мы впоследствии убедились, он ни куска из него не положил в рот. Кругом не было видно никаких признаков живого существа. На небе был уже ясный день, и солнце в розовом сиянии горело над вершиной Бэн-Кьоу, но внизу дикие утесы и бугры Ароса и самое море еще лежали в тени и тонули еще в сумраке близкого рассвета.
– Рори! – крикнул я. – Рори!..
Но голос мой замер в пространстве; ответа же ниоткуда не последовало. Если они действительно задумали изловить дядю, то уж, конечно, они при этом рассчитывают не на быстроту своих ног, а на свое проворство и ловкость, на возможность схватить его из засады или заманить его в ловушку. Я продолжал бежать дальше, оставаясь на самой вершине хребта и все время глядя и влево, и вправо и не останавливаясь до тех пор, пока не очутился на вершине горы, возвышающейся над бухтой Сэндэг. Отсюда мне было видно разбившееся судно, голая полоса прибрежного песка и волны, лениво ударявшие в длинную линию прибрежных утесов, а по другую сторону бухты поросшие мхом валуны, холмы, бугры и кочки самого острова, но нигде ни одной живой души.
Вдруг солнце разом залило весь Арос, и полминуты спустя подо мной пасшиеся внизу овцы вдруг заметались, словно охваченные паникой. Затем раздался крик, и я увидел дядю, бегущего по лугу. Чернокожий гнался за ним, и прежде, чем я успел понять и сообразить, в чем дело, появился откуда-то и Рори, указывающий чернокожему направление, как указывают его здесь овчаркам, состоящим при стаде.
Я кинулся бежать к ним что было мочи, желая вмешаться, но, быть может, я сделал бы лучше, если бы остался там, где я был, потому что здесь я мог отрезать несчастному беглецу последнее отступление. Теперь перед ним не было ничего кроме могилы, разбитого судна и моря в Сэндэгской бухте. Но видит Бог, что то, что я сделал, вышло, пожалуй, к лучшему.
Дядя, конечно, видел и понял, в каком направлении его гонят, и он уклонялся то вправо, то влево, с быстротой молнии кидаясь из стороны в сторону. Но как ни придавали ему сил его безумие и панический ужас, преследовавший его, все же чернокожий оказывался проворнее его; как он ни уклонялся, как ни увертывался, преследователь все продолжал гнать его к месту его преступления. И вдруг он стал громко кричать, так громко, что его голос раздавался по всему побережью, и тогда оба мы, и Рори, и я, стали кричать негру, чтобы он остановился. Но все было напрасно, потому что в книге судеб было записано иначе.
Чернокожий продолжал гнаться за несчастным, а тот, совершенно обезумев, не видя ничего перед собой, бежал и кричал, кричал душераздирающим, диким голосом. Вот они миновали могилу и промчались у самых обломков разбившегося судна; еще секунда, и они оставили за собой всю береговую полосу песков, но дядя не останавливался; он несся вперед, как быстроногая лань, все вперед, прямо навстречу прибою, а чернокожий, почти нагнавший его теперь, следовал за ним неотступно. И Рори, и я, мы стояли точно окаменелые; то, что происходило теперь на наших глазах, было не в нашей власти, не в слабой воле человека, так было предопределено свыше, такова была воля Божья, так им Сам Бог судил! Да и суд Его совершался теперь на наших глазах; мы все видели и не в силах были помешать. Едва ли когда-нибудь было что-то более ужасное, чем этот конец!.. Берег в том месте обрывистый, и вода глубока; оба они разом очутились на глубине выше человеческого роста. Ни тот, ни другой плавать не умели; чернокожий на мгновение показался над поверхностью с резким, захлебывающимся криком, но течение подхватило и его и с головокружительной быстротой несло в море. Если они всплывут, что одному Богу известно, то всплывут не раньше, как минут десять спустя, на самом дальнем конце Аросского Руста, там, где морские птицы носятся над водой, охотясь за рыбой.