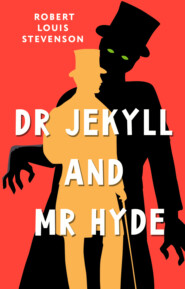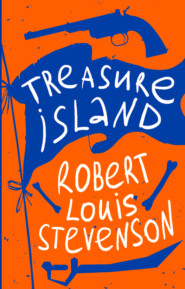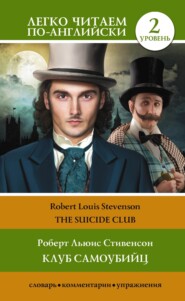По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Путешествие внутрь страны
Автор
Год написания книги
1878
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Краснощекий северянин тоже рассказал несколько историй о подвигах, совершенных им ради водворения порядка; в особенности была замечательна одна история, где речь шла о маркизе.
– Маркиз, – сказал я, – если вы сделаете хоть один шаг вперед, я выстрелю в вас. Вы поступили скверно, маркиз.
После этого, как оказалось, маркиз приподнял фуражку и ушел.
Хозяин шумно одобрил рассказчика.
– Вы хорошо поступили, – сказал он, – да и он также. Он сделал все, что мог. Он осознал свою неправоту.
И посыпалась божба! Хозяин-пролетарий не любил маркизов, но в нем было чувство справедливости.
От охоты разговор перешел к сравнению Парижа с провинциями. Хваля Париж, пролетарий колотил по столу рукой, точно по барабану.
– Что такое Париж? Париж сливки Франции. Парижан не существует. Вы, я, все мы парижане. В Париже каждый имеет восемьдесят процентов из ста выйти в люди. – И он набросал эскиз рабочего, который живет в конуре, не больше собачьей, и пишет статьи, предназначенные разойтись по всему свету. – Eh bien quoi, c'est magnifique, ca! – крикнул он.
Печальный северянин начал хвалить крестьянскую жизнь. Он считал Париж дурным местом для мужчин и женщин.
– Централизация… – начал он, но хозяин-пролетарий накинулся на него, кричал ему, что все в Париже логично и все великолепно. Какое зрелище! Какая картина! И тарелки прыгали по столу от канонады кулачных ударов.
Желая водворить мир, я вставил замечание о свободе мнения во Франции и вряд ли мог сделать худший промах. Наступило мгновенное молчание, головы многозначительно закачались. Конечно, все поняли замечание, оно было ясно, но мне дали понять, что печальный северянин страдал из-за убеждений. «Порасспросите-ка его», – говорили мне мои собеседники.
– Да, сэр, – по обыкновению спокойно отвечал он мне, хотя я не выговорил ни слова, – боюсь, что во Франции гораздо меньше свободы мнений, нежели вы предполагаете. – И с этими словами он опустил веки, считая тему исчерпанной.
Наше любопытство было сильно возбуждено. Как или почему, или когда страдал этот безжизненный человек? Мы сразу решили, что он терпел из-за религиозных вопросов, и невольно вспомнили об инквизиции, причем в нас ожили картины, главным образом, основанные на познаниях, извлеченных из ужасной истории Поэ и речи в «Тристане» Шенди, насколько я помню.
На следующий день нам представилась возможность углубиться в этот вопрос, потому что, когда мы поднялись (и очень рано, чтобы избежать сочувственной депутации при отплытии), мы встретили нашего северянина. Он завтракал белым вином и сырым луком, желая выдержать характер мученика, как решил я. Мы долго разговаривали с ним и, несмотря на его сдержанность, узнали все, что хотели знать. Но в этом случае произошло поистине любопытное недоразумение. Оказалось, что двое шотландцев могут разговаривать с французом в течение целого получаса, говоря о двух различных предметах. Только в самом конце беседы мы поняли, что ересь северянина была политического свойства, он тоже не подозревал нашей ошибки. Слова, в которых он говорил о своих политических верованиях, как нам казалось, соответствовали верованиям религиозным и наоборот.
Ничто не может лучше характеризовать две нации. Политика – религия Франции и, как сказал бы Нанти Юарт, чертовски плохая религия, – а мы в Англии ссоримся из-за незначительных особенностей в книге гимнов или из-за еврейского слова, которого ни та ни другая сторона не может перевести! А может быть, наше недоразумение прототип многих других, которые никогда не выяснятся? Такие недоразумения существуют не только между двумя различными народами, но и между различными полами!
Что касается страданий нашего друга, то они состояли в том, что из-за своих убеждений он потерял несколько мест и, кажется, потерпел неудачу в сватовстве. Впрочем, может быть, просто он выражался сентиментально о своих делах, и это обмануло меня. Во всяком случае бледный северянин был очень милый, кроткий человек, и я надеюсь, что он впоследствии получил хорошее место и славную жену.
Глава XIV
Вниз по Уазе – в Муа
Карнавал сильно обманул нас. Видя, что мы обходительны с ним, он пожалел, что так дешево сговорился с нами и, отозвав меня в сторону, рассказал мне длинную нелепую историю, вывод которой составляла необходимость дать рассказчику еще пять франков. История эта была очевидной выдумкой, но я беспрекословно заплатил Карнавалу и сейчас же перестал обходиться с ним приветливо, и с британской ледяной холодностью поставил его на подчиненное место. Он заметил, что зашел слишком далеко и зарезал золотую курицу. Его лицо поблекло.
Я убежден, что, найди Карнавал благовидный предлог, он вернул бы деньги. Он предложил мне выпить с ним, я отказался. Он нес байдарки и был трогательно нежен, но я молчал или отвечал ему короткими вежливыми фразами, когда же мы подошли к спуску, я заговорил с Сигареткой по-английски.
Несмотря на все наши фальшивые указания, на пристани собралось около пятидесяти человек. Мы были, как только умели, любезны со всеми, кроме Карнавала. Мы простились, пожав руку старика, знавшего реку, и молодого человека, лепетавшего по-английски. Карнавалу же не сказали ни слова. Бедный Карнавал, в этом-то и крылось его унижение! Еще недавно он выказывал непосредственное отношение байдаркам, позволял их смотреть, давал от нашего имени приказания и даже показывал публике гребцов, а теперь был публично пристыжен львами своего каравана. Никогда в жизни не видывал я такого огорченного человека. Он держался сзади, выходя вперед каждый раз, когда ему казалось, что он замечал в нас признаки более мягкого настроения, и поспешно отступал, встречая холодный взгляд. Будем надеяться, что это послужит ему уроком.
Я не упомянул бы о проделке Карнавала, не будь это такой редкостью во Франции. Его поступок был единственным случаем нечестности или даже резко выраженной практичности за все наше путешествие.
В Англии мы очень много говорим о честности. Следует быть настороже, когда слышишь много разглагольствований по поводу незначительного проявления добродетели. Если бы англичане знали, как о них говорят за границей, они стали бы немного сдержаннее, чтобы поправить дело, да и тогда еще им следовало бы быть проще.
Молодые девушки, грации Ориньи, не присутствовали при нашем отплытии, но когда мы подходили ко второму мосту, мы увидели, что он был черен от толпы зрителей. Нас встретили громкими криками, и довольно долгое время мальчики и девочки тоже с криком бежали за нами. Благодаря течению и веслам, мы неслись, как ласточки. Нешуточное дело было равняться с нами, спеша по деревянному берегу, но девушки поднимали юбки, точно были уверены, что у них хорошенькие щиколотки, и бежали, пока не выбились из сил. Последними отстали три грации и две их спутницы. Когда и они наконец устали, первая из граций вскочила на пень и послала гребцам воздушный поцелуй. Сама Диана не могла бы сделать грациознее это изящное движение (хотя в сущности, может быть, такое выражение чувств было свойственнее Венере). «Возвращайтесь!», – крикнула она, и подруги поддержали ее. Все холмы кругом Ориньи повторили: «Возвращайтесь!» Но река мгновенно отнесла нас, сделав поворот, и мы остались одни с зелеными деревьями и струящейся водой.
Вернуться! Юные девы, в бурном потоке жизни возврата нет.
Купец преклоняется перед звездой морехода,
Пахарь считает времена года по солнцу.
Нам же приходится ставить часы по циферблату судьбы. Страшные валы прилива поднимают человека с его фантазиями, как солому, и несут среди времени и пространства. Это течение извилисто, как ложе извивающейся реки Уазы, оно также замедляется, возвращается к милым лугам, но, в сущности, все идет и идет вперед. И хоть река посещает снова знакомый акр луга, но все же делает большой изгиб, в течение этого времени многие маленькие ручейки вливаются в нее, многие клубы испарений от нее поднимаются к небу, и если бы она вернулась совершенно к тому же самому месту, это была бы не та же река. Таким образом, о, грации Ориньи, если бы судьба и привела меня опять туда же, где вы ожидаете призыва смерти на берегу реки, я уже не буду тем, кем был. А жены и матери, в которых вы превратитесь, скажите, будут ли вами?
Уаза в своем верхнем течении по-прежнему необычайно спешила к морю. Она бежала так быстро и весело по всем излучинам, что я натрудил большой палец, борясь с быстринами, и мне пришлось весь остаток пути грести одной рукой. Иногда Уаза служила двигателем мельниц и, так как она еще была маленькой рекой, бывала после этого очень мелкою и прихотливою. После плотин мы, опуская ноги в воду, доставали до песка. И все же река бежала и пела между тополями и создавала красивую зеленую долину. После хорошей женщины, хорошей книги и табака, ничто на свете не сравнится с рекой. Я простил ей ее покушение на мою жизнь, которое, в сущности, было частью следствием беспорядочных ветров небесных, сваливших дерево, частью моей собственной неосмотрительностью и только частью умыслом самой реки. Она чуть не погубила меня не из злобы, а вследствие желания поскорее достигнуть моря. Добежать до моря ей было действительно трудно, так как нельзя и счесть всех поворотов Уазы. Кажется, географы бросили эту попытку, потому что я никогда не видывал карты, которая изображала бы бесконечную извилистость ее течения. Один факт скажет больше, чем все географы. После того как мы в течение нескольких часов, помнится трех, плыли между деревьями, несясь мягким головоломным карьером, и наконец подошли к деревне и спросили, где мы, то оказалось, что мы всего в четырех километрах (что составляет две мили с половиной) от Ориньи. Если бы не вопрос чести гребцов, выражаясь по-шотландски, мы могли бы почти с таким же успехом не двигаться с места.
Мы закусили на лугу среди параллелограмма из тополей. Кругом нас трепетали и шелестели листья. Река бежала и спешила и точно сердилась на нашу остановку. Но мы были невозмутимы. Река знала, куда она шла, мы же – нет.
Поэтому где мы находили приятное место отдыха и хорошую арену для курения трубки, там и останавливались. В этот час маклеры выкрикивали на парижской бирже. Но мы так же мало думали о них, как и о катившемся потоке, и посвящали целые гекатомбы минут богам табака и пищеварения. Торопливость – прибежище человека, не уверенного в будущем. Если он может доверять своему собственному сердцу и сердцам своих друзей, завтра для него так же хорошо, как сегодня. А если он и умрет до завтра, что же, умрет и тем разрешит вопрос.
Нам предстояло в течение дня достигнуть канала; там, где он пересекал реку, не было моста, а оказался сифон. Если бы на берегу не стоял очень взволнованный малый, мы, конечно, прямо погребли бы в сифон, и не гребли бы больше уже никогда в жизни. Мы встретили на бечевой дороге господина, который очень заинтересовался нашим путешествием.
При этом я был свидетелем, до чего иногда лжет Сигаретка; он только из-за того, что его нож сделан в Норвегии, принялся рассказывать о всевозможных приключениях, встретивших его в окрестностях города, в котором он никогда не бывал. В конце мой друг болтал с лихорадочным оживлением, говорившим в пользу предположения, будто иногда человеком овладевают бесы.
Муа – приветливая деревня, окружающая замок, окопанный рвом. В воздухе стоял запах конопли, доносившийся с соседних полей. В гостинице «Золотая овца» мы нашли хорошее помещение. Немецкие гранаты, оставшиеся после осады Ла-Фера, золотые рыбки в круглой вазе, нюрнбергские статуэтки и всевозможные безделушки украшали общую комнату. Хозяйка гостиницы была полная, некрасивая, близорукая женщина, почти гениальная кухарка. Она сама знала о своих достоинствах и, отпустив блюдо, выходила и смотрела на обедающих широко открытыми, мигающими глазами.
– C'est bon, n'est ce pas? – говорила она и, получив утвердительный ответ, опять исчезала на кухне.
В «Золотой овце» старое французское кушание, куропатки с капустой, сделалось для меня совершенно новой вещью, и многие из последующих обедов вследствие этого разочаровали меня. Сладко отдыхали мы в «Золотой овце» в Муа.
Глава XV
Ла-Фер, недоброй памяти
Мы пробыли в Муа большую часть дня, так как относились к делу философски и в принципе не признавали долгих путешествий и ранних отплытий. Вдобавок, сама деревня манила к отдыху. Из замка вышли господа в изящных охотничьих костюмах, с красивыми ружьями и мешками для дичи. Нам было приятно оставаться на месте, в то время как эти элегантные искатели наслаждений уходили из дома рано утром. Каждый может быть аристократом и разыграть роль герцога между маркизами и царящего монарха между герцогами, если только он превзойдет их в спокойствии. Невозмутимость вытекает из терпения. Спокойные умы не могут приходить в смущение или пугаться, они движутся своим обычным шагом среди счастья или невзгод, как часы во время грозы.
Мы вскоре достигли Ла-Фера, но спустилась мгла, начался маленький дождь, раньше чем мы пристроили лодки.
Ла-Фер – укрепленный город, стоящий в долине и опоясанный двумя линиями бастионов. Между первым и вторым поясом укреплений лежит довольно широкая полоса земли и небольшие возделанные поля. Там и сям вдоль дороги стояли часовые, не позволявшие сходить с шоссе из-за военных упражнений. Наконец, мы через вторые ворота вошли в город. Освещенные окна казались приветливыми, из домов вырывались клубы вкусного запаха кушаний. Город был переполнен запасными солдатами, собравшимися для осенних маневров; резервисты быстро проходили мимо в своих плащах. В такой вечер было приятно сидеть дома за обедом и слушать стук дождя по стеклам.
Сигаретка и я не могли нарадоваться в предвкушении нам удовольствия, так как нам сказали, что в Ла-Фере замечательная гостиница. Какой обед мы съедим, в какие кровати ляжем спать? А дождь будет мочить всех людей, оставшихся без крова на этом населенном берегу! При мысли о блаженстве у нас слюнки текли. Знаменитая гостиница носила название какого-то лесного животного: оленя, лани или олененка, не помню. Но я никогда не забуду, какой большой приветливой казалась она нам, когда мы подошли ближе. Въезд в гостиницу был ярко освещен, не умышленно, а благодаря изобилию ламп и свечей в доме. До нас донеслось бряканье посуды; мы увидели целое поле скатерти; кухня сияла, как кузница, и благоухала, как сад, засаженный съестными вещами. И вот в эту-то внутреннюю сокровищницу гостиницы, в самое ее физиологическое сердце, пылавшее очагами, заставленное различного рода мясом, торжественно вошли мы, пара измокших людей, с болтающимися резиновыми мешками на руках. Представьте себе всю картину!
Я не успел хорошо разглядеть кухню, я видел ее в каком-то сиянии, но мне показалось, что она была переполнена белыми колпаками; повара повернулись от своих котелков и с удивлением устремили на нас глаза. Сомневаться, где была хозяйка, мы не могли, эта краснолицая, сердитая, озабоченная женщина стояла во главе своей армии. Я ее спросил вежливо (слишком вежливо, полагает Сигаретка), можем ли мы иметь у нее комнату. Она холодно осмотрела нас с головы до ног и сказала:
– Вы найдете в предместье отличные комнаты, у нас же слишком много дел, и мы не можем заниматься такими людьми, как вы.
А я был уверен, что если нам удастся войти в гостиницу и потребовать бутылку вина, все устроится, а потому сказал:
– Но если мы не можем здесь переночевать, то могли бы, по крайней мере, пообедать, – и сделал движение, чтобы положить мешок.
Какое страшное содрогание произошло в лице хозяйки. Она подбежала к нам и топнула ногой.
– Прочь, уходите за дверь! – кричала она. – Sortez, sortez, sortez par la porte!
Не знаю, как это случилось, но через минуту мы уже очутились в темноте под дождем, и я, стоя перед воротами, бранился, как разочарованный нищий. Куда девались бельтийские спортсмены? Куда девался судья и его прекрасные вина, куда девались грации Ориньи? Нас окружала черная, черная ночь, представлявшаяся еще мрачнее после освещенной кухни, но могла ли она сравниться с мраком, наполнявшим наши сердца? Не в первый раз меня не впускали в дом. Очень часто строил я предположение о том, что я стану делать, если со мной случится такое несчастье опять. Составлять планы – дело легкое. Но легко ли с сердцем, горящим негодованием, приводить их в исполнение? Попробуйте, попробуйте хоть раз и скажите, как обошлось дело. Хорошо говорить о бродягах и морали. Шесть часов полицейского наблюдения, которому недавно подвергся я, и один грубый отказ хозяйки гостиницы больше меняют взгляды человека на этот предмет, нежели долгое чтение. Пока вы в верхних слоях общества и все кланяются вам при встрече, общественный строй кажется вам прекрасным, но если вы попадаете под колеса, то от души посылаете все общество к дьяволу. Я заставлю самых почтенных людей две недели пожить такой жизнью и затем предложу им два пенса за остатки их морали.
Что касается меня, то после изгнания из «Оленя», «Лани», или чего там еще, я поджег бы храм Дианы, будь он под рукой. Я не находил ни одного достаточно сильного выражения, которое выразило бы мое недовольство человеческими учреждениями. Относительно же Сигаретки я должен сказать, что я никогда не видывал человека, изменившегося до такой степени, как изменился он.