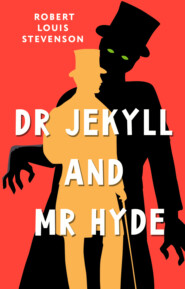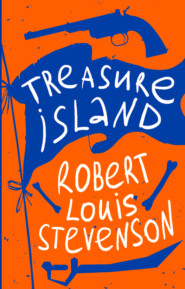По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Путешествие внутрь страны
Автор
Год написания книги
1878
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вечером они играли на дворе при свете пылающих ламп; это было жалкое представление, холодно принятое деревенскими зрителями. На следующий вечер, едва зажгли лампы, полил сильный дождь и актерам пришлось наскоро собирать свой багаж и бежать в сарай, где они жили. Они измокли, озябли, остались без ужина. На следующее утро мой дорогой друг, так же любивший бродячих артистов, как и я, собрал для них маленькую сумму и послал ее им через меня, чтобы несколько смягчить их огорчение. Я передал отцу деньги; он от души поблагодарил меня, и мы вместе с ним выпили по чашке чаю в кухне, говоря о дорогах, о зрителях и о тяжелых временах.
Когда я уходил, мой комедиант поднялся со шляпой в руке.
– Я боюсь, – сказал он, – что monsieur сочтет меня попрошайкой, но у меня есть к нему еще одна просьба. – В эту минуту я возненавидел его. – Мы опять играем сегодня вечером, – продолжал актер. – Конечно, я откажусь от денег monsieur и его друзей, которые уже были так щедры. Но сегодняшняя наша программа действительно хороша, и я надеюсь, что monsieur почтит нас своим присутствием. – И, пожав плечами, он прибавил с улыбкой: – Monsieur понимает тщеславие артиста.
Скажите на милость, тщеславие артиста! Такого рода вещи мирят меня с жизнью: оборванный, жалкий, невежественный бродяга с манерами джентльмена, и тщеславие артиста, которое поддерживает самоуважение!
Но больше всего мне по сердцу господин Воверсен. Я в первый раз видел его два года тому назад и надеюсь, что опять часто буду встречать его. Вот его первая программа, которую я нашел у себя на столе за завтраком и храню с тех пор как реликвию светлых дней:
Mesdames et Messieurs!
Mademoiselle Ferrario et m-r de Vauversin auront l'honneur de chanter ce soir les morceaux suivants:
Mademoiselle Ferrario chantera: – Mignon. – Oiseaux Lеgers. – France. – Des fran?ais dorment lа. – Le ch?teau bleu. – Ou voulez vous aller?
M-r de Vauversin: – Madame Fontaine et m-r Robinet. – Les plongeurs а cheval. – Le mari mеcontent. – Tais-toi, gamin. – Mon voisin l'original. – Heureux comme pa. – Comme on est trompe[4 - Милостивые государыни и государи! Мадемуазель Ферарио и господин де Воверсен будут иметь честь сегодня вечером исполнить следующие номера:Мадемуазель Ферарио пропоет: – Миньона. – Прошу вас птички об одном. – Франция. – Французы, спящие там. – Синий замок. – Куда хотите вы идти?Господин де Воверсен исполнит: – Госпожа Фонтен (водоем) и господин Робине (кран). – Пловцы на лошади. – Недовольный муж. – Молчи, мальчишка. – Мой сосед-чудак. – Счастливый таким образом. – Как бывают обмануты.].
Они устроили подмостки в одном конце столовой. И какой вид был у господина де Воверсена в то время, как он с папироской в зубах пощипывал гитару и следил за глазами мадемуазель Ферарио послушным взглядом собаки. Такие развлечения стоят на одной степени с томболой или покупкой лотерейных билетов; они прекрасное удовольствие со всем возбуждением игры и без надежды на выигрыш, вселяющий в вас стыд за вашу горячность. Ведь в этом случае для вас все проигрыш. Вы то и дело опускаете руку в карман; люди состязаются, кто больше истратит денег в пользу господина де Воверсена и мадемуазель Ферарио.
Господин де Воверсен – маленький человечек с большой черноволосой головой. Лицо его живо и приветливо; улыбка имела бы замечательную привлекательность, будь его зубы получше. Когда-то он был актером в Шателе, но, заболев нервным расстройством от жары и яркого света рампы, он покинул сцену. Во время этого кризиса мадемуазель Ферарио, или Рита из Альказара, согласилась разделить его скитания. «Я не мог забыть великодушие этой женщины», – сказал он. Господин де Воверсен носит такие узкие панталоны, что все знающие его долго ломали голову, как он надевает и снимает их. Он немного пишет акварелью, сочиняет стихи; он самый терпеливый рыбак на свете и проводит долгие дни в глубине сада гостиницы, бесплодно забрасывая удочку в светлую реку.
Послушали бы вы, как он рассказывает о случаях из своей жизни за бутылкой вина. Он так хорошо, так охотно говорит, улыбаясь над собственными злоключениями, время от времени впадая в серьезность, как человек, слышащий прибой над пучиной, потому что, может быть, не далее как вчера, его сбор достиг только полутора франков на покрытие трех франков дорожных издержек и двух, ушедших на плату за комнату и еду. Мэр, человек с миллионным состоянием, сидел против сцены и все время аплодировал мадемуазель Ферарио, а между тем заплатил только три су. Местные власти так дурно смотрят на странствующих артистов. Увы, я хорошо знаю это, так как меня самого приняли однажды за бродячего актера и посадили в тюрьму в силу недоразумения. Однажды господин де Воверсен был у полицейского комиссара, чтобы попросить у него разрешения петь. Комиссар, куривший папиросу, вежливо снял шляпу. «Господин комиссар, – начал Воверсен, – я артист». Шляпа комиссара отправилась на прежнее место. Товарищи Аполлона не удостаиваются вежливости. «Их унижают вот так», – сказал господин де Воверсен, ударив по папироске.
Но больше всего мне понравился взрыв его чувства, когда однажды мы целый вечер говорили о неприятностях, унижениях его бродячего существования. Кто-то заметил, что было бы приятнее иметь миллион, и мадемуазель Ферарио сказала, что она променяла бы свою жизнь на жизнь миллионерши.
– Eh bien, moi non, я нет! – крикнул де Воверсен, ударив кулаком по столу. – Кто больше меня неудачник? У меня было искусство, в котором я шел хорошо, не хуже других, а теперь оно закрыто для меня. Я принужден разъезжать, собирая медные монеты и распевая разные глупости. Но неужели вы думаете, что я недоволен существованием? Неужели вы думаете что я предпочел бы сделаться жирным буржуа, спокойным, как откормленный теленок? Нет, нет. Иногда мне аплодировали на сцене, и это не волновало меня. Но порой, в те разы, когда в зале не раздавалось ни хлопка, я сам чувствовал, что нашел правильную интонацию или выразительный жест, и тогда, господа, я понимал, что значит хорошо выполнить свою задачу, что значит быть артистом. Тот, кто знает, что такое искусство, имеет вечный интерес в жизни, и такой, какого не переживает буржуа в своих меркантильных понятиях. Tenez, messieur, je vais vous le dire – это похоже на религию.
Таково было исповедание веры господина де Воверсена; конечно, я привел его с некоторыми отступлениями, зависящими от недостатка памяти и неточности перевода. Я назвал Воверсена его собственным именем, чтобы другой странник, если он встретит этого милого артиста с его гитарой, папироской и мадемуазель Ферарио, узнал его. Ведь каждый с восторгом почтит этого несчастливого и верного последователя муз. Да пошлет ему Аполлон до сих пор неведомые рифмы! Да не будет река более скупиться, пряча от его удочки своих серебристых рыб! Да не будет холод щипать его во время долгих зимних переездов, или деревенские власти оскорблять невежливыми манерами! Да не потеряет он никогда мадемуазель Ферарио, за которой следит внимательными глазами, аккомпанируя ей на гитаре!
Марионетки были жалким развлечением. Они сыграли пьесу под названием «Пирам и Тизба» в пяти смертельно длинных актах, написанных александрийскими стихами, такими же длинными, как сами действующие лица. Одна марионетка была королем, другая дурным советчиком, третья, одаренная изумительной красотой, изображала Тизбу; кроме того, на сцене являлись стражники, жестокие отцы и странствующие джентльмены. В течение двух-трех актов, которые я смотрел, не случилось ничего особенного, но вы с удовольствием услышите, что единство было соблюдено, и пьеса, за одним исключением, подчинялась весьма классическим правилам. Это исключение составлял комический крестьянин, худая марионетка в деревянных башмаках. Кукла говорила прозой на простонародном языке, очень нравившемся зрителям. Крестьянин обращался чрезмерно свободно с личностями своего государя, бил товарищей-марионеток в лицо деревянными башмаками и в то время, когда на сцене не было ни одного из ухаживателей Тизбы, говорящих стихами, комической прозой признавался ей в любви.
Игра этого малого и маленький пролог, в котором содержатель кукольного театра юмористически хвалил свою труппу, прославляя актеров за их полное равнодушие к аплодисментам и свисткам и за их преданность искусству, только и вызвали мою улыбку. Но обитатели Преси, казалось, были в восторге. Действительно, если вам показывают что-либо, за что вы заплатили, вы почти наверно останетесь довольны. Если бы с вас брали плату за право смотреть на закаты солнца или если бы Бог посылал вестников с барабанами перед расцветом боярышников, как много говорили бы мы о красоте тех и других. Но мы привыкаем к этим явлениям, как к хорошим товарищам; глупые люди скоро перестают замечать их, и торгаш, в широком значении этого слова, едет и не видит цветов, красующихся вдоль дороги, или красоты неба над головой.
Глава XXIII
Обратно в свет
О том, что случилось во время двух последовавших за тем дней, у меня осталось мало в уме и почти ничего в моей записной книжке. Река спокойно катилась между прибрежными пейзажами. Прачки в синих платьях и рыбаки в синих блузах разнообразили зеленые берега; смешение этих двух цветов казалось соединением листьев и цветов незабудки. Симфония незабудок. Я думаю, Теофил Готье мог бы так характеризовать двухдневную панораму, проходившую перед нашими глазами. Небо было чисто и безоблачно, и в спокойных местах поверхность реки служила зеркалом для неба и берегов. Прачки весело окликали нас, а шелест деревьев и шум воды служили аккомпанементом нашей дремоты.
Величина реки и ее неутомимое стремление сковывали наш ум. Теперь она казалась уверенной, спокойной и сильной, точно взрослый решительный человек. Валы прибоя шумели, ожидая ее на отмелях Гавра.
Скользя в моей байдарке, походившей на скрипичный ящик, я также чувствовал близость моего океана. Каждый цивилизованный человек, рано или поздно, начинает жаждать цивилизации. Мне надоело грести, мне надоело жить вне жизни, мне захотелось погрузиться в нее, захотелось работать; мне захотелось видеть людей, которые понимали бы мою речь, стояли бы со мной на равной ноге и смотрели на меня, как на человека, а не как на редкость.
Письмо, полученное в Понтуазе, заставило нас решиться, и мы в последний раз вытащили наши байдарки из Уазы, которая долгое время несла их на себе под дождем и солнечным светом. Столько миль это жидкое безногое возовое животное было связано с нашей судьбой, и, отвернувшись от него, мы почувствовали ощущение разлуки. Мы удалились от света, странствовали вне его, теперь же снова вернулись в знакомые места, в которых сама жизнь несет нас, и нам не нужно ударять веслом, чтобы сталкиваться с приключениями. Теперь нам предстояло увидеть, какие усовершенствования произошли за наше отсутствие кругом нас, какие неожиданности караулили нас дома, и куда, и как пропутешествовал свет. Можно грести целый день, но, вернувшись вечером домой и заглянув в знакомую комнату, увидеть, что у очага тебя поджидает любовь или смерть. И, право, не те приключения, за которыми отправляемся мы, самые лучшие!
Эпилог
Местность, где они теперь путешествовали, зеленая, освежаемая ветерком долина Луана, способна пленить людей жизнерадостных и одиноких. Погода стояла великолепная: по ночам гремел гром, сверкала молния, и дождь лил потоками; а днем – безоблачное небо, жаркое солнце, прозрачный и чистый воздух. Шли они врозь; Сигаретка, с довольно философским видом, тащился где-то сзади, худощавый Аретуза торопился вперед.
Таким образом, каждый мог предаваться в пути собственным своим размышлениям; каждому, вероятно, они успевали порядком наскучить ко времени условленной встречи с попутчиком в каком-нибудь трактире, и их день был заполнен всеми удовольствиями компании и одиночества. В сумке у Аретузы были сочинения Карла Орлеанского, и он в течение нескольких часов пути занимался стряпней английских хороводных песен. На этом поприще он был предшественником Лэнга, Добсона, Хенлея и всех современных хороводных поэтов; но, по уважительным причинам, он опубликует свои труды самыми последними. Сигаретка же был обременен томом сочинений Мишле. Обе эти книги, как скоро будет видно, сыграли роль в предстоящем приключении.
Аретуза был в неблагоразумном одеянии. Он вообще не строг в выборе своей одежды, но, конечно, он никогда еще не был под таким злополучным влиянием, как на этот раз: дело в том, что он, без долгих сборов, отправился в путь из наименее чопорного места во всей Европе – из Барбизона. На голове у него была индусская тюбетейка, на которой золотое шитье плачевным образом потерлось и потускнело. Фланелевая рубаха приятного темного цвета, которую люди, склонные к сатире, называли черной, легкий пикейный пиджак, сшитый хорошим английским портным, купленные готовые дешевые полотняные брюки и кожаные штиблеты составляли его наряд. По внешности, он был на редкость худощав, а его лицо, в отличие от лиц более счастливых смертных, не могло служить удостоверением благонадежности. За все эти годы каждый его переезд через границу, каждое его посещение банка возбуждало подозрения; полиция косилась на него всюду, кроме его родного города; и (хотя я уверен, что это покажется неправдоподобным), ему решительно закрыт доступ в казино в Монте-Карло. Представьте его в вышеописанном костюме, вообразите его, согбенного под тяжестью сумки, идущего со скоростью около пяти миль в час, так что складки полотняных брюк развеваются вокруг его веретенообразных ног, и все время с живым вниманием смотрящего по сторонам, как будто его кто преследовал по пятам, – и фигура, которая получится, далеко не внушит вам доверия. Когда Виллон отправлялся к месту своего изгнания в Руссильоне (и проходил, быть может, именно через эту прелестную долину), то не было ли в его внешности чего-нибудь похожего? Что он коротал свое время подобным же образом, в том нет сомнения, потому что и он в дороге сочинял стихи, но с большим успехом, чем его последователь. И если на его долю выпало что-нибудь похожее на эту вдохновляющую погоду с ее бушующими ночами, когда люди в латных доспехах грохочут и с гулким топотом сбегают по небесным лестницам и когда дождь хлещет на улицах деревни, а свирепые отблески грозы до утра озаряют внезапными вспышками голые стены трактирного номера, и с теми же повторениями ясного утра, бездонной полуденной синевы и пылающего спокойного заката, и, в особенности, если у него был такой же хороший товарищ, и он находил такое же острое наслаждение во всем, что он видел, что ел, в той реке, где он купался и в той дребедени, которую он писал, то я бы сейчас же согласился поменяться своей участью с бедным изгнанником и считал бы себя в барышах.
Но между этими двумя путешественниками была и другая черта сходства, за которую Аретузе пришлось дорого поплатиться: и тот и другой странствовали в не совсем безопасное время. Это было некоторое время спустя после франко-прусской войны. Хоть люди и быстро все забывают, но в этой местности еще живы были предания об уланах, о часовых на форпостах, о чудесных спасениях от позорной петли и о приятной, но мимолетной дружбе между победителями и побежденными. Через год, самое большее через два, вы могли бы обойти всю местность вдоль и поперек и не услышать ни единого анекдота. И через год или два (если б вы и были подозрительным с виду молодым человеком в несуразном костюме), вы могли бы совершить вашу прогулку с большею безопасностью, потому что, наряду с другими, более интересными подробностями, прусский шпион к тому времени несколько потускнел бы в воображении людей.
Как бы то ни было, наш путешественник уже миновал Шато-Ренар, когда он впервые почувствовал, что возбуждает всеобщее удивление. По пути, между этим местом и Шатильон-сюр-Луаном, он встретил сельского почтальона; они заговорили друг с другом и продолжали беседовать о всякой всячине, но при этом заметно было, что почтальон занят какою-то неотвязной мыслью, и его глаза часто возвращались к сумке Аретузы. Наконец, он с таинственным лукавством осведомился о ее содержимом и, получив ответ, с ласковой недоверчивостью покачал головою. «Non, – сказал он, – non, vous avez des portraits». Потом добавил каким-то протяжным, умоляющим тоном: «Voyons, покажите мне портреты». Лишь по прошествии некоторого времени Аретуза понял, на что он намекает, понял и расхохотался. Говоря о «портретах», он подразумевал фотографические карточки непристойного содержания, а в Аретузе, в этом строгом нарождавшемся авторе, он, ему казалось, распознал бродячего торговца порнографией! Если французский крестьянин своим умом припишет кому-нибудь определенный род занятий, то никакие доводы не способны его в этом разуверить. И почтальон всю остальную дорогу тянул свою медовую песню, прося, чтоб ему хоть разок дали взглянуть на коллекцию; то он упрекал, то начинал уговаривать: «Voyons, я никому не скажу»; прибегал даже к подкупу и хотел во что бы то ни стало заплатить за стакан вина; и, наконец, расставаясь на перекрестке, сказал: «Non ce n'est pas bien de votre part. O, non ce n'est pas bien». И качая головой с грустным сознанием понесенной несправедливости, он так и ушел, не получив удовлетворения.
Я не располагаю возможностями, чтобы входить в подробности некоторых мелких затруднений, встреченных Аретузою в Шатильон-сюр-Луане; слишком близко высится другой Шатильон, с которым связаны более леденящие воспоминания. На другой день, проходя через деревню, которая называется La Jussiere, он остановился выпить стакан сиропу в очень бедной и почти пустой распивочной лавчонке. Хозяйка, пригожая женщина, кормила грудью ребенка и в то же время ласково и сострадательно разглядывала путешественника. «Вы не здешнего департамента?» – спросила она. Аретуза ответил ей, что он англичанин. «А»! – промолвила она с изумлением. – «У нас тут нет англичан. Итальянцев довольно много и живется им очень хорошо, на здешний народ не жалуются. Ну, англичанину тоже можно здесь прожить: он новизной возьмет». Эти слова были загадочны, и Аретуза ломал над ними голову, допивая свое гранатовое питье, но когда он встал и спросил, сколько надо заплатить, то догадка озарила его внезапно, как молния. «О, pour vous, – ответила хозяйка, – полпенни!» – «Pour vous? Боже мой, она приняла его за нищего!» Он заплатил полпенни, чувствуя, что поправить ее было бы слишком невежливо. Но как только он пустился в дальнейший путь, досада начала мучить его. Наша совесть чуждается джентльменского великодушия, скорее она склонна к раввинизму; и совесть Аретузы говорила ему, что он украл стакан сиропу.
Путники переночевали в Жиане. На следующий день они переправились через реку и, направляясь в Шатильон-сюр-Луар, приступили (порознь, как всегда) к следующему небольшому этапу, лежавшему среди зеленых равнин беррийского берега. Это было как раз в день открытия охотничьего сезона; в воздухе то и дело раздавались ружейные выстрелы и восторженные крики охотников. Над головой встревоженные птицы кружились стаями, садились и снова взлетали. Но несмотря на всю эту окружавшую суматоху, дорога была безлюдна. Аретуза, присев у верстового столба, закурил трубку, и я хорошо помню его подробные размышления насчет всего, что ему предстояло в Шатильоне: с каким наслаждением он окунется в холодную воду, как он переменит рубаху и как он, в восторженном бездействии будет поджидать Сигаретку на берегах Луары. Воспламенившись этими мечтаниями, он с тем большей стремительностью пустился вперед и вскоре, после полудня, изнывая от жары, приблизился ко входу в этот злополучный город. «Роланд-Оруженосец к башне мрачной подошел».
Тень учтивого жандарма упала поперек дороги.
– Monsieur est voyageur? – спросил он.
И Аретуза, уверенный в своей невиновности и совершенно забывший о своем преступном костюме, ответил… Я готов сказать, шутливым тоном: «По-видимому, так».
– Ваши бумаги в порядке? – осведомился жандарм. И когда Аретуза несколько изменившимся голосом признался, что у него таковых с собою нет, то ему было заявлено (в достаточно учтивой форме), что он должен будет явиться к комиссару.
Комиссар сидел в своей спальне за столом; он снял с себя все, кроме рубахи и панталон, но все-таки обливался потом; и когда он повернул к арестованному свое широкое бессмысленное лицо, которое (как у Бардольфа) «все состояло из бородавок и прыщей», то даже самый непроницательный наблюдатель должен был предчувствовать нечто недоброе. Очевидно, это был человек тупой, одурелый к тому же от жары и раздосадованный тем, что нарушили его покой; его не проймешь ни просьбами, ни доводами разума.
Комиссар. У вас не оказалось бумаг?
Аретуза. С собой их не имею.
Комиссар. Почему?
Аретуза. Они следуют за мной в чемодане.
Комиссар. Но вы же знаете, что путешествовать без документов запрещено?
Аретуза. Простите, я убежден в противном. Я нахожусь здесь на основании своих прав – английского подданного, и это подтверждено международным договором.
Комиссар (презрительно). Вы именуете себя англичанином?
Аретуза. Да.
Комиссар. Гм… Ваш род занятий?
Аретуза. Я – шотландский адвокат.
Комиссар (с видом нетерпеливой досады). Шотландский адвокат! Неужели вы станете еще утверждать, что вы в нашем департаменте добываете себе пропитание этой практикой?
Аретуза скромно возразил, что он вовсе не питает подобных притязаний. Комиссар что-то отметил на бумаге.
Комиссар. Зачем же вы в таком случае путешествуете?
Аретуза. Я путешествую для своего удовольствия.
Когда я уходил, мой комедиант поднялся со шляпой в руке.
– Я боюсь, – сказал он, – что monsieur сочтет меня попрошайкой, но у меня есть к нему еще одна просьба. – В эту минуту я возненавидел его. – Мы опять играем сегодня вечером, – продолжал актер. – Конечно, я откажусь от денег monsieur и его друзей, которые уже были так щедры. Но сегодняшняя наша программа действительно хороша, и я надеюсь, что monsieur почтит нас своим присутствием. – И, пожав плечами, он прибавил с улыбкой: – Monsieur понимает тщеславие артиста.
Скажите на милость, тщеславие артиста! Такого рода вещи мирят меня с жизнью: оборванный, жалкий, невежественный бродяга с манерами джентльмена, и тщеславие артиста, которое поддерживает самоуважение!
Но больше всего мне по сердцу господин Воверсен. Я в первый раз видел его два года тому назад и надеюсь, что опять часто буду встречать его. Вот его первая программа, которую я нашел у себя на столе за завтраком и храню с тех пор как реликвию светлых дней:
Mesdames et Messieurs!
Mademoiselle Ferrario et m-r de Vauversin auront l'honneur de chanter ce soir les morceaux suivants:
Mademoiselle Ferrario chantera: – Mignon. – Oiseaux Lеgers. – France. – Des fran?ais dorment lа. – Le ch?teau bleu. – Ou voulez vous aller?
M-r de Vauversin: – Madame Fontaine et m-r Robinet. – Les plongeurs а cheval. – Le mari mеcontent. – Tais-toi, gamin. – Mon voisin l'original. – Heureux comme pa. – Comme on est trompe[4 - Милостивые государыни и государи! Мадемуазель Ферарио и господин де Воверсен будут иметь честь сегодня вечером исполнить следующие номера:Мадемуазель Ферарио пропоет: – Миньона. – Прошу вас птички об одном. – Франция. – Французы, спящие там. – Синий замок. – Куда хотите вы идти?Господин де Воверсен исполнит: – Госпожа Фонтен (водоем) и господин Робине (кран). – Пловцы на лошади. – Недовольный муж. – Молчи, мальчишка. – Мой сосед-чудак. – Счастливый таким образом. – Как бывают обмануты.].
Они устроили подмостки в одном конце столовой. И какой вид был у господина де Воверсена в то время, как он с папироской в зубах пощипывал гитару и следил за глазами мадемуазель Ферарио послушным взглядом собаки. Такие развлечения стоят на одной степени с томболой или покупкой лотерейных билетов; они прекрасное удовольствие со всем возбуждением игры и без надежды на выигрыш, вселяющий в вас стыд за вашу горячность. Ведь в этом случае для вас все проигрыш. Вы то и дело опускаете руку в карман; люди состязаются, кто больше истратит денег в пользу господина де Воверсена и мадемуазель Ферарио.
Господин де Воверсен – маленький человечек с большой черноволосой головой. Лицо его живо и приветливо; улыбка имела бы замечательную привлекательность, будь его зубы получше. Когда-то он был актером в Шателе, но, заболев нервным расстройством от жары и яркого света рампы, он покинул сцену. Во время этого кризиса мадемуазель Ферарио, или Рита из Альказара, согласилась разделить его скитания. «Я не мог забыть великодушие этой женщины», – сказал он. Господин де Воверсен носит такие узкие панталоны, что все знающие его долго ломали голову, как он надевает и снимает их. Он немного пишет акварелью, сочиняет стихи; он самый терпеливый рыбак на свете и проводит долгие дни в глубине сада гостиницы, бесплодно забрасывая удочку в светлую реку.
Послушали бы вы, как он рассказывает о случаях из своей жизни за бутылкой вина. Он так хорошо, так охотно говорит, улыбаясь над собственными злоключениями, время от времени впадая в серьезность, как человек, слышащий прибой над пучиной, потому что, может быть, не далее как вчера, его сбор достиг только полутора франков на покрытие трех франков дорожных издержек и двух, ушедших на плату за комнату и еду. Мэр, человек с миллионным состоянием, сидел против сцены и все время аплодировал мадемуазель Ферарио, а между тем заплатил только три су. Местные власти так дурно смотрят на странствующих артистов. Увы, я хорошо знаю это, так как меня самого приняли однажды за бродячего актера и посадили в тюрьму в силу недоразумения. Однажды господин де Воверсен был у полицейского комиссара, чтобы попросить у него разрешения петь. Комиссар, куривший папиросу, вежливо снял шляпу. «Господин комиссар, – начал Воверсен, – я артист». Шляпа комиссара отправилась на прежнее место. Товарищи Аполлона не удостаиваются вежливости. «Их унижают вот так», – сказал господин де Воверсен, ударив по папироске.
Но больше всего мне понравился взрыв его чувства, когда однажды мы целый вечер говорили о неприятностях, унижениях его бродячего существования. Кто-то заметил, что было бы приятнее иметь миллион, и мадемуазель Ферарио сказала, что она променяла бы свою жизнь на жизнь миллионерши.
– Eh bien, moi non, я нет! – крикнул де Воверсен, ударив кулаком по столу. – Кто больше меня неудачник? У меня было искусство, в котором я шел хорошо, не хуже других, а теперь оно закрыто для меня. Я принужден разъезжать, собирая медные монеты и распевая разные глупости. Но неужели вы думаете, что я недоволен существованием? Неужели вы думаете что я предпочел бы сделаться жирным буржуа, спокойным, как откормленный теленок? Нет, нет. Иногда мне аплодировали на сцене, и это не волновало меня. Но порой, в те разы, когда в зале не раздавалось ни хлопка, я сам чувствовал, что нашел правильную интонацию или выразительный жест, и тогда, господа, я понимал, что значит хорошо выполнить свою задачу, что значит быть артистом. Тот, кто знает, что такое искусство, имеет вечный интерес в жизни, и такой, какого не переживает буржуа в своих меркантильных понятиях. Tenez, messieur, je vais vous le dire – это похоже на религию.
Таково было исповедание веры господина де Воверсена; конечно, я привел его с некоторыми отступлениями, зависящими от недостатка памяти и неточности перевода. Я назвал Воверсена его собственным именем, чтобы другой странник, если он встретит этого милого артиста с его гитарой, папироской и мадемуазель Ферарио, узнал его. Ведь каждый с восторгом почтит этого несчастливого и верного последователя муз. Да пошлет ему Аполлон до сих пор неведомые рифмы! Да не будет река более скупиться, пряча от его удочки своих серебристых рыб! Да не будет холод щипать его во время долгих зимних переездов, или деревенские власти оскорблять невежливыми манерами! Да не потеряет он никогда мадемуазель Ферарио, за которой следит внимательными глазами, аккомпанируя ей на гитаре!
Марионетки были жалким развлечением. Они сыграли пьесу под названием «Пирам и Тизба» в пяти смертельно длинных актах, написанных александрийскими стихами, такими же длинными, как сами действующие лица. Одна марионетка была королем, другая дурным советчиком, третья, одаренная изумительной красотой, изображала Тизбу; кроме того, на сцене являлись стражники, жестокие отцы и странствующие джентльмены. В течение двух-трех актов, которые я смотрел, не случилось ничего особенного, но вы с удовольствием услышите, что единство было соблюдено, и пьеса, за одним исключением, подчинялась весьма классическим правилам. Это исключение составлял комический крестьянин, худая марионетка в деревянных башмаках. Кукла говорила прозой на простонародном языке, очень нравившемся зрителям. Крестьянин обращался чрезмерно свободно с личностями своего государя, бил товарищей-марионеток в лицо деревянными башмаками и в то время, когда на сцене не было ни одного из ухаживателей Тизбы, говорящих стихами, комической прозой признавался ей в любви.
Игра этого малого и маленький пролог, в котором содержатель кукольного театра юмористически хвалил свою труппу, прославляя актеров за их полное равнодушие к аплодисментам и свисткам и за их преданность искусству, только и вызвали мою улыбку. Но обитатели Преси, казалось, были в восторге. Действительно, если вам показывают что-либо, за что вы заплатили, вы почти наверно останетесь довольны. Если бы с вас брали плату за право смотреть на закаты солнца или если бы Бог посылал вестников с барабанами перед расцветом боярышников, как много говорили бы мы о красоте тех и других. Но мы привыкаем к этим явлениям, как к хорошим товарищам; глупые люди скоро перестают замечать их, и торгаш, в широком значении этого слова, едет и не видит цветов, красующихся вдоль дороги, или красоты неба над головой.
Глава XXIII
Обратно в свет
О том, что случилось во время двух последовавших за тем дней, у меня осталось мало в уме и почти ничего в моей записной книжке. Река спокойно катилась между прибрежными пейзажами. Прачки в синих платьях и рыбаки в синих блузах разнообразили зеленые берега; смешение этих двух цветов казалось соединением листьев и цветов незабудки. Симфония незабудок. Я думаю, Теофил Готье мог бы так характеризовать двухдневную панораму, проходившую перед нашими глазами. Небо было чисто и безоблачно, и в спокойных местах поверхность реки служила зеркалом для неба и берегов. Прачки весело окликали нас, а шелест деревьев и шум воды служили аккомпанементом нашей дремоты.
Величина реки и ее неутомимое стремление сковывали наш ум. Теперь она казалась уверенной, спокойной и сильной, точно взрослый решительный человек. Валы прибоя шумели, ожидая ее на отмелях Гавра.
Скользя в моей байдарке, походившей на скрипичный ящик, я также чувствовал близость моего океана. Каждый цивилизованный человек, рано или поздно, начинает жаждать цивилизации. Мне надоело грести, мне надоело жить вне жизни, мне захотелось погрузиться в нее, захотелось работать; мне захотелось видеть людей, которые понимали бы мою речь, стояли бы со мной на равной ноге и смотрели на меня, как на человека, а не как на редкость.
Письмо, полученное в Понтуазе, заставило нас решиться, и мы в последний раз вытащили наши байдарки из Уазы, которая долгое время несла их на себе под дождем и солнечным светом. Столько миль это жидкое безногое возовое животное было связано с нашей судьбой, и, отвернувшись от него, мы почувствовали ощущение разлуки. Мы удалились от света, странствовали вне его, теперь же снова вернулись в знакомые места, в которых сама жизнь несет нас, и нам не нужно ударять веслом, чтобы сталкиваться с приключениями. Теперь нам предстояло увидеть, какие усовершенствования произошли за наше отсутствие кругом нас, какие неожиданности караулили нас дома, и куда, и как пропутешествовал свет. Можно грести целый день, но, вернувшись вечером домой и заглянув в знакомую комнату, увидеть, что у очага тебя поджидает любовь или смерть. И, право, не те приключения, за которыми отправляемся мы, самые лучшие!
Эпилог
Местность, где они теперь путешествовали, зеленая, освежаемая ветерком долина Луана, способна пленить людей жизнерадостных и одиноких. Погода стояла великолепная: по ночам гремел гром, сверкала молния, и дождь лил потоками; а днем – безоблачное небо, жаркое солнце, прозрачный и чистый воздух. Шли они врозь; Сигаретка, с довольно философским видом, тащился где-то сзади, худощавый Аретуза торопился вперед.
Таким образом, каждый мог предаваться в пути собственным своим размышлениям; каждому, вероятно, они успевали порядком наскучить ко времени условленной встречи с попутчиком в каком-нибудь трактире, и их день был заполнен всеми удовольствиями компании и одиночества. В сумке у Аретузы были сочинения Карла Орлеанского, и он в течение нескольких часов пути занимался стряпней английских хороводных песен. На этом поприще он был предшественником Лэнга, Добсона, Хенлея и всех современных хороводных поэтов; но, по уважительным причинам, он опубликует свои труды самыми последними. Сигаретка же был обременен томом сочинений Мишле. Обе эти книги, как скоро будет видно, сыграли роль в предстоящем приключении.
Аретуза был в неблагоразумном одеянии. Он вообще не строг в выборе своей одежды, но, конечно, он никогда еще не был под таким злополучным влиянием, как на этот раз: дело в том, что он, без долгих сборов, отправился в путь из наименее чопорного места во всей Европе – из Барбизона. На голове у него была индусская тюбетейка, на которой золотое шитье плачевным образом потерлось и потускнело. Фланелевая рубаха приятного темного цвета, которую люди, склонные к сатире, называли черной, легкий пикейный пиджак, сшитый хорошим английским портным, купленные готовые дешевые полотняные брюки и кожаные штиблеты составляли его наряд. По внешности, он был на редкость худощав, а его лицо, в отличие от лиц более счастливых смертных, не могло служить удостоверением благонадежности. За все эти годы каждый его переезд через границу, каждое его посещение банка возбуждало подозрения; полиция косилась на него всюду, кроме его родного города; и (хотя я уверен, что это покажется неправдоподобным), ему решительно закрыт доступ в казино в Монте-Карло. Представьте его в вышеописанном костюме, вообразите его, согбенного под тяжестью сумки, идущего со скоростью около пяти миль в час, так что складки полотняных брюк развеваются вокруг его веретенообразных ног, и все время с живым вниманием смотрящего по сторонам, как будто его кто преследовал по пятам, – и фигура, которая получится, далеко не внушит вам доверия. Когда Виллон отправлялся к месту своего изгнания в Руссильоне (и проходил, быть может, именно через эту прелестную долину), то не было ли в его внешности чего-нибудь похожего? Что он коротал свое время подобным же образом, в том нет сомнения, потому что и он в дороге сочинял стихи, но с большим успехом, чем его последователь. И если на его долю выпало что-нибудь похожее на эту вдохновляющую погоду с ее бушующими ночами, когда люди в латных доспехах грохочут и с гулким топотом сбегают по небесным лестницам и когда дождь хлещет на улицах деревни, а свирепые отблески грозы до утра озаряют внезапными вспышками голые стены трактирного номера, и с теми же повторениями ясного утра, бездонной полуденной синевы и пылающего спокойного заката, и, в особенности, если у него был такой же хороший товарищ, и он находил такое же острое наслаждение во всем, что он видел, что ел, в той реке, где он купался и в той дребедени, которую он писал, то я бы сейчас же согласился поменяться своей участью с бедным изгнанником и считал бы себя в барышах.
Но между этими двумя путешественниками была и другая черта сходства, за которую Аретузе пришлось дорого поплатиться: и тот и другой странствовали в не совсем безопасное время. Это было некоторое время спустя после франко-прусской войны. Хоть люди и быстро все забывают, но в этой местности еще живы были предания об уланах, о часовых на форпостах, о чудесных спасениях от позорной петли и о приятной, но мимолетной дружбе между победителями и побежденными. Через год, самое большее через два, вы могли бы обойти всю местность вдоль и поперек и не услышать ни единого анекдота. И через год или два (если б вы и были подозрительным с виду молодым человеком в несуразном костюме), вы могли бы совершить вашу прогулку с большею безопасностью, потому что, наряду с другими, более интересными подробностями, прусский шпион к тому времени несколько потускнел бы в воображении людей.
Как бы то ни было, наш путешественник уже миновал Шато-Ренар, когда он впервые почувствовал, что возбуждает всеобщее удивление. По пути, между этим местом и Шатильон-сюр-Луаном, он встретил сельского почтальона; они заговорили друг с другом и продолжали беседовать о всякой всячине, но при этом заметно было, что почтальон занят какою-то неотвязной мыслью, и его глаза часто возвращались к сумке Аретузы. Наконец, он с таинственным лукавством осведомился о ее содержимом и, получив ответ, с ласковой недоверчивостью покачал головою. «Non, – сказал он, – non, vous avez des portraits». Потом добавил каким-то протяжным, умоляющим тоном: «Voyons, покажите мне портреты». Лишь по прошествии некоторого времени Аретуза понял, на что он намекает, понял и расхохотался. Говоря о «портретах», он подразумевал фотографические карточки непристойного содержания, а в Аретузе, в этом строгом нарождавшемся авторе, он, ему казалось, распознал бродячего торговца порнографией! Если французский крестьянин своим умом припишет кому-нибудь определенный род занятий, то никакие доводы не способны его в этом разуверить. И почтальон всю остальную дорогу тянул свою медовую песню, прося, чтоб ему хоть разок дали взглянуть на коллекцию; то он упрекал, то начинал уговаривать: «Voyons, я никому не скажу»; прибегал даже к подкупу и хотел во что бы то ни стало заплатить за стакан вина; и, наконец, расставаясь на перекрестке, сказал: «Non ce n'est pas bien de votre part. O, non ce n'est pas bien». И качая головой с грустным сознанием понесенной несправедливости, он так и ушел, не получив удовлетворения.
Я не располагаю возможностями, чтобы входить в подробности некоторых мелких затруднений, встреченных Аретузою в Шатильон-сюр-Луане; слишком близко высится другой Шатильон, с которым связаны более леденящие воспоминания. На другой день, проходя через деревню, которая называется La Jussiere, он остановился выпить стакан сиропу в очень бедной и почти пустой распивочной лавчонке. Хозяйка, пригожая женщина, кормила грудью ребенка и в то же время ласково и сострадательно разглядывала путешественника. «Вы не здешнего департамента?» – спросила она. Аретуза ответил ей, что он англичанин. «А»! – промолвила она с изумлением. – «У нас тут нет англичан. Итальянцев довольно много и живется им очень хорошо, на здешний народ не жалуются. Ну, англичанину тоже можно здесь прожить: он новизной возьмет». Эти слова были загадочны, и Аретуза ломал над ними голову, допивая свое гранатовое питье, но когда он встал и спросил, сколько надо заплатить, то догадка озарила его внезапно, как молния. «О, pour vous, – ответила хозяйка, – полпенни!» – «Pour vous? Боже мой, она приняла его за нищего!» Он заплатил полпенни, чувствуя, что поправить ее было бы слишком невежливо. Но как только он пустился в дальнейший путь, досада начала мучить его. Наша совесть чуждается джентльменского великодушия, скорее она склонна к раввинизму; и совесть Аретузы говорила ему, что он украл стакан сиропу.
Путники переночевали в Жиане. На следующий день они переправились через реку и, направляясь в Шатильон-сюр-Луар, приступили (порознь, как всегда) к следующему небольшому этапу, лежавшему среди зеленых равнин беррийского берега. Это было как раз в день открытия охотничьего сезона; в воздухе то и дело раздавались ружейные выстрелы и восторженные крики охотников. Над головой встревоженные птицы кружились стаями, садились и снова взлетали. Но несмотря на всю эту окружавшую суматоху, дорога была безлюдна. Аретуза, присев у верстового столба, закурил трубку, и я хорошо помню его подробные размышления насчет всего, что ему предстояло в Шатильоне: с каким наслаждением он окунется в холодную воду, как он переменит рубаху и как он, в восторженном бездействии будет поджидать Сигаретку на берегах Луары. Воспламенившись этими мечтаниями, он с тем большей стремительностью пустился вперед и вскоре, после полудня, изнывая от жары, приблизился ко входу в этот злополучный город. «Роланд-Оруженосец к башне мрачной подошел».
Тень учтивого жандарма упала поперек дороги.
– Monsieur est voyageur? – спросил он.
И Аретуза, уверенный в своей невиновности и совершенно забывший о своем преступном костюме, ответил… Я готов сказать, шутливым тоном: «По-видимому, так».
– Ваши бумаги в порядке? – осведомился жандарм. И когда Аретуза несколько изменившимся голосом признался, что у него таковых с собою нет, то ему было заявлено (в достаточно учтивой форме), что он должен будет явиться к комиссару.
Комиссар сидел в своей спальне за столом; он снял с себя все, кроме рубахи и панталон, но все-таки обливался потом; и когда он повернул к арестованному свое широкое бессмысленное лицо, которое (как у Бардольфа) «все состояло из бородавок и прыщей», то даже самый непроницательный наблюдатель должен был предчувствовать нечто недоброе. Очевидно, это был человек тупой, одурелый к тому же от жары и раздосадованный тем, что нарушили его покой; его не проймешь ни просьбами, ни доводами разума.
Комиссар. У вас не оказалось бумаг?
Аретуза. С собой их не имею.
Комиссар. Почему?
Аретуза. Они следуют за мной в чемодане.
Комиссар. Но вы же знаете, что путешествовать без документов запрещено?
Аретуза. Простите, я убежден в противном. Я нахожусь здесь на основании своих прав – английского подданного, и это подтверждено международным договором.
Комиссар (презрительно). Вы именуете себя англичанином?
Аретуза. Да.
Комиссар. Гм… Ваш род занятий?
Аретуза. Я – шотландский адвокат.
Комиссар (с видом нетерпеливой досады). Шотландский адвокат! Неужели вы станете еще утверждать, что вы в нашем департаменте добываете себе пропитание этой практикой?
Аретуза скромно возразил, что он вовсе не питает подобных притязаний. Комиссар что-то отметил на бумаге.
Комиссар. Зачем же вы в таком случае путешествуете?
Аретуза. Я путешествую для своего удовольствия.