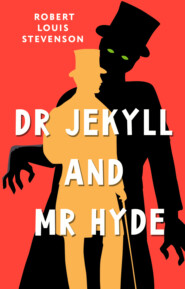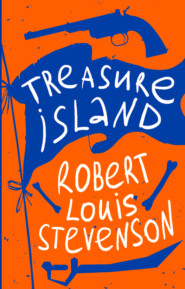По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда
Автор
Год написания книги
1886
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы знаете жизнь доктора, сэр, – ответил дворецкий, – и знаете также, как он запирается в своем доме. Ну-с, он опять затворился в кабинете, и это мне очень не нравится, сэр… право, хоть убейте меня, не нравится; мистер Утерсон, сэр, я боюсь…
– Милейший Пуль, – заметил адвокат, – прошу вас, говорите яснее. Чего вы боитесь?
– Целую неделю я боялся, – угрюмо продолжал Пуль, не обращая внимания на вопрос Утерсона, – и больше не могу выносить страха.
Наружность слуги дополняла его слова; его манеры страшно изменились к худшему. С тех пор, как Пуль сказал о своем ужасе, он ни разу не взглянул в лицо Утерсону, сидел, поставив нетронутым стакан вина на колено и не отрывая глаз от пола.
– Больше я не могу этого выносить, – повторил слуга.
– Ну, – заметил адвокат, – я вижу, Пуль, что у вас есть какие-то действительные причины бояться. Я вижу, что в доме доктора что-то очень неладно. Постарайтесь же объяснить мне, что происходит.
– Мне кажется, что совершается гнусное дело, – громко произнес Пуль.
– Гнусное дело! – вскрикнул адвокат, сильно испуганный и вследствие этого склонный к раздражению. – Какое именно? Что вы хотите сказать?
– Не осмеливаюсь, сэр, – был ответ. – Но не согласитесь ли вы пойти со мной и взглянуть сами?
Вместо ответа Утерсон поднялся с места, взял шляпу и накинул плащ. С удивлением он заметил успокоение, выразившееся на лице дворецкого; также удивило его и то обстоятельство, что стакан, который слуга поставил обратно на стол, был полон.
Стоял резкий, холодный августовский вечер, бледный месяц опрокинулся, точно ветер уронил его. По небу проносились легкие, прозрачные, оборванные облака. Ветер так сильно дул, что мешал говорить; к лицу приливала кровь. Можно было подумать, что дыхание воздуха смело всех прохожих с улиц, казавшихся Утерсону особенно безлюдными: ему чудилось, что он еще никогда не видал этой части Лондона такой пустынной. Между тем именно в этот вечер адвокат жаждал встречи, соприкосновения с себе подобными; еще ни разу в жизни не испытывал он такого острого гнета одиночества, потому что в его уме против воли зародилось тяжелое предчувствие несчастия. Когда Пуль и адвокат вышли на маленькую площадь, на них налетел порыв ветра, несший клубы пыли; чахлые деревья сада перегибались через ограду. Пуль, все время шедший шага на два впереди, теперь перешел на горбыль мостовой и, несмотря на холодную погоду, снял шляпу и отер лоб красным носовым платком. Не скорая ходьба разгорячила его; по-видимому, он вытирал пот, покрывший его лоб вследствие какого-то подавляющего страха, так как его лицо было бледно, а голос, когда он заговорил, сипел и прерывался.
– Ну, сэр, – сказал слуга, – вот мы и пришли, дай Бог, чтобы не оказалось никакой беды.
– Аминь, Пуль, – произнес адвокат.
Слуга постучался очень осторожно. Дверь открыли, не снимая цепи, и голос изнутри спросил:
– Это вы, Пуль?
– Да, – проговорил Пуль, – откройте дверь.
Когда они вошли в приемную, эта комната оказалась ярко освещенной: в камине горел огонь, и перед ним собрались все слуги Джекиля, мужчины и женщины, скучившись, как стадо овец. При виде Утерсона горничная истерически захныкала, а кухарка, вскрикнув: «Слава Богу, это мистер Утерсон», бросилась к нему, точно желая его обнять.
– Что это вы все здесь? – сердито заметил адвокат. – Это не дело, это неприлично; ваш хозяин был бы очень недоволен.
– Они все боятся, – заметил Пуль.
Наступило мертвое молчание, никто не говорил, только горничная плакала во весь голос.
– Да замолчите же! – крикнул ей Пуль с бешенством, говорившим, что и его нервы сильно расшатались.
Когда девушка так внезапно зарыдала, все остальные слуги вздрогнули и обернулись к внутренней двери с выражением боязливого ожидания.
– Теперь, – продолжал дворецкий, обращаясь к своему помощнику, – дайте мне свечу, и мы сразу закончим дело. – Затем он попросил Утерсона пойти с ним и направился к саду. – Сэр, – сказал он, – идите как можно тише. Я желаю, чтобы вы слышали, но не хочу, чтобы вас слышали. И смотрите, сэр, если бы он позвал вас к себе, не ходите.
Неожиданный конец речи так подействовал на нервы Утерсона, что он едва не потерял самообладания, но, собрав все свое мужество, прошел за дворецким в здание лаборатории, миновал анатомический театр с его хламом, опилками и остановился перед лестницей. Пуль жестом попросил Утерсона слушать, сам же поставил свечу и с большим видимым усилием над собой поднялся по ступеням и не вполне уверенной рукой постучал в дверь кабинета.
– Сэр, мистер Утерсон желает вас видеть, – сказал он и в то же время жестом предложил адвокату хорошенько слушать.
Изнутри послышался жалобный голос, произнесший:
– Скажите ему, что я не могу никого видеть.
– Слушаюсь, сэр, – произнес Пуль с каким-то торжеством и, подняв свечу, повел Утерсона назад через двор в большую кухню, в которой горел яркий огонь, а искры так и сыпались на пол. – Сэр, – сказал он, глядя адвокату прямо в лицо, – был ли это голос моего господина.
– Он очень изменился, – ответил Утерсон, сильно бледнея, но не опуская глаз.
– Изменился? – переспросил дворецкий. – Мне кажется, что я не мог бы, прослужив двадцать лет в доме доктора, не узнать его голос! Нет, сэр, голос моего господина замолк неделю тому назад, когда мы слышали, как он в последний раз громко вскрикнул, призывая имя Бога. И кто в кабинете вместо него, и почему он остается в доме доктора, дело непонятное, взывающее к небесам.
– Вы говорите странные вещи, Пуль, дикие вещи, – заметил Утерсон, покусывая палец. – Предположим, вы правы, предположим, что доктор Джекиль… ну да… убит, что же может заставить его убийцу жить в этом доме? Ведь это же нелепо!
– Вас трудно убедить, мистер Утерсон, однако слушайте, – заметил Пуль. – Всю эту неделю он… оно… словом, то, что находится в этой комнате, день и ночь требовало одного лекарства и все не находило того, что ему было нужно. Иногда он – то есть мой господин – писал приказания на куске бумажки и клал их на лестницу. Всю эту неделю мы только и видели, что исписанные листки да запертую дверь; кушанья ставились сюда и съедались, когда никто не смотрел. Ну, сэр, каждый день и даже по два, по три раза в день я получал приказания, и мне приходилось бегать по всем лучшим аптекарским складам города. Едва я приносил лекарство, как получал записку, говорившую, чтобы я вернул порошок назад, так как он не чист, и новое приказание идти в другой аптекарский склад. Лекарство необходимо, а зачем – неизвестно, сэр.
– У вас не сохранилось этих записок? – спросил Утерсон.
Пуль пощупал карман и вынул из него смятую записку; адвокат нагнулся к свече и внимательно рассмотрел ее. В ней говорилось: «Доктор Джекиль свидетельствует свое почтение господам Мау. Он заявляет им, что последний присланный ими порошок не чист и совершенно неприменим для его цели. В 18… году доктор Джекиль купил большое количество этого медикамента у господ Мау. Теперь он просит их тщательно поискать соль прежнего качества, и если их поиски увенчаются успехом, немедленно доставить ему это вещество. Расход не играет роли. Важность упомянутой соли для доктора Джекиля очень велика!» До этого места письмо было написано довольно гладко, но здесь виднелось чернильное пятно, как бы от брызг расщепившегося пера, и волнение писавшего прорвалось наружу в словах: «Ради Бога, найдите мне хоть немножко старого порошка!».
– Странная записка, – сказал Утерсон и прибавил довольно резко: – почему у вас в руках незапечатанный листок?
– Приказчик у Мау раздражительный человек, сэр; он бросил в меня бумажку, точно ком грязи, – заметил Пуль.
– Это, несомненно, почерк доктора? – спросил адвокат.
– Да, мне показалось, – хмуро ответил слуга и переменившимся тоном прибавил: – да что говорить о почерке! Я видел его.
– Видели его? – повторил Утерсон. – Как?
– Вот как, – начал Пуль. – Я нечаянно вошел в зал из сада. По-видимому, он вышел из кабинета за своим лекарством, потому что дверь была открыта, и он разбирал что-то в дальнем конце комнаты. Когда я вошел в зал, он взглянул на меня, вскрикнул и бросился по лестнице в кабинет. Я видел его только одно мгновение, но волосы поднялись у меня дыбом. Сэр, если это был доктор, зачем он надел маску на лицо? Если это был доктор, зачем он запищал, как крыса, и побежал от меня? Я достаточно долго служил ему, и потом… – Дворецкий замолчал и провел по лицу рукой.
– Все это очень странно, – заметил Утерсон, – но мне кажется, я начинаю видеть просвет. Пуль, ваш господин страдает болезнью, которая мучает и обезображивает больного; вот причина изменения его голоса, вот причина маски и уединения, вот причина страстного желания купить вещество, благодаря которому бедняк надеется излечиться. Дай Бог, чтобы он не обманулся! Вот мое объяснение; оно грустно, Пуль, и страшно, но просто и избавляет нас от сверхъестественного ужаса.
– Сэр, – сказал дворецкий, снова смертельно побледнев, – это был не доктор. Мой господин, – тут он оглянулся и продолжал шепотом, – мой господин высокий, хорошо сложенный человек, а этот больше походил на карлика. – Утерсон пытался возражать. – О, сэр, – воскликнул Пуль, – неужели вы думаете, что, прослужив двадцать лет в доме доктора, я не знаю его? Неужели вы думаете, что я не знаю, до какого места кабинетной двери достигает его голова, когда я каждое утро видел его в этой двери? Нет, сэр, фигура в маске – не доктор Джекиль. Бог знает, что это было, только не доктор Джекиль! И я убежден, что здесь совершилось убийство!
– Пуль, – заметил адвокат, – раз вы это говорите, я обязан проверить ваши подозрения. Хотя я хотел бы щадить чувства вашего господина, хотя я поражен запиской, которая, по-видимому, доказывает, что он еще жив, я считаю своим долгом силой войти в эту дверь.
– Ах, вот это хорошо! – воскликнул Пуль.
– Теперь второй вопрос, – проговорил адвокат, – кто сделает это?
– Конечно, вы и я, сэр, – последовал бесстрашный ответ.
– Прекрасно сказано, – заметил адвокат, – и что бы ни случилось, я считаю своей обязанностью посмотреть, правы ли вы.
– В зале есть топор, – продолжал Пуль, – а вы можете взять кухонную кочергу.
Адвокат поднял это грубое, но увесистое оружие и покачал им.
– Знаете ли вы, Пуль, – сказал он, – что мы с вами подвергаемся некоторой опасности?