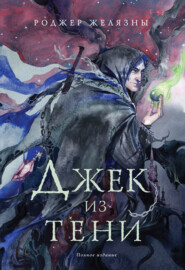По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Господь Гнева
Автор
Год написания книги
1976
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Глава 3
Во время войны было произведено изрядное число различных наркотических веществ поражающего действия. Во всеобщем послевоенном хаосе кто-то где-то отыскивал остатки этой дряни. Питер Сэндз проявлял живой интерес к подобным наркотическим веществам, потому что они – или хотя бы некоторые из них – обладали кое-какими достоинствами, даром что создавались как оружие против врага: лишали человека воли, нарушали пространственную ориентацию, дурманили сознание и т. п.
Уж как там на самом деле – неизвестно. Однако Сэндз верил, что если обращаться с подобной наркотой осторожно, брать малые дозы, принимать эти яды в особой последовательности, то можно добиться эффекта обычных наркотиков, не рискуя протянуть ноги. Скажем, малые дозы нарушали пространственную ориентацию, но обостряли общую чувствительность, давали чувство полета. Зелененькие метамфеты, ярко-красные таблетки всяческих «…зинов», белые плоские диски кодеина, еще какие-то крохотные желтые фигушки – в зависимости от силы их действия Сэндз делил их когда пополам, когда на четыре части. У него имелся тайный склад с широчайшим набором наркотиков, о котором он не говорил никому. По мере сбора своей коллекции Сэндз активно экспериментировал.
В глубине души он был уверен, что так называемые галлюцинации, вызываемые некоторыми из этих наркотиков (он не уставал напоминать себе, что годны для употребления лишь некоторые из его находок), – так вот, на самом деле это не галлюцинации, а прорыв в иные слои реальности. Одни из этих слоев его пугали, другие казались вполне приятными.
Как ни странно, ему нравилось попадать именно в пугающие слои реальности. Сам он предполагал, что длительное пуританское воспитание пробудило в нем мазохистские наклонности. Так или иначе, Сэндз предпочитал осторожненько применять те вещества, которые ненадолго швыряли его в царство ужасов. Заходить слишком далеко или оставаться слишком долго он не хотел – достаточно время от времени как бы в щелочку заглядывать в это царство ужасов.
Тут он был в чем-то похож на своего отца. Питер помнил, как однажды, еще до войны, отец опробовал электрошоковую машину в парке аттракционов: бросаешь десятицентовик в щель, берешься за две ручки и начинаешь потихоньку разводить их в стороны. Чем больше разводишь, тем сильней разряд. В итоге определяешь, какое напряжение можешь вынести до того, как отпустишь ручки. Маленький Питер с восхищением глядел на папу – залитое потом лицо натужно покраснело, но он только сильнее сжимает ручки – и расстояние между ними медленно и неуклонно растет.
Конечно же, машина была непобедима.
Отцу в итоге пришлось отпустить ручки – вскрикнув от уже совершенно невыносимой боли. Но пока он боролся с непобедимой машиной, он был восхитителен. Разумеется, он слегка рисовался перед своим восьмилетним сынишкой – и действительно произвел на мальчика огромное впечатление своей силой воли и выносливостью.
Сам Питер прикоснулся к ручкам на полмгновения и в страхе шарахнулся прочь – он бы и секунды такого ужаса не вынес! Тем больше он восхищался выдержкой отца.
Но склад смертельно опасных наркотиков, принадлежавший повзрослевшему Питеру Сэндзу, был под стать бессмысленному единоборству его отца с электрошоком. Питер, с тщательностью и осмотрительностью алхимика, дозировал и смешивал свои сокровища. Он никогда на принимал наркотики в одиночестве. Всегда рядом должен быть кто-то, кто сможет в пожарном порядке запихнуть ему в рот стандартное противоядие – фенотиацин, если «путешествие» уведет Питера слишком далеко – ввысь или вглубь или куда оно там уводит…
– Наверно, я долбанутый, – как-то признался он Лурин Рей в порыве искренности.
Тем не менее свои опыты Сэндз не прекратил. Он неизменно осматривал товар всякого бродячего торговца, проходившего через Шарлоттсвилль. Находил нужное – и покупал. Его и без того большие фармацевтические запасы постоянно пополнялись новинками: он уже научился с одного взгляда определять примерный состав любой таблетки, любой капсулы, даром что ассортимент был огромный, и непосвященные просто терялись. А Питер запросто определял или угадывал производителя, назначение и состав большинства таблеток и капсул. В этом вопросе он стал ходячей энциклопедией.
– Если ты понимаешь, что у тебя на этом крыша поехала, тогда брось это! – сказала ему Лурин.
Но он бросать не хотел, потому что у него была цель. Он не просто одурманивал себя. Он искал. Искал нечто. Ему казалось, что лишь тоненькая перегородка отделяет его от чего-то важного, значительного. И Питер стремился с помощью своих опасных препаратов проломить эту перегородку – или отодвинуть тяжелый занавес – и прорваться к важному…
По крайней мере эти рациональные доводы он приводил себе в пользу продолжения экспериментов. «Стал бы я валандаться с этими галлюцинациями, – говорил он себе, – если бы не имел в виду высокой цели!»
Ведь опыты приносили мало приятного: иногда он испытывал острейший страх и полное помутнение рассудка, часто – депрессию, а изредка – даже приступы вызванного химией кровожадного буйства.
Чего же он взыскует так упорно? Наказания?
Он думал об этом часто и всякий раз отвечал: «Нет». Он не стремился изуродовать себя, разрушить свой организм, навредить своей печени или почкам. Перед применением каждого нового вещества Сэндз прилежно прочитывал вложенные в коробочки описания состава и способа применения, внимательно изучал список возможных побочных эффектов. И, уж конечно, он не хотел становиться буйным и в приступе психоза поранить или убить кого-нибудь. Скажем, ту же милую бледненькую Лурин. Однако…
Свою мысль он пояснил Лурин следующим образом:
– Мы способны зреть Карлтона Люфтойфеля – для этого нам достаточно наших органов чувств. Но мне чудится, что существует реальность иного порядка, которую не увидишь невооруженным глазом. Что-то вроде того, как мы, к примеру, не воспринимаем ультрафиолетовое и ультракрасное излучение – что не мешает этим излучениям невидимо существовать…
Лурин слушала его, свернувшись калачиком в кресле напротив и покуривая алжирскую трубку, сделанную из корня верескового дерева. Она набивала эту трубку довоенным давно пересохшим голландским плиточным табаком.
– Чем гробить себя этими «колесами», – сказала она, – ты бы лучше придумал инструменты для регистрации наличия иных слоев реальности – или что ты там ищешь. Куда проще считать информацию с приборов. И безопаснее.
Она постоянно боялась, что Питер однажды не вернется из своего наркотического «путешествия». Ведь, говоря по совести, эти наркотики вовсе и не наркотики, а оружие нервно-паралитического воздействия, которое должно вызывать необратимые неврологические и метаболические нарушения в организме человека, – причем точный механизм разрушительного действия был зачастую неизвестен даже самим производителям… Вдобавок на каждого человека эта дрянь воздействует по-своему, что только усугубляет опасность.
– У меня нет ни малейшего желания считывать показания каких-то приборов, – ответил Сэндз. – Мне не фиксация факта нужна. Мне необходимо… – Он поискал нужное слово, потом закончил с энергичным жестом: – Мне необходимо самому пережить!
Лурин тяжело вздохнула.
– В таком случае не торопи события, – сказала она. – Сиди и жди. Оно придет когда-нибудь.
– Меня «когда-нибудь» не устраивает, – возразил он. – Я ждать не могу.
Потому как по эту сторону могилы без усилия в иной слой реальности не проникнуть.
Смерть была врагом, которого Служители Гнева восславляли и почитали спасением, высшей милостью. Но в то же время Служители Гнева, будучи теми, кто не погиб во время войны, не очень-то логично воображали себя Избранными, некоей элитой, которую их Господь Гнева помиловал.
Питер Сэндз очень хорошо улавливал эту логическую ошибку в философских построениях Служителей Гнева.
Если Господь Гнева был злым Богом, как о том твердили исповедовавшие Его веру, то Он бы оставил в живых не самых добрых, а самых порочных! Стало быть, согласно их же логике, Служители Гнева – самые мерзкие люди на Земле. Подобно самому Карлтону Люфтойфелю, они оставались в живых, ибо были настолько дурны, что им было отказано в целительном бальзаме смерти.
Эти сумасшедшие выкрутасы логики раздражали Питера. Поэтому он снова занялся таблетками, разложенными на столе его небольшой комнаты.
– Ладно, – вздохнула Лурин, – если ты такой упрямый, скажи мне, что именно ты пытаешься отыскать? Должен ты как-то представлять то, что ищешь! Или хотя бы представлять его ценность. Ведь ты к тому же потратил уйму серебра на эти опасные разноцветные фиговинки – бродячие торговцы дерут три шкуры за каждый пустяк… Объясни мне – и, может быть, я сегодня вечером присоединюсь к тебе. У меня так паршиво на душе.
Сегодня она объявила отцу Хэнди, что намеревается перейти в христианство. Но она пока ни словом не обмолвилась об этом решении ни Питеру, ни Абернати. Это было характерно для нее – сидеть между двух стульев… тянуть резину и не принимать окончательного решения.
Лоб Пита бороздили морщины. Он пытался ответить на вопрос Лурин предельно четко:
– Однажды я видел то, что называют der Todesstachel. По крайней мере твой дружок отец Хэнди и этот иконописец Тибор назвали бы эту штуку именно так. Они обожают немецкие теологические термины.
– Что значит этот «Todesstachel»? – спросила Лурин. Слово она слышала впервые, хотя знала, что его первая часть «Tod» обозначает «смерть».
Пит ответил с мрачной торжественностью:
– Жало смерти. Но тут есть тонкость. Сейчас увидишь. Жало обозначает такую штуковинку, через которую пчела или иное насекомое впрыскивает свой яд в тело другого живого существа. Но это современное значение слова, в старину слово «жало» понимали иначе. Скажем, когда во времена короля Якова ученый философ переписывал фразу из Библии: «Смерть, где твое жало?» – в его восприятии она звучала совсем иначе… Как бы это поточнее… Ага! Звучала она так: «Смерть, где твой укол?» Тогда слово «жало» значило то же, что сейчас «укол» в сочетаниях испытать «укол совести» или «укол самолюбия», ощутить «укол гордости». Словом, получить удар кончиком чего-нибудь острого, копьеобразного. В прямом и переносном смысле. К примеру, в старину про дуэлянта не говорили: «Он уколол своего противника шпагой». Говорили: «Он ужалил своего противника шпагой». То есть апостол Павел не имел в виду, что смерть жалит, подобно скорпиону – жалом в хвосте, из которого впрыскивается жгучий яд. Он имел в виду, что смерть пронзает.
Апостол Павел имел в виду то, что сам Сэндз понял во время очередного эксперимента с наркотиками.
Дело происходило в маленькой комнатке Лурин. Питер принял какую-то гадость, которая сделала его предельно агрессивным. Он метался по Луриной комнатушке и крушил все и вся. А когда девушка попыталась остановить его, сделал уж и вовсе невероятное – поднял на нее руку. И вот в этот-то момент, когда он ударил ее, он был ужален – ужален в старинном смысле слова, то есть ощутил укол, как будто его тело пронзил остроконечный кинжал – зазубренный, как острога, которой рыбаки убивают очень крупную рыбу, попавшую к ним в сети.
Едва ли за всю жизнь Питер испытал более острое физическое ощущение – оно было реальнее реального. Когда «острога» вошла в его тело, он сложился вдвое от чудовищной боли. Лурин, которая до этого то присаживалась, то отскакивала, ускользая от его кулаков, остановилась как вкопанная. Она поняла, что ему совсем нехорошо, и позабыла об опасности.
Казалось, эта острога – металлический зазубренный крюк на длинном-предлинном древке, конец которого уходит аж в Небеса. Корчась от нестерпимой боли, Пит все же заметил в то жуткое мгновение Тех, Кто держал тот, дальний конец копья, на миг ставшего мостом меж двумя мирами – земным и небесным. Это были три существа с глазами, вроде бы излучавшими тепло, но совершенно бесстрастными. Они не стали проворачивать острогу в его теле. Они просто не отпускали ее до того момента, пока он, медленно продравшись сквозь чащу боли к обыденной реальности, не очнулся окончательно. Это-то и было целью «пронзения» – пробудить его от сна, заставить очнуться от того сна, коим спит все человечество и от коего все, согласно слову апостола Павла, однажды в мгновение ока пробудятся. «Говорю вам тайну, – сказал апостол Павел, – не все мы умрем, но все изменимся – вдруг, во мгновение ока, при последней трубе» [14 - Первое послание к Коринфянам, 15:51.].
Но что это была за боль! Адская! Неужели лишь боль такой силы способна пробудить его? Неужели каждому из нас предстоит испытать подобное страдание? Неужели это зазубренное копье когда-нибудь еще раз вопьется в его плоть? О, как он этого страшился!.. И в то же время сознавал, что те трое, Святая Троица, были правы, причиняя такую адскую, невыносимую боль. Это необходимое действие. Ибо должно пробудить его. Все же, все же…
Сейчас он достал книгу, открыл ее и стал читать вслух для Лурин, которая любила, когда ей что-нибудь читали – впрочем, недолго и без декламации. Не называя автора, Питер прочел небольшое простенькое старинное стихотворение.
Прясть мне, матушка, нету моченьки.
Все во рту горит, изболелись рученьки.
Ах! кабы ведать тебе всю боль мою,
Что из тела вынимает душу самою.
Захлопнув книгу, он спросил:
– Ну, как тебе?