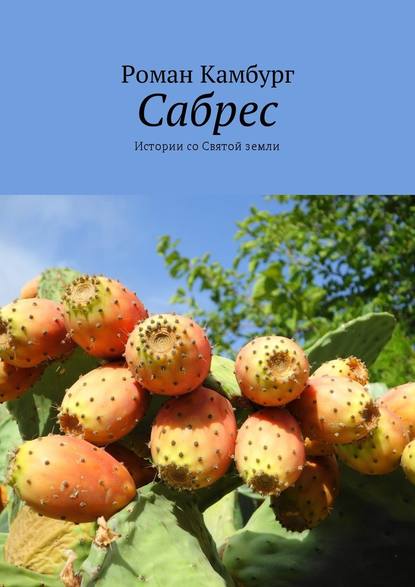По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сабрес. Истории со Святой земли
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я вас поздравляю, товарищ Коган. Завтра утром вас отвезут по этому адресу. У вас начинается новая жизнь. Завтра же днём я навещу вас там. Успехов вам, товарищ Коган.
После его переезда началось самое тяжёлое. Ему запретили пересылать письма жене. Для семьи, для Израиля он был повешен 19 мая в Дамаске. Через несколько дней Райкович сообщил ему о встрече с Кагановичем. На этот раз – с глазу на глаз. Стоял по-летнему тёплый день. Ночи в это время года были самые короткие. Встречались у выхода метро Новослободская. Агент Райковича наблюдал за встречей издалека. Каганович появился, как обычно, первым, одетый в светло-серые летние брюки и полосатую рубашку с короткими рукавами. Вот и товарищ Коган с чёрной шевелюрой волос и усами вышел из метро. Они подали друг другу руки, потом направились по Новослободской улице, зашли в близлежащий кафетерий «Весна». Агент, согласно инструкции, остался стоять у входа, а они вошли внутрь.
– Как вам живётся, товарищ Коган? – спросил Каганович.
– Привыкаю. Непросто. С семьёй нет связи.
– Мне вам надо многое сказать сейчас. Долгие годы, находясь у власти, я не чувствовал связи с евреями. Я считал себя выше таких национальных глупостей. Я всегда поддерживал товарища Сталина. Я пожертвовал братом. Не защитил его, хотя и мог. И он покончил с собой. В 47-ом я всеми силами стремился помочь созданию независимого Израиля. Когда ушёл на пенсию, много думал об этом. Нет-нет, я по-настоящему не раскаялся. В этом моя ошибка. Я как-то прочитал, что Каганович и Коэн имеют один корень фамилии. Когда я прочитал заметку, что вас арестовали в Дамаске, я сказал себе, это брат по крови, и я должен защитить его. В память о незащищённом родном брате. У меня появился план сменить вас на одного уголовника – насильника и убийцу. Его всё равно должны были расстрелять у нас. Вместо этого, его повесили в Дамаске.
– Товарищ Каганович, но я не могу жить вместо кого-то… спасибо вам… вы мой спаситель… но…
– Мой дорогой друг. Я сделаю для вас всё, что в моих силах. Я уже стар, но у меня остались хорошие связи. Генерал-майор Райкович, например. Я знаю, что они хотят вас использовать. Я против этого. Я помогу связаться вам с семьёй, хотя это непросто, ох как непросто. Я надеюсь, вы вернётесь когда-нибудь в свой родной Израиль… в наш родной Израиль…, – Каганович двумя руками сжал руку Эли, – спасибо вам за все.
Эли писал письма и складывал их в стол. Вернее, прятал их под матрас. Через несколько месяцев, к осени, сменилось руководство в Москве, и Райковича отстранили. Хорошо, что он успел пристроить товарища Когана учителем английского языка в одну из московских школ. Эли каждый день ходил на работу. Он даже научился любить её. Днем он учил английскому старшеклассников, а вечером учил сам русский язык. С Кагановичем связь прервалась. Конечно, он мог его найти, но попыток не предпринимал. Жил скромно с опаской. Знал, что такое спецслужбы, как их здесь называли – «органы». Шёл месяц за месяцем. Эли подружился с одной учительницей по имени Эмма, Эмма Ильинична. По простоте нравов, её звали Александра Ивановна. На работе в школе он её звал Александра, а она его – Анатолий. Когда встречались у него, она для него становилась Эммочка, а он для неё – Арончик. Ходили в кино, выезжали за город. Изредка, по праздникам, театр или ресторан. Эммочка намекнула раз Арончику, что неплохо бы узаконить их отношения, но Эли увильнул от ответа. Он продолжал писать письма Надие.
20 мая 1965 года.
«Моя милая. Самое тяжёлое знать то, чего не знаешь ты. Ты уже год живёшь с болью, что меня нет на свете. Слышал, что ты не раз обращалась к нашему правительству оказать давление и перезахоронить мое тело. Моё тело, к счастью или к сожалению, пока живо, и уже год совершает автоматические движения – ест, пьет, спит, работает. Ты же знаешь, что без тебя моё тело не живёт по-настоящему, оно лишь существует. Ни время, ни расстояние не мешают мне любить тебя. Иногда я просыпаюсь с ощущением, что я – это не я. И мне становится страшно, что я схожу с ума. Ты помнишь, мы с тобой увлекались психиатрией, и читали: «дереализация», «деперсонализация». Так я и существую изо дня в день в состоянии «деперсонализации».
Помнишь, наши шабатние прогулки в парке Яркон. Лодочку с вёслами. Скрипели уключины. Брызги с вёсел попадали то на меня, то на тебя. А ты была в шляпке. Я тебя до сих пор в ней помню… Пока, моя любимая. Может, ты и прочитаешь это письмо. Только когда? Когда? И я верю, что мы наконец будем вместе».
4
За двадцать лет так и не удалось Эли переправить ни одного письма ненаглядной Надие. А двадцать лет текут ох, как по-разному! В заключении они кажутся вечностью. В разлуке тоже. Наконец, наступила весна, когда Арон Коган смог зайти в обычное туристическое агентство и открыто попросить:
– Один билет до Тель-Авива, пожалуйста.
Девушка улыбнулась и спросила:
– Вы хотите ЭльАль или Трансаэро?
– ЭльАль.
– Выйдет дороже, но ненамного.
Чтобы растянуть удовольствие Эли спросил:
– Насколько?
Девушка склонилась над компьютером:
– Долларов тридцать.
Виза у него уже была. Кроме долларов, потребовалось несколько бутылок хорошего коньяка, чтобы ускорить процесс. Но если он выдержал двадцать лет, то что за мелочь было выдержать ещё два месяца. Но это только казалось, а последние дни и часы тянулись словно годы.
Весна московская и весна тель-авивская – это две разные весны. Родное солнце ослепило Эли. А воздух, воздух! От избытка чувств, он встал на колени недалеко от приземлившегося самолета и поцеловал землю. Его никто не встречал. Его никто не ждал. Вернее, все, кто ждал – отчаялись. Наконец он у себя дома. Дома! Дома!
Придя в себя, первым делом Эли пошёл к телефону. Набрал номер. Эти несколько секунд ожидания стоили двадцати лет отсутствия. А миг, когда он услышал её голос, стоил всей жизни.
– Дорогая, это я, – тихо-тихо сказал Эли.
Повисла пауза…, и она заплакала.
– Сладкая, не надо… я сейчас приеду… ну… ну…, – он растерял все слова.
– Я знала… знала… я ждала… ты где?
– В аэропорту, в Лоде.
– Всё хорошо?
– Да… да… а у тебя?
– Нет. Я же без тебя…, – Надия снова заплакала. Он молчал, не знал, что сказать.
Она успокоилась немного:
– Ну, всё… приезжай быстрее… я… всё, пока, – и Надия положила трубку.
Эли не смог потом вспомнить ни одной минуты, как он добирался до дома. Как будто стёрли память. Он читал про амок. Он, как профессиональный разведчик, никогда в жизни не бывал в таком состоянии. Он очнулся перед дверью своей квартиры. Он не успел ни позвонить, ни постучать, дверь приоткрылась. Теперь, обнявшись, они плакали оба, не закрывая двери, не занося в дом чемодан.
Тель-Авив цвёл, залитый солнцем. Не так давно выстроили набережную, и люди заполнили кафе, пляжи. Держась за руки, как молодая парочка, Надия и Эли зашли в «Дизенгоф-центр».
Эли жил в раю примерно три недели. Он не расставался с Надией и детьми, словно боялся их потерять снова. В последние же дни начал много времени проводить в своем кабинете. Он читал пожелтевшие газетные вырезки из «Маарив» и «Едиот» о собственной казни в Дамаске. Отклики мировой прессы о поимке израильского шпиона. Эли нервно ходил по кабинету, снова садился, снова читал. Он понимал, нужно было что-то делать. Листал свои старые записные книжки. Он искал пути, как выйти из подполья и вновь стать полноценным гражданином с именем Эли Коэн. За пару дней освободившись от эмоций, как учили много лет назад, в спецшколе, Эли начал составлять список людей. Людей, которые могли бы помочь ему. Эли знал, что ему придётся заплатить цену за двадцать лет советского полуплена.
Несколько раз он поднимал телефонную трубку. Наконец, поднял и набрал номер.
Ему ответил он. Его друг и напарник. Сами Аронсон.
– Шалом, дружище, – сказал Эли.
– Шалом, кто это?
– Сами, ты не узнал мой голос?
– Нет, кто это? – довольно холодно ответил Сами.
– Эли Коэн.
После паузы, Сами сказал:
– Прекратите разыгрывать меня! – и повесил трубку.
Эли поднялся со стула и снова заходил по кабинету.
«А что ты ожидал? – заговорил он с собой, – чтобы Сами пригласил тебя на семейный ужин?». Эли усмехнулся. Если Сами отреагировал так, что будет с остальными.
– Что-нибудь случилось? – интересовалась Надия.