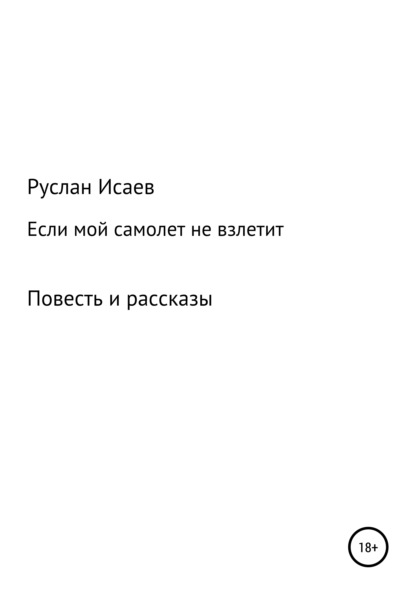По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Если мой самолет не взлетит
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Степа обижается. Как все молчуны, я бываю невольно резок, когда меня заставляют высказаться. Однако Толстый кивает, он понимает, я рассказывал ему про Никсона и наши походы по степи. Я познакомился с Никсоном, когда он был еще щенком. Служба у Никсона была ответственная, но легкая. По ночам внутри двойного забора колючей проволоки вокруг ворот в секретный подземный бункер ходил бдительный рядовой роты охраны (всегда невысокий тощий казах). А Никсон сторожил Святая Святых – внутренний двор за внутренним забором. Там папаша хранил свою вундервафлю: три ракеты с атомными боеголовками, которые следовало пустить в дело, если все патроны кончились, больше нет гранат.
Работа у Никсона была не бей лежачего в буквальном смысле. Потому что если рядового морил сон, и он падал в объятия летней теплой травы под фиолетовыми струями Млечного Пути, не в силах держать автомат, и подкрадывался проверяющий, то боец немедленно получал по щам. А Никсон мог сколько угодно спать, проверяющего он чуял за километр и разражался хриплым злобным лаем. Никсон умел удивительно реалистично гнать картину тупого готового порвать сторожа.
Когда отца перевели на повышение в штаб округа, и машина увозила нас, Никсон долго бежал за машиной. Отец приказал водителю остановиться.
–Хочешь, мы возьмем этого пса? – сказал он. Это был поступок с его стороны – я знал, что он брезгливо относится к собакам. А запыхавшийся, пыльный, в степных репьях огромный Никсон с высунутым слюнявым языком не был похож на домашнего пса.
Взять куда? В центр города с двумя миллионами населения где-то на севере, где воняет только бензином? В квартиру на восьмом этаже двенадцатиэтажного дома? От моря запахов степи, поста на ядерном бункере, казахов – часовых, дедов-поваров и грызунов в траве? Пусть лучше среди всего этого тоскует по мне всю жизнь. Я покачал головой и вышел из машины.
–Друг, мне надо ехать, – сказал я, – домой.
Никсон хорошо знал эту команду. Я долго приучал его еще щенком к ней, чтобы можно было отделаться от него в любой момент. Никсон любил выполнять мои команды. Мой друг понуро затрусил в часть. Что мог понимать Никсон о штабе округа? О разлучивших нас обстоятельствах непостижимой ему человеческой жизни? Он доверял мне, потому что знал, что я люблю его, и пошел домой. Так и надо жить, – сказал я Толстому. Нужно доверять и не бояться.
–Неужели ты не хочешь знать ответы? – спрашивает Толстый.
Он спрашивал это уже, я много дней думал над его словами и придумал ответ в конце концов:
–Все ответы неправильные. Я не хочу знать неправильные ответы.
–Может быть, ты боишься увидеть за ширмой кукольного театра нити мироздания?
–Нет, не страшно.
–Ты сверхчеловек, – сказал Толстый.
–Я знаю. Приходится как-то с этим жить.
Мы сделали обход охраняемого объекта. В пустом зале эхом отдавался энергичный голос моего друга и рассудительный тенор Степы. Мы посидели, покурили в кафе на втором этаже в полумраке дежурного освещения. Выпили кофе. Здесь в кафе стояла американская кофе-машина. От советской она отличалась только тем, что варила кофе. Пар от чашечек и сигаретный дым исчезали в полумраке под потолком. Из полумрака с мозаики на стене Юрий Гагарин в космическом шлеме улыбался нам перед тем, как сказать "поехали".
Степа отправился домой, мы с Толстым легли спать на диванах в гримерке.
–Существует все, идея чего может возникнуть, – сказал Толстый, продолжая разговор с ушедшим Степой, – возможность идеи и является критерием существования. То, что нельзя представить, не может существовать.
–Толстый, сделай еще бутылку водки и пачку сигарет.
–Не получится. Не нужна она нам.
–То есть, по-твоему, должно появляться все, о чем подумаю я или ты? А если я не хочу, чтобы появилось то, чего хочешь ты? Если мне вообще не нравится то, что я вижу? Если мы видим разное, как мы можем обменяться информацией?
–Конфликт представлений – очевидная проблема. Должен быть Верховный Арбитр, тот, кто поддерживает целостность мира, – встал на ноги Толстый, это была не мысль, это было потрясение, захватившее его, все его мысли – это потрясения, гигантская матрица получила новые измерения, начала переформатирование, я слышал сквозь сон, что он еще ходит по гримерке, разговаривает сам с собой, но я уже спал.
Когда умирают такие люди – неужели все это огромное может умирать вместе с ними? В этой Вселенной, которая вся построена на законах сохранения, где не исчезает самая крохотная элементарная частица, самый ничтожный импульс движения, квант энергии – куда уходим мы? Или это и есть предназначение – превратить себя в движение?
3 Наука как пирамида Хеопса
– Вставай, пора сваливать, – разбудил меня Толстый, – сейчас дневной директор придет.
Вместе с населением Девятки (а лучше сказать с "личным составом"), в— общем, со всеми этими биомеханическими куклами, я двинулся на работу, сжимая в кармане удостоверение жителя (читайте, завидуйте, я полноправный гражданин Девятки).
С восьми ноль—ноль до семнадцати ноль—ноль это население называется научными сотрудниками. Слово "научный" попало туда явно по недоразумению. Каждый день они получают десяток образцов, вставляют их в микроскоп, проводят положенные измерения и вычерчивают кривые— то есть делают работу, с которой успешно справилась бы дрессированная обезьяна. Множество выпускников хороших институтов занимаются в Девятке примерно такой научной деятельностью. Лаборатории Девятки набиты физиками, забывшими уравнения Максвелла, электронщиками, смутно знающими закон Ома, химиками, помнящими только, что метиловый спирт в отличии от этилового не пригоден для приема внутрь.
Годами эти специалисты приходят на работу только для того, чтобы нажимать единственную кнопку какого-нибудь прибора и следить за показаниями единственной стрелки. Их научная деятельность очень напоминает известные опыты по выработке условных рефлексов у морских свинок, где эти умные животные нажимают на кнопку возле кормушки.
Именно в таких местах, как Девятка, родилось открытие, что в XX веке науку делают большие коллективы. По своему опыту могу сказать: да, очень—очень большие коллективы нужны, чтобы такими очень маленькими, просто муравьиными, усилиями двигать науку.
Мы, коллектив лаборатории разработки компонентов управления, называли себя "детьми подземелья". Потому что помещение наше не имело окон и действительно находилось под землей. Солнца сотрудники лаборатории не видят по полгода. Зимой рабочий день начинается раньше восхода и кончается после захода солнца – край у нас довольно северный.
Два года назад, когда я пришел сюда после института, работа мне нравилась. Но меня с первого дня не покидало ощущение, что я здесь слегка посторонний.
Я не чувствовал искреннего волнения при обсуждении вопроса, почему отобрали червонец, доплачиваемый за вредность, или почему обеденный перерыв перенесли с двенадцати на тринадцать часов. В коллективе лаборатории отношения между людьми были довольно сложными, связанными с запутанными давними историями, как кому—то накинули десятку к окладу кого—то обидев при этом. Или как кого—то перевели из другого отдела по знакомству, что тоже было несправедливо. Во все это вникать было лень. Но зато благодаря тому, что я этим не интересовался и ни на что не претендовал, я прослыл хорошим парнем.
И все же в первую зиму после возвращения с учебы я с удовольствием выходил утром из дома, когда небо на востоке только начинало краснеть (из-за того, что красная часть солнечного спектра меньше поглощается водяным паром атмосферы) и пешком шел вдоль железнодорожных путей завода. Проезжающие мимо меня локомотивы изменением тона гудка наглядно демонстрировали эффект Доплера. Поскрипывал снег под ногами, когда я давил миллионы снежинок, своей совершенной формой обязанных прихотям полной энергии кристаллической решетки.
Часто мы выходили вместе с отцом, почти всю дорогу мы шли молча. Отец не мешал мне, считая, что я витаю в физических материях. В Девятке никто точно не знает, чем занимается родственник – подобные расспросы запрещены. Да, был в моей жизни год, когда батя меня очень уважал. Потом, махнув мне, отец поворачивал к остановке служебного автобуса на полигон реактивного движения, а я шел на свою проходную.
Я действовал по правилу стека—"приходящий последним уходит первым". Самым последним я приходил, потому что шел пешком, следовательно, мог не накидывать запас времени на ненадежность автобусов. Самым первым я уходил, потому что уходил вовремя, отработав ровно восемь часов. В лаборатории признаком хорошего работника считалось то, что он должен находиться на рабочем месте дольше других, менее хороших.
В этом есть смысл, потому что большинству сотрудников лаборатории вполне хватало часу—двух, чтобы справиться со всеми обязанностями, и, следовательно, каким-либо другим способом прилежного от ленивого отличить было трудно.
К тому же большинство дней в неделе кончалось какими-нибудь занятиями или учебами. То экономическими, то политическими, всех и не упомнишь. Я сразу отказался их посещать, сославшись на то, что в Правилах ведь написано, что занятия— это дело добровольное. Из-за чего прослыл невероятно смелым.
С удивлением я открыл, что я человек добросовестный.
–Хоть после кого-то можно не проверять, – говорил мне шеф.
Уже через полгода мое положение в лаборатории было очень прочным.
–Ты должен быстро сделать карьеру, – как-то похвалил меня шеф. Но, правда, добавил "если будешь серьезнее". Под этим он, видимо, подразумевал занятия после работы, которые я не посещал, и общий моральный облик.
И все же, легко войдя в работу, я так никогда не стал до конца своим в коллективе лаборатории.
Там существовала сложная система правил поведения, даже, можно сказать, правил приличия, которым я, ввиду своей несерьезности, не придавал значения.
Ровно в семнадцать ноль—ноль, по звонку, я начинал собираться домой.
–Уже пошел? – как бы с удивлением спрашивал Саня.
–А чего сидеть? – легкомысленно и неполитично отвечал я, – Пошли, чего сидишь. Можно подумать, ты делом занят. Или вот Нина Егоровна делом занята.
Конечно, ни Саня, ни Нина Егоровна не были заняты делом. Но Саня в тот год высиживал давно причитающуюся, как он считал, десятку к окладу.
Сказать же, что Нина Егоровна не занята делом, было вообще прямым оскорблением. Потому что Нина Егоровна никогда, ни до, ни после за все десятилетия своей трудовой деятельности не была занята делом. Поэтому слышать такое от меня, самонадеянного сопляка, ей было особенно обидно. Нина Егоровна дожидалась пенсии, а так как она действительно была абсолютно не нужна, то ей приходилось высиживать на работе гораздо дольше других.
Нина Егоровна относилась к жизни, как к грузу за плечами. Грузу, который придется тащить до самой смерти.
Вот так, всех обидев, и даже не понимая этого, я одевался и первым покидал помещение лаборатории.
Я считал всех этих людей очень мелкими, как, впрочем, считаю и сейчас, но потом я понял, что есть одна веская причина, из-за которой они стали такими. Дело в том, что каждый человек испытывает потребность глубоко интересоваться, быть очень занятым хоть чем-нибудь. Большинство работавших со мной людей просто не имели в жизни почти ничего, кроме этого подземелья. И простая человеческая потребность увлекаться принимала такую замечательную форму, когда смыслом жизни становится получение надбавки в пять рублей путем хитрых многолетних интриг.