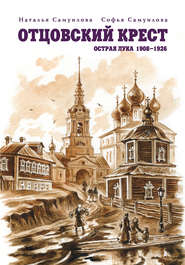По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Отцовский крест. Скорбный путь. 1931–1935
Год написания книги
1996
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Беда к старушкам подкралась неожиданно. Правда, все давно замечали, что Людмила Михайловна худеет и теряет силы; что она почти не встает со своего кресла, но не придавали этому значения; и она, и другие объясняли это распространенной в то время хронической малярией. Больше заботила младшая, Александра Михайловна, у которой время от времени случались тяжелые сердечные припадки. Никто не знал, что у Людмилы Михайловны давно была большая язва на спине пониже поясницы. Показывать ее врачам она стеснялась, не говорила и сестрам. Пока была жива старшая, Аполлинария Михайловна, о язве знала только она. После ее смерти пришлось открыть Юлии Михайловне. Они вдвоем ходили в баню, в номер, и там сестра обмывала больное место, поливая из чайничка. Не вызывало у них опасений даже то, что язва увеличивалась и достигла размеров большой тарелки.
Вдруг, когда Людмила Михайловна грелась у печки, стоя к ней спиной, из язвы хлынула кровь; широкой струей залила белую печь, потекла по полу. На крик Юлии Михайловны прибежали обе квартирантки-монахини. Поднялся переполох. Нужно оказать какую-то помощь больной, бежать за врачом, а тут рядом задыхается Александра Михайловна: от волнения у нее начался сильнейший сердечный приступ.
Когда Соня пришла к старушкам, у них в двух комнатах через перегородку лежали две больные, и неизвестно, чье положение было серьезнее. Юлия Михайловна, едва ковыляя на подагрических ногах, разрывалась между обеими. Много помогали квартирантки, но и Соне хватало дела. А для нее самой это чужое несчастье явилось почти спасением, избавляя от тяжелых мыслей в одиночестве.
Наташу в это время добрые люди устроили на работу; ее Целый день не было дома. Вдобавок она еще не умела соразмерять свои силы, страшно уставала и, если не приносила Работы на дом, едва пообедав, засыпала мертвым сном. Не Меньше уставал и о. Константин, он тоже был занят с утра до вечера. Едва окончив утреннюю службу и управившись с требами, он опять и опять шел в финотдел, добивался, чтобы показали расчет. Не показывая никакой инструкции, ему называли баснословные необоснованные цифры. Эти цифры не выдерживали простой арифметической проверки – при подсчете суммы получались во много раз меньше той, которую требовали с собора. Это было уже кое-что. Подготовив несколько вариантов таких необоснованных расчетов, от собора написали ходатайство митрополиту Серафиму Саратовскому, а другой экземпляр, через него же, направили в Москву митрополиту Сергию. Теперь оставалось только ждать.
Между тем подходил срок уплаты второй половины налога, а платить было нечем.
Все эти дни Соня оставалась одна, занятая хозяйственными хлопотами, которые отнимали не так много времени и не мешали тяжелым мыслям. С тех пор, как незачем стало ходить к тюрьме, она чувствовала себя бесполезной. Зато теперь, покончив самое необходимое, она шла к больным и проводила там чуть не целый день. Ее встречали с радостью, не только как помощницу, а и как дорогого родного человека.
У Людмилы Михайловны оказался рак, настолько запущенный, что оперировать было уже поздно, слишком большая площадь кожи была поражена. Удивительно, что у нее совершенно не было болей, даже лежала она на спине, только сильно ослабела. Когда Соня кормила ее, она покорно открывала рот, глотала пищу, а глаза ее ласково смеялись; ей было смешно, что ее кормят с чайной ложечки, как маленького ребенка.
Она умерла в конце масленицы, попросив, чтобы отпевал ее о. Константин. «Я его любила, как внука», – объяснила она. Александра Михайловна присоединила к ее просьбе свою, о том же. После похорон сестры она часто говорила о своей смерти, отдавала распоряжения во что ее одеть, кого пригласить на похороны.
Почаще ходите ко мне на могилку, носите ромашек, я их больше всех цветов люблю, – говорила она.
А мне кажется, не все ли равно, где и как зароют мою «рубашку», – вставляла и свое слово Юлия Михайловна. – Лишь бы душе было хорошо.
Она словно предвидела свое будущее. Оставшись одна, она летом переехала в Москву к своей приемной дочери, муж которой работал шофером в Бутырках. Там она и умерла.
Между тем болезнь Александры Михайловны прогрессировала. Сердечные отеки превратились в водянку, потом по телу пошли синие нити, – начиналась гангрена. Больная страшно изменилась и почти не могла говорить.
Глава 9. Победа, победившая мир
В таком положении были дела, когда, наконец, пришло долгожданное письмо, на этот раз даже с адресом. Но какое это было письмо!..
«Дорогие детки! – писал о. Сергий. – Я сейчас нахожусь в Челябинской пересыльной тюрьме. Здесь мы пробудем дней двадцать по случаю какого-то карантина.
В Сызрани меня остригли и обрили насильно. На работу я не хожу. Врач дал мне освобождение, а на сколько дней, не написал. Справке сначала не поверили и мне пришлось, хотя и с трудом, снова пойти к врачу, чтобы поставили срок. Он ответил: «Какой тебе срок, ты весь не годишься». – Не горюйте, мои дорогие. Слава Богу за все! Если для людей я не гожусь, то, может быть, буду годен для Бога.
Сегодня поел немного мяса для подкрепления сил. Устроился теперь хорошо, недавно освободилось место под нарами, и я поместился там. Слава Богу за все!..»
Хочется добавить к этому письму слова о. Константина, которые он писал сестрам три года спустя: «Духом я всегда с вами». В письме о. Сергия этих слов не было, но все оно было пронизано их смыслом. О. Сергий всегда был очень сдержан в проявлении своих чувств, никогда не говорил детям о своей любви к ним, да в этом и не было нужды: они понимали его без слов. Готовя их к суровым испытаниям в жизни, он в обращении с ними избегал нежностей, но в последних его письмах невольно проскальзывали и нежность, и мягкость, и какая-то внутренняя умиротворенность. Не озлобление, даже не горечь, а именно умиротворенность, которой отличается внутренний мир христианина. Только в предыдущих письмах все это лишь проскальзывало, а в последнем, – он ведь прекрасно понимал, что оно последнее, – больше было и ласковых слов, и слов утешения. Как-то они писались? Сколько над ними было пролито слез? Ведь умиротворенность, готовность к смерти еще не уничтожает острой жалости к остающимся, любви к ним.
Соне вспомнилось, как незадолго до ареста отец писал письмо Мише. Большое письмо, а что в нем было? Украдкой Соня ловила то тяжелый вздох, то быстро отертую слезу… Потом отец положил перо и, закрыв рукой глаза, всхлипнул. Этого нельзя было вынести. Она тихо подошла, прижалась к нему, шепнула: «Не плачь!»
– Да ведь мне его жалко! – как-то по-детски беспомощно ответил этот сильный человек. На одну только минуту его сдержанная душа раскрылась в горе навстречу такой же сдержанной ласке. Но такие минуты не забываются.
Теперь она представляла его за этим, последним письмом, такого же взволнованного да еще больного, – нежные слова, которые она стеснялась говорить, вылились в письме, тут же написанном в ответ. Получил ли он его? Узнает ли он, как мы его любим?
С этой мыслью Соня пошла на почту, а оттуда к больной. По ее виду было ясно, что она доживает последние дни.
Простите! – с трудом разобрала Соня и почувствовала слабое пожатие почти омертвевшей руки. Тяжелое чувство усилилось.
«Это будет вторая смерть, – ударило ей в голову, когда она вышла (утром ей сообщили о смерти еще одного знакомого). Первая для меня почти незаметна, вторая – причиняет горе, как уже может быть и третья – самого близкого человека».
Было стыдно плакать на улице, но слезы сами потекли по щекам; на пару минут горе победило привычку сдерживаться. А на другой день можно было и не сдерживаться. Александра Михайловна умерла в тот же вечер, и на панихиде, которую служил о. Константин, плакали многие. Плакала и Соня, но не столько о ней, сколько об отце: в голове гвоздем засела мысль, что похоронные песнопения относятся к нему, что он умер, и душа его сейчас здесь. А может быть, так и было. Он действительно умер в этот день, 2/15 апреля 1932 года.
Прошло несколько дней. Жизнь опять потекла по-старому. Соня заходила еще иногда к осиротевшей старушке, но на первых порах посетителей там было довольно, и они умели утешать, зачем же нужно ее молчаливое сочувствие?
На некоторое время повысил настроение ответ на ходатайство о снижении налога. Он был получен как раз вовремя, совсем незадолго до срока уплаты второй половины. В нем разъяснялось, что оценка храмов и налог остаются на уровне 1928 года. Окрфинотделу предписывалось сделать перерасчет не только по Воскресенскому собору, но и по всем церквам Пугачевского округа, а переплату зачесть в счет будущих лет. Получилось, что уплаченная сумма полностью погашает налог за 1932 и 1933 года, да еще остается часть на 1934 год. Оказывается, был закон об исчислении налога с церковных зданий по 1928 году, но финотдел тщательно скрывал его…
Еще раз подтвердилась поговорка, которую не раз употреблял о. Сергий: «Законы святы, да исполнители – лихие супостаты». Есть закон, но кто о нем знает и как добиться его применения в жизни? Задача почти невыполнимая. На этот раз помогли митрополиты, но они старались помочь не только в данном случае, а пользы от их усилий обычно получалось мало. Здесь была явная милость Божия, испрошенная усердными молитвами верующих.
Утром на восьмой день после смерти Александры Михайловны к Соне пришла Прасковья Степановна. Она просила Соню сшить ей блузку к празднику, и теперь как раз шла примерка. Зашел и Михаил Васильевич, вернувшийся из церкви. Он бывал каждый день и не по одному разу, но почему-то его вид заставил насторожиться. К чему эти вопросы о последнем письме, зачем он говорит, не договаривая? И дочери молчали, не спрашивали. Хотелось еще хоть полчаса, хоть несколько минут не слышать последнего решительного слова, не убивать окончательно надежду, которая, оказывается, еще ютилась где-то в сердце, хотя казалось, что погибла уже давно. Соня напряженно, как смертного приговора, ждала прихода брата и… шила.
О. Константин не вошел в комнату, должно быть, боялся, что его лицо сразу скажет слишком много, и прямо с порога начал:
– Я получил тяжелое известие о папе… – И замолчал. Чтобы подготовить, или не мог выговорить рокового слова? И не надо заставлять его сказать, нужно опередить его.
– Умер! – вскрикнула Соня.
– Замучили! – зарыдал о. Константин.
После первого порыва горя слез не было. Не то чтобы они сдерживались, нет, просто их не было. Поддерживала восторженная мысль о подвиге жизни умершего, о том, как его любили и жалели посторонние люди, иначе совершенно невыносима была бы образовавшаяся пустота. Как будто ушло все, что наполняло жизнь. Последнее время все мысли сводились к отцу – где он, как себя чувствует, о чем думает?
Случалось что-нибудь интересное – нужно не забыть сообщить папе. Возникало ли какое сомнение или колебание – нужно спросить его мнения. Даже во время погребальной службы явилось то же желание – рассказать ему. А теперь – никого и ничего, мир опустел, не о ком думать, не о чем заботиться, казалось, даже совесть, воплощенная в его твердых принципах, замерла.
Не столько внутренняя потребность, сколько необходимость сообщить о предстоящем отпевании, повлекла Соню к Юлии Михайловне. Старушка вытирала пыль с комода и, не отрываясь от своего дела, приветливо спросила девушку, почему она не была на вчерашних поминках. Соня спокойно села в кресло к столу и так же спокойно, почти равнодушно сказала: «Папа умер».
Юлия Михайловна осеклась на полуслове и переспросила:
– Что?! – словно думала, что ослышалась.
– Папа умер, – повторила Соня и по изменившемуся лицу старушки на минуту поняла всю глубину своего несчастья. Взволнованная, вся в слезах, Юлия Михайловна подскочила к ней и, тряся ее за плечо, закричала:
– Умер! Так что же вы не плачете? Плачьте же, плачьте!
Выступившие слезы лишь слегка смочили глаза девушки, всего несколько капель сорвалось с ресниц. От них сразу стало легче и захотелось выжать еще хоть одну, но глаза уже опять высохли. Но и за эти слезы Соня и много лет спустя была благодарна старушке, как за благодеяние: не могло сердце больше вытерпеть своего окаменения. Упокой, Господи, чуткую душу!
Вечером Вербного воскресенья, на девятый день после смерти о. Сергия, было заочное отпевание. Тогда это был Редкий случай. О. Константин и о. Иоанн Заседателев, назначенный после закрытия единоверческой церкви настоятелем собора, долго советовались, как это сделать. О предстоящем отпевании объявили после обедни, ко всенощной собралось много народа. Из старособорного прихода пришел о. Николай Амасийский с несколькими певчими, еще кое-кто из прихожан.
После всенощной открыли царские двери, запели «Помощник и покровитель…» О. Иоанн и о. Константин вынесли на вышитой пелене наперсный крест о. Сергия, положили на аналой. Около креста, как бы в присутствии представителя покойного, началось удивительное по своей глубине священническое погребение. О. Николай с хором поют «Благословен еси, Господи!..»
Еще задолго до смерти о. Сергий не раз наказывал, чтобы при его погребении пели так называемым «простым» напевом, на глас, и Соня расстроилась, когда запели нотное, но о. Константин (конечно потом, дома) успокоил ее. Ведь делалось это с добрым намерением, певчие изо всех сил старались, чтобы все было как можно лучше. Очень хорошо и то, что инициативу взял на себя о. Николай. Из всего пугачевского духовенства именно с ним у о. Сергия было больше всего разногласий, доходивших иногда до очень неприятных объяснений; его участие в отпевании означало примирение.
«Волною морскою…»
Священники по очереди читают глубоко трогательные тропари канона. Те самые, которые семь лет назад, также в день Вербного воскресенья читались и пелись над гробом Святейшего Патриарха Тихона.
«Если помиловал здесь, человече, человека, тот там помилует тебя. И если какому сироте сострадал, тот избавит тебя там от нужды. Если при жизни нагого покрыл, и тот там покроет тебя с песнью: Аллилуия».
«Если в страну некую идуще требуем водящих, что сделаем, когда пойдем в страну неведомую? Многих тебе тогда водителей нужно, много молитв спутешествующих, чтобы спасти душу грешную, прежде чем достигнешь ко Христу и воспоешь Ему: Аллилуия».
«Безмолвствуйте же, безмолвствуйте; умолкните перед лежащим здесь и увидите великое таинство в страшный этот час. Умолкните, пусть с миром душа отыдет: в подвиге великом она содержится и в страхе многом молит Бога: Аллилуия».
Голос о. Константина временами вздрагивает, срывается. Его волнение передается окружающим, но ни шороха, ни рыдания. Все замерли, слушают.
Вдруг, когда Людмила Михайловна грелась у печки, стоя к ней спиной, из язвы хлынула кровь; широкой струей залила белую печь, потекла по полу. На крик Юлии Михайловны прибежали обе квартирантки-монахини. Поднялся переполох. Нужно оказать какую-то помощь больной, бежать за врачом, а тут рядом задыхается Александра Михайловна: от волнения у нее начался сильнейший сердечный приступ.
Когда Соня пришла к старушкам, у них в двух комнатах через перегородку лежали две больные, и неизвестно, чье положение было серьезнее. Юлия Михайловна, едва ковыляя на подагрических ногах, разрывалась между обеими. Много помогали квартирантки, но и Соне хватало дела. А для нее самой это чужое несчастье явилось почти спасением, избавляя от тяжелых мыслей в одиночестве.
Наташу в это время добрые люди устроили на работу; ее Целый день не было дома. Вдобавок она еще не умела соразмерять свои силы, страшно уставала и, если не приносила Работы на дом, едва пообедав, засыпала мертвым сном. Не Меньше уставал и о. Константин, он тоже был занят с утра до вечера. Едва окончив утреннюю службу и управившись с требами, он опять и опять шел в финотдел, добивался, чтобы показали расчет. Не показывая никакой инструкции, ему называли баснословные необоснованные цифры. Эти цифры не выдерживали простой арифметической проверки – при подсчете суммы получались во много раз меньше той, которую требовали с собора. Это было уже кое-что. Подготовив несколько вариантов таких необоснованных расчетов, от собора написали ходатайство митрополиту Серафиму Саратовскому, а другой экземпляр, через него же, направили в Москву митрополиту Сергию. Теперь оставалось только ждать.
Между тем подходил срок уплаты второй половины налога, а платить было нечем.
Все эти дни Соня оставалась одна, занятая хозяйственными хлопотами, которые отнимали не так много времени и не мешали тяжелым мыслям. С тех пор, как незачем стало ходить к тюрьме, она чувствовала себя бесполезной. Зато теперь, покончив самое необходимое, она шла к больным и проводила там чуть не целый день. Ее встречали с радостью, не только как помощницу, а и как дорогого родного человека.
У Людмилы Михайловны оказался рак, настолько запущенный, что оперировать было уже поздно, слишком большая площадь кожи была поражена. Удивительно, что у нее совершенно не было болей, даже лежала она на спине, только сильно ослабела. Когда Соня кормила ее, она покорно открывала рот, глотала пищу, а глаза ее ласково смеялись; ей было смешно, что ее кормят с чайной ложечки, как маленького ребенка.
Она умерла в конце масленицы, попросив, чтобы отпевал ее о. Константин. «Я его любила, как внука», – объяснила она. Александра Михайловна присоединила к ее просьбе свою, о том же. После похорон сестры она часто говорила о своей смерти, отдавала распоряжения во что ее одеть, кого пригласить на похороны.
Почаще ходите ко мне на могилку, носите ромашек, я их больше всех цветов люблю, – говорила она.
А мне кажется, не все ли равно, где и как зароют мою «рубашку», – вставляла и свое слово Юлия Михайловна. – Лишь бы душе было хорошо.
Она словно предвидела свое будущее. Оставшись одна, она летом переехала в Москву к своей приемной дочери, муж которой работал шофером в Бутырках. Там она и умерла.
Между тем болезнь Александры Михайловны прогрессировала. Сердечные отеки превратились в водянку, потом по телу пошли синие нити, – начиналась гангрена. Больная страшно изменилась и почти не могла говорить.
Глава 9. Победа, победившая мир
В таком положении были дела, когда, наконец, пришло долгожданное письмо, на этот раз даже с адресом. Но какое это было письмо!..
«Дорогие детки! – писал о. Сергий. – Я сейчас нахожусь в Челябинской пересыльной тюрьме. Здесь мы пробудем дней двадцать по случаю какого-то карантина.
В Сызрани меня остригли и обрили насильно. На работу я не хожу. Врач дал мне освобождение, а на сколько дней, не написал. Справке сначала не поверили и мне пришлось, хотя и с трудом, снова пойти к врачу, чтобы поставили срок. Он ответил: «Какой тебе срок, ты весь не годишься». – Не горюйте, мои дорогие. Слава Богу за все! Если для людей я не гожусь, то, может быть, буду годен для Бога.
Сегодня поел немного мяса для подкрепления сил. Устроился теперь хорошо, недавно освободилось место под нарами, и я поместился там. Слава Богу за все!..»
Хочется добавить к этому письму слова о. Константина, которые он писал сестрам три года спустя: «Духом я всегда с вами». В письме о. Сергия этих слов не было, но все оно было пронизано их смыслом. О. Сергий всегда был очень сдержан в проявлении своих чувств, никогда не говорил детям о своей любви к ним, да в этом и не было нужды: они понимали его без слов. Готовя их к суровым испытаниям в жизни, он в обращении с ними избегал нежностей, но в последних его письмах невольно проскальзывали и нежность, и мягкость, и какая-то внутренняя умиротворенность. Не озлобление, даже не горечь, а именно умиротворенность, которой отличается внутренний мир христианина. Только в предыдущих письмах все это лишь проскальзывало, а в последнем, – он ведь прекрасно понимал, что оно последнее, – больше было и ласковых слов, и слов утешения. Как-то они писались? Сколько над ними было пролито слез? Ведь умиротворенность, готовность к смерти еще не уничтожает острой жалости к остающимся, любви к ним.
Соне вспомнилось, как незадолго до ареста отец писал письмо Мише. Большое письмо, а что в нем было? Украдкой Соня ловила то тяжелый вздох, то быстро отертую слезу… Потом отец положил перо и, закрыв рукой глаза, всхлипнул. Этого нельзя было вынести. Она тихо подошла, прижалась к нему, шепнула: «Не плачь!»
– Да ведь мне его жалко! – как-то по-детски беспомощно ответил этот сильный человек. На одну только минуту его сдержанная душа раскрылась в горе навстречу такой же сдержанной ласке. Но такие минуты не забываются.
Теперь она представляла его за этим, последним письмом, такого же взволнованного да еще больного, – нежные слова, которые она стеснялась говорить, вылились в письме, тут же написанном в ответ. Получил ли он его? Узнает ли он, как мы его любим?
С этой мыслью Соня пошла на почту, а оттуда к больной. По ее виду было ясно, что она доживает последние дни.
Простите! – с трудом разобрала Соня и почувствовала слабое пожатие почти омертвевшей руки. Тяжелое чувство усилилось.
«Это будет вторая смерть, – ударило ей в голову, когда она вышла (утром ей сообщили о смерти еще одного знакомого). Первая для меня почти незаметна, вторая – причиняет горе, как уже может быть и третья – самого близкого человека».
Было стыдно плакать на улице, но слезы сами потекли по щекам; на пару минут горе победило привычку сдерживаться. А на другой день можно было и не сдерживаться. Александра Михайловна умерла в тот же вечер, и на панихиде, которую служил о. Константин, плакали многие. Плакала и Соня, но не столько о ней, сколько об отце: в голове гвоздем засела мысль, что похоронные песнопения относятся к нему, что он умер, и душа его сейчас здесь. А может быть, так и было. Он действительно умер в этот день, 2/15 апреля 1932 года.
Прошло несколько дней. Жизнь опять потекла по-старому. Соня заходила еще иногда к осиротевшей старушке, но на первых порах посетителей там было довольно, и они умели утешать, зачем же нужно ее молчаливое сочувствие?
На некоторое время повысил настроение ответ на ходатайство о снижении налога. Он был получен как раз вовремя, совсем незадолго до срока уплаты второй половины. В нем разъяснялось, что оценка храмов и налог остаются на уровне 1928 года. Окрфинотделу предписывалось сделать перерасчет не только по Воскресенскому собору, но и по всем церквам Пугачевского округа, а переплату зачесть в счет будущих лет. Получилось, что уплаченная сумма полностью погашает налог за 1932 и 1933 года, да еще остается часть на 1934 год. Оказывается, был закон об исчислении налога с церковных зданий по 1928 году, но финотдел тщательно скрывал его…
Еще раз подтвердилась поговорка, которую не раз употреблял о. Сергий: «Законы святы, да исполнители – лихие супостаты». Есть закон, но кто о нем знает и как добиться его применения в жизни? Задача почти невыполнимая. На этот раз помогли митрополиты, но они старались помочь не только в данном случае, а пользы от их усилий обычно получалось мало. Здесь была явная милость Божия, испрошенная усердными молитвами верующих.
Утром на восьмой день после смерти Александры Михайловны к Соне пришла Прасковья Степановна. Она просила Соню сшить ей блузку к празднику, и теперь как раз шла примерка. Зашел и Михаил Васильевич, вернувшийся из церкви. Он бывал каждый день и не по одному разу, но почему-то его вид заставил насторожиться. К чему эти вопросы о последнем письме, зачем он говорит, не договаривая? И дочери молчали, не спрашивали. Хотелось еще хоть полчаса, хоть несколько минут не слышать последнего решительного слова, не убивать окончательно надежду, которая, оказывается, еще ютилась где-то в сердце, хотя казалось, что погибла уже давно. Соня напряженно, как смертного приговора, ждала прихода брата и… шила.
О. Константин не вошел в комнату, должно быть, боялся, что его лицо сразу скажет слишком много, и прямо с порога начал:
– Я получил тяжелое известие о папе… – И замолчал. Чтобы подготовить, или не мог выговорить рокового слова? И не надо заставлять его сказать, нужно опередить его.
– Умер! – вскрикнула Соня.
– Замучили! – зарыдал о. Константин.
После первого порыва горя слез не было. Не то чтобы они сдерживались, нет, просто их не было. Поддерживала восторженная мысль о подвиге жизни умершего, о том, как его любили и жалели посторонние люди, иначе совершенно невыносима была бы образовавшаяся пустота. Как будто ушло все, что наполняло жизнь. Последнее время все мысли сводились к отцу – где он, как себя чувствует, о чем думает?
Случалось что-нибудь интересное – нужно не забыть сообщить папе. Возникало ли какое сомнение или колебание – нужно спросить его мнения. Даже во время погребальной службы явилось то же желание – рассказать ему. А теперь – никого и ничего, мир опустел, не о ком думать, не о чем заботиться, казалось, даже совесть, воплощенная в его твердых принципах, замерла.
Не столько внутренняя потребность, сколько необходимость сообщить о предстоящем отпевании, повлекла Соню к Юлии Михайловне. Старушка вытирала пыль с комода и, не отрываясь от своего дела, приветливо спросила девушку, почему она не была на вчерашних поминках. Соня спокойно села в кресло к столу и так же спокойно, почти равнодушно сказала: «Папа умер».
Юлия Михайловна осеклась на полуслове и переспросила:
– Что?! – словно думала, что ослышалась.
– Папа умер, – повторила Соня и по изменившемуся лицу старушки на минуту поняла всю глубину своего несчастья. Взволнованная, вся в слезах, Юлия Михайловна подскочила к ней и, тряся ее за плечо, закричала:
– Умер! Так что же вы не плачете? Плачьте же, плачьте!
Выступившие слезы лишь слегка смочили глаза девушки, всего несколько капель сорвалось с ресниц. От них сразу стало легче и захотелось выжать еще хоть одну, но глаза уже опять высохли. Но и за эти слезы Соня и много лет спустя была благодарна старушке, как за благодеяние: не могло сердце больше вытерпеть своего окаменения. Упокой, Господи, чуткую душу!
Вечером Вербного воскресенья, на девятый день после смерти о. Сергия, было заочное отпевание. Тогда это был Редкий случай. О. Константин и о. Иоанн Заседателев, назначенный после закрытия единоверческой церкви настоятелем собора, долго советовались, как это сделать. О предстоящем отпевании объявили после обедни, ко всенощной собралось много народа. Из старособорного прихода пришел о. Николай Амасийский с несколькими певчими, еще кое-кто из прихожан.
После всенощной открыли царские двери, запели «Помощник и покровитель…» О. Иоанн и о. Константин вынесли на вышитой пелене наперсный крест о. Сергия, положили на аналой. Около креста, как бы в присутствии представителя покойного, началось удивительное по своей глубине священническое погребение. О. Николай с хором поют «Благословен еси, Господи!..»
Еще задолго до смерти о. Сергий не раз наказывал, чтобы при его погребении пели так называемым «простым» напевом, на глас, и Соня расстроилась, когда запели нотное, но о. Константин (конечно потом, дома) успокоил ее. Ведь делалось это с добрым намерением, певчие изо всех сил старались, чтобы все было как можно лучше. Очень хорошо и то, что инициативу взял на себя о. Николай. Из всего пугачевского духовенства именно с ним у о. Сергия было больше всего разногласий, доходивших иногда до очень неприятных объяснений; его участие в отпевании означало примирение.
«Волною морскою…»
Священники по очереди читают глубоко трогательные тропари канона. Те самые, которые семь лет назад, также в день Вербного воскресенья читались и пелись над гробом Святейшего Патриарха Тихона.
«Если помиловал здесь, человече, человека, тот там помилует тебя. И если какому сироте сострадал, тот избавит тебя там от нужды. Если при жизни нагого покрыл, и тот там покроет тебя с песнью: Аллилуия».
«Если в страну некую идуще требуем водящих, что сделаем, когда пойдем в страну неведомую? Многих тебе тогда водителей нужно, много молитв спутешествующих, чтобы спасти душу грешную, прежде чем достигнешь ко Христу и воспоешь Ему: Аллилуия».
«Безмолвствуйте же, безмолвствуйте; умолкните перед лежащим здесь и увидите великое таинство в страшный этот час. Умолкните, пусть с миром душа отыдет: в подвиге великом она содержится и в страхе многом молит Бога: Аллилуия».
Голос о. Константина временами вздрагивает, срывается. Его волнение передается окружающим, но ни шороха, ни рыдания. Все замерли, слушают.