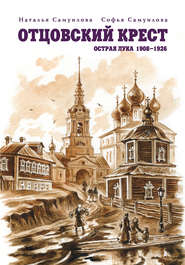По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Отцовский крест. Скорбный путь. 1931–1935
Год написания книги
1996
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ввиду того, что наш уважаемый о. Петр должен сегодня срочно выехать из города, с сегодняшнего дня всенощная будет начинаться в пять вечера.
Трудно было придумать что-нибудь менее логичное. Был бы смысл ввиду отъезда отслужить всенощную пораньше, чтобы и о. Петру дать возможность помолиться, и самим проводить его, но это значило бы через несколько дней отправиться за ним следом. Вместо того, как говорил о. Константин, сделали как будто глупое объявление, а цели добились. Народ все понял, и к вечеру у о. Петра были и деньги, и продукты на дорогу, даже запасное белье.
В половине вечерни о. Петр, одетый по-дорожному, вышел из алтаря, помолился на амвоне и пошел к выходу. Никто его не провожал, это могло только повредить ему. Все стояли на своих местах, словно он просто шел в сторожку окрестить слабого ребенка, только сердца рвались за ним.
Прошло довольно много времени, прежде чем он сообщил о себе. Оказалось, что по прибытии на место назначения его послали в лагерь на лесозаготовки, и только через несколько месяцев разрешили жить свободно.
«Я бы ни за что не вынес работы в лесу, если бы мне в Пугачеве не дали возможности вырезать грыжу. Теперь я вполне здоров и мог работать наравне с другими», – писал он, снова благодаря о. Константина за то, что тот «дал ему возможность лечь на операцию», т. е. послужил в это время один.
В последнем письме о. Петр описывал, как устроился в настоящее время. Он опять на приходе, в селе. Попросился поближе к родине, захотелось послужить среди своих сородичей-вотяков. После лагеря ему, конечно, там нравится, тем более, что удалось повидаться с дочкой; но некоторые забытые им местные обычаи удивляют его почти так, как удивили бы русского. Он писал, что народ духовно совсем дикий – «крещен, но не просвещен». Совсем не умеют вести себя в церкви – шумят, разговаривают в полный голос, стоят спиной к иконам, случается, что и семечки начинают грызть. Приходится время от времени останавливать богослужение и наводить порядок. Тут же в церкви устраивают поминки. Покойника везут с песнями, без церемонии усевшись на гроб. На крышку гроба прибивают шапку покойника и кисет с табаком.
«Я их уговариваю не делать этого, – писал о. Петр, – говорю, что на том свете табак не нужен, там не курят. А они отвечают: «Ты там не был, не знаешь’».
Письмо читалось в сторожке, в присутствии всех желающих послушать.
– Вот и нашему отцу дьякону, когда он умрет, мы кисет на крышку прибьем, – кольнула мать Евдокия.
Дьякон в ответ только что-то промычал.
Больше писем от о. Петра не было. Скорее всего он опять пошел по тому же пути, что и другие.
Глава 6. Последние встречи
Лето было жаркое или, может быть, казалось таким, потому что квартира была похожа на оранжерею, – окна со всех сторон, и горячее солнце с утра до вечера светило в них. Открывать их Максимовна запрещала: днем – мухи налетят, рамы рассохнутся, а вечером, особенно в дождь, – рамы разбухнут и перестанут закрываться. На ночь все выбирались во двор; устроили себе постели на больших пустых ящиках и спали там, даже если шел дождь. В душную комнату уходили только тогда, когда насквозь промокали старенькие стеганые одеяла, которыми они укрывались.
Особенно страдал от жары о. Константин, и летом ходивший в черном кашемировом подряснике. На то время дня, которое он проводил дома, он обосновывался на своей постели, тоже на ящиках, в узком переулочке между глухой стеной домика и забором. Там всегда была тень, всегда продувал сквознячок, место было укромное, и о. Константин, спустив с плеч жаркий подрясник и оставшись в голубой сатиновой рубашке, спал там, читал, делал выписки или готовился к очередной проповеди. Иногда к нему туда забирались Боря и Валя и начинались длинные разговоры. Пустых разговоров о. Константин не любил. Даже с детьми он умел говорить о том, что его в данный момент интересовало. Однажды он начал объяснять Боре чин пострижения в монашество.
– А вы, о. Константин, монах или нет? – задал мальчик так естественно вытекавший из темы разговора вопрос.
– Как тебе сказать, Боря? – задумчиво ответил молодой батюшка. Наполовину монах, наполовину нет.
Вале разговор был непонятен и потому неинтересен. Но сейчас он, как будто, перешел с теоретической почвы на практическую, и девочка поспешила уточнить:
– Какая половина черная, какая синяя? с интересом переспросила она.
Несмотря на жару, к тюрьме продолжали ходить ежедневно, а то и по два раза в день. Как и зимой, чаще всего ходила самая свободная, Соня. Для того, чтобы увидеть своих, вынуть из тайника записку и сунуть свою, или, когда намечался этап, проследить, не попал ли туда кто из своих, приходилось ходить среди дня. Жара стояла такая, что голова кружилась; иногда казалось, что не дойдет, упадет. А лишь только солнце спускалось к горизонту и воздух свежел, за тюремными стенами раздавался звонок на поверку и заключенных запирали. Каково-то им приходилось в душных, переполненных камерах в то время, когда даже в обычных комнатах было нестерпимо!
Священники, как и в прошлом году, занимались очисткой выгребных ям. Не выходил на работу один епископ Павел, считавший, что этим он унизил бы свой сан. Тяжело было целые дни сидеть в душной, выходящей окнами на юг, камере, но он терпел. Выходил только изредка, когда работу давали во дворе. Но тут работа тоже бывала разная.
Однажды духовенству предложили подготовить площадь для сада на месте монастырского кладбища. Батюшки задумались. Ведь это значило не только равнять с землей могилы, хотя и это было достаточно неприятно, – надо было еще и ломать кресты.
– Я не буду делать эту работу, – заявил о. Сергий. – У меня здесь где-то дедушка похоронен, не могу осквернять его могилу.
Другие поддержали его.
«Дедушка» дядя его тестя, был известный в свое время в Николаевском уезде подвижник отец Александр Кубарев, служивший когда-то в этом монастыре. Распоряжавшемуся работами надзирателю заблагорассудилось счесть такую причину отказа убедительной и он нашел другую работу – переносить в кладовку иконы, сложенные в подлежавшей сносу часовне.
И эту работу батюшки выполняли по-своему. Они брали иконы, как берут их для крестного хода, и с пением молитв переносили через двор мимо служебного корпуса, около которого сидели и стояли жены тюремных служащих. Женщины провожали глазами необычную процессию, некоторые крестились. Во время одного из рейсов к Владыке, несшему запрестольный крест, подбежал небольшой мальчик и попросил:
– Дедушка, дай я Боженьку поцелую!
Конечно, это был исключительный случай. Вообще-то на дворе почти нечего было делать, а «основная работа» не ждала.
Большим облегчением для работающих было то, что в этом году их после работы водили купаться на Иргиз. Сопровождаемые лениво передвигающим ноги конвоиром, они проходили вдоль задней стены монастыря, пересекали проложенную вдоль крутого берега проезжую дорогу, спускались под откос, раздевались в кустах и мылись, и плавали, сколько хотели, даже стирали запачканную одежду. Конвоир в это время спокойно сидел наверху; ему тоже приятнее было сидеть так и дышать свежим воздухом, чем бродить взад-вперед за арестованными от одной вонючей ямы до другой, или ждать в дежурке какого-то нового приказания.
На дороге за углом стены к этому времени всегда собиралась стайка женщин. Тут можно было вблизи видеть всех своих, и сами они видели всех пришедших, можно было перекинуться несколькими словами. Даже иногда, пользуясь тем, что конвоир зазевался (случайно или намеренно – это другой вопрос), можно было сунуть не в очередь узелок с какой-нибудь снедью. Записок тут не передавали, берегли и своих, и конвоира, да и нужды в этом не было.
Еще с прошлого года, когда о. Сергий был один, он обнаружил в стене недалеко от ямы вынимающийся кирпич и за ним идущее в сторону углубление; Наташина рука уходила туда чуть не по локоть. Вероятно, не один человек потрудился над изготовлением этого тайника, может быть, и о. Сергий не сам нашел его, а кто-нибудь из уходящих передал ему свой секрет. Остальное зависело от себя. Нужно было, выйдя в первой паре или возвращаясь в последней, пока нет конвоира, открыть и обшарить тайник, сунуть туда свою записку, вложить кирпич на место и отойти, как ни в чем не бывало. То же самое должны были проделать девушки, когда процессия скрывалась во дворе. При этом существовала дополнительная трудность: тайник скрывали от всех, даже от самых близких. В это время пришлось на практике убедиться в том, о чем не раз говорил о. Сергий, что тайна, известная двоим, уже не тайна (свою семью они считали за одного человека). Они не без основания полагали, что, узнай кто о тайнике, им начнут пользоваться в дело и не в дело, и попадутся. В частности, так могло получиться, если бы этим занялась матушка Моченева, немолодая, недостаточно подвижная и недостаточно осторожная. Настолько неосторожная, что приходилось все время опасаться, чтобы она не выдала посторонним тайну встреч у ямы и на берегу Иргиза. Об этих местах знали только непосредственно заинтересованные, т. е. семьи о. Сергия, о. Александра, мать о. Николая, да как «родственницы» епископа Павла мать Евдокия и Клавдия-просвирня. Больше об этом никому не рассказывали, чтобы не привлечь любопытных. Но Софья Ивановна недооценивала, насколько это важно, и все порывалась взять с собой кого-нибудь из знакомых.
– Они такие добрые, так хорошо к нам относятся, так жалеют, – говорила она об очередных своих кандидатках.
О. Сергий строго предупреждал против этого:
– Если вы сами не выдержите и проговоритесь, не сохраните свою тайну, то чужие тем более не сохранят ее, говорил он. А если слух об этом распространится, сюда будут приходить столько людей, что узнают и те, кому не нужно знать. Духовенство совсем перестанут выпускать за стены и всем будет хуже.
Поэтому, когда у ямы был еще кто-то кроме девушек и эти кто-то уходили домой вместе с ними, им приходилось выискивать предлог, чтобы вернуться с дороги, а иногда даже лишний раз идти из дому. Так случалось и тогда, когда в записке был вопрос, на который хотелось ответить немедленно.
Девушки рассказывали матушке, что было можно, из записок о. Сергия, иногда передавали ей записки мужа, передавали кое-что и от нее, когда она просила, но секрета своего не открывали. Тем более, что и за собой замечали: стоило чуть-чуть ослабить узду, и хотелось говорить со всеми и обо всем.
– У них есть какой-то способ сообщаться, – сказала однажды Софья Ивановна Елене Константиновне Авдаковой, удивлявшейся, откуда они узнают новости. Стоявшая рядом Соня промолчала, словно это не ее касалось.
Официальные пятиминутные свидания потеряли большую часть своего значения. Пропуска давались уже не в Управлении, а прямо в тюремной конторе. Это, в сопоставлении с тем, что никого из пугачевского духовенства давно не вызывали на допросы, говорило о том, что их «дело» закончено, и они почти что приравниваются к осужденным.
Выдачей пропусков чаще всего занимался Апексимов, уже официально исполнявший обязанности заведующего канцелярией. Когда к нему подходил кто-нибудь из детей о. Сергия, он уже не спрашивал, к кому, а начинал писать, стараясь не глядеть в глаза. Но держал себя так не потому, что пробудилась совесть, наоборот, он еще недавно показал, что не забыл старых счетов и может продолжать вредить.
Зимой в Пугачев привезли Сергея Евсеевича. Дорогой с машиной произошла авария, во время которой Сергея Евсеевича покалечило – поломало ему ребра. Неизвестно, где его держали, пока не сочли здоровым, только после выздоровления работу ему дали неплохую – охранять контору, топить печи. Это значило, что ночевать он будет в теплой комнате, а не на морозе и не в камере. Но в конторе его увидел Апексимов. Увидел и узнал. После этого Сергея Евсеевича перевели на более тяжелую общую работу.
«Апексимов решил смыть со своей совести последнее чистое пятно», – сказал по этому поводу о. Сергий.
* * *
Мише написали, что можно ожидать скорой отправки и хорошо бы ему приехать повидаться с отцом, но он ответил, что в самый разгар полевых работ ему едва ли удастся вырваться. Его открыточку передали отцу Сергию и перестали ждать. И вдруг, около Петрова дня Миша явился. Бросил все и приехал. Конечно, в первую очередь ему рассказали о вечерних купаниях, и он пошел к тюрьме, едва начало вечереть. Пошел, по мнению сестер, слишком рано, но они понимали его нетерпение, понимали, что он может попытаться увидеть отца еще где-нибудь до того, как их поведут купаться.
А у Миши, оказывается, был свой план. Познакомившись предварительно с местностью, он заранее, пока кругом никого не было и его никто не видел, спустился вниз, разделся в самых густых, непроницаемых для глаза кустах и сел там ожидать. Вот наверху послышались знакомые голоса, вот посыпалась земля под осторожными шагами спускающихся по круче людей. Вот они разделись, вошли в воду. Миша нырнул и под водой подплыл к купающимся.
Отец Сергий только что окунулся. Руками он отвел от лица длинные волосы, с которых текла вода, застилала ему глаза, мешала смотреть. И в этот момент перед его лицом, прямо со дна речного, появился Миша.
Конвоир сверху безмятежно смотрел на мелькавшие в воде головы. Он не считал их, его дело было наблюдать, чтобы никто не подплыл к купающимся со стороны, и они не уплывали далеко. Ему и в голову не могло прийти, что там, в воде, происходит самое продолжительное и самое свободное из всех бывших за этот год свидание. Отец и сын стояли в воде, делали вид, что моются, и говорили, говорили… А на остальных напала охота купаться как можно дольше. Конвоиру пришлось несколько раз окликнуть их, пока они, наконец, не торопясь, по одному, начали выходить из воды и одеваться. А Миша опять «канул в воду» – нырнул и пропал. Сидя в своих кустах, в нескольких шагах от купальщиков, он слышал, как они пересмеиваются между собой, удивляясь, как он ловко исчез:
– Ну, куда он теперь делся? Вроде бы и нет его нигде!
Соня с Наташей, конечно, не выдержали и пришли посмотреть, как произойдет встреча. На берегу они застали матушку Моченеву и Авдакову и мать Евдокию, тоже уже знавших о приезде Миши. Все они стояли наверху и волновались. Где он пропадает? Что медлит? Он уже пропустил время, когда купальщики прошли на реку, вот они идут обратно, а его все нет.
Еще издали женщины заметили, что возвращающиеся очень весело настроены. Особенной радостью светилось лицо о. Сергия; он даже ничего не сказал проходя, только посмотрел счастливыми глазами.
Зато шедшие сзади о. Александр и о. Николай не выдержали, заговорили:
– Ну и Миша! Настоящий артист! Артистически выполнил!
Трудно было придумать что-нибудь менее логичное. Был бы смысл ввиду отъезда отслужить всенощную пораньше, чтобы и о. Петру дать возможность помолиться, и самим проводить его, но это значило бы через несколько дней отправиться за ним следом. Вместо того, как говорил о. Константин, сделали как будто глупое объявление, а цели добились. Народ все понял, и к вечеру у о. Петра были и деньги, и продукты на дорогу, даже запасное белье.
В половине вечерни о. Петр, одетый по-дорожному, вышел из алтаря, помолился на амвоне и пошел к выходу. Никто его не провожал, это могло только повредить ему. Все стояли на своих местах, словно он просто шел в сторожку окрестить слабого ребенка, только сердца рвались за ним.
Прошло довольно много времени, прежде чем он сообщил о себе. Оказалось, что по прибытии на место назначения его послали в лагерь на лесозаготовки, и только через несколько месяцев разрешили жить свободно.
«Я бы ни за что не вынес работы в лесу, если бы мне в Пугачеве не дали возможности вырезать грыжу. Теперь я вполне здоров и мог работать наравне с другими», – писал он, снова благодаря о. Константина за то, что тот «дал ему возможность лечь на операцию», т. е. послужил в это время один.
В последнем письме о. Петр описывал, как устроился в настоящее время. Он опять на приходе, в селе. Попросился поближе к родине, захотелось послужить среди своих сородичей-вотяков. После лагеря ему, конечно, там нравится, тем более, что удалось повидаться с дочкой; но некоторые забытые им местные обычаи удивляют его почти так, как удивили бы русского. Он писал, что народ духовно совсем дикий – «крещен, но не просвещен». Совсем не умеют вести себя в церкви – шумят, разговаривают в полный голос, стоят спиной к иконам, случается, что и семечки начинают грызть. Приходится время от времени останавливать богослужение и наводить порядок. Тут же в церкви устраивают поминки. Покойника везут с песнями, без церемонии усевшись на гроб. На крышку гроба прибивают шапку покойника и кисет с табаком.
«Я их уговариваю не делать этого, – писал о. Петр, – говорю, что на том свете табак не нужен, там не курят. А они отвечают: «Ты там не был, не знаешь’».
Письмо читалось в сторожке, в присутствии всех желающих послушать.
– Вот и нашему отцу дьякону, когда он умрет, мы кисет на крышку прибьем, – кольнула мать Евдокия.
Дьякон в ответ только что-то промычал.
Больше писем от о. Петра не было. Скорее всего он опять пошел по тому же пути, что и другие.
Глава 6. Последние встречи
Лето было жаркое или, может быть, казалось таким, потому что квартира была похожа на оранжерею, – окна со всех сторон, и горячее солнце с утра до вечера светило в них. Открывать их Максимовна запрещала: днем – мухи налетят, рамы рассохнутся, а вечером, особенно в дождь, – рамы разбухнут и перестанут закрываться. На ночь все выбирались во двор; устроили себе постели на больших пустых ящиках и спали там, даже если шел дождь. В душную комнату уходили только тогда, когда насквозь промокали старенькие стеганые одеяла, которыми они укрывались.
Особенно страдал от жары о. Константин, и летом ходивший в черном кашемировом подряснике. На то время дня, которое он проводил дома, он обосновывался на своей постели, тоже на ящиках, в узком переулочке между глухой стеной домика и забором. Там всегда была тень, всегда продувал сквознячок, место было укромное, и о. Константин, спустив с плеч жаркий подрясник и оставшись в голубой сатиновой рубашке, спал там, читал, делал выписки или готовился к очередной проповеди. Иногда к нему туда забирались Боря и Валя и начинались длинные разговоры. Пустых разговоров о. Константин не любил. Даже с детьми он умел говорить о том, что его в данный момент интересовало. Однажды он начал объяснять Боре чин пострижения в монашество.
– А вы, о. Константин, монах или нет? – задал мальчик так естественно вытекавший из темы разговора вопрос.
– Как тебе сказать, Боря? – задумчиво ответил молодой батюшка. Наполовину монах, наполовину нет.
Вале разговор был непонятен и потому неинтересен. Но сейчас он, как будто, перешел с теоретической почвы на практическую, и девочка поспешила уточнить:
– Какая половина черная, какая синяя? с интересом переспросила она.
Несмотря на жару, к тюрьме продолжали ходить ежедневно, а то и по два раза в день. Как и зимой, чаще всего ходила самая свободная, Соня. Для того, чтобы увидеть своих, вынуть из тайника записку и сунуть свою, или, когда намечался этап, проследить, не попал ли туда кто из своих, приходилось ходить среди дня. Жара стояла такая, что голова кружилась; иногда казалось, что не дойдет, упадет. А лишь только солнце спускалось к горизонту и воздух свежел, за тюремными стенами раздавался звонок на поверку и заключенных запирали. Каково-то им приходилось в душных, переполненных камерах в то время, когда даже в обычных комнатах было нестерпимо!
Священники, как и в прошлом году, занимались очисткой выгребных ям. Не выходил на работу один епископ Павел, считавший, что этим он унизил бы свой сан. Тяжело было целые дни сидеть в душной, выходящей окнами на юг, камере, но он терпел. Выходил только изредка, когда работу давали во дворе. Но тут работа тоже бывала разная.
Однажды духовенству предложили подготовить площадь для сада на месте монастырского кладбища. Батюшки задумались. Ведь это значило не только равнять с землей могилы, хотя и это было достаточно неприятно, – надо было еще и ломать кресты.
– Я не буду делать эту работу, – заявил о. Сергий. – У меня здесь где-то дедушка похоронен, не могу осквернять его могилу.
Другие поддержали его.
«Дедушка» дядя его тестя, был известный в свое время в Николаевском уезде подвижник отец Александр Кубарев, служивший когда-то в этом монастыре. Распоряжавшемуся работами надзирателю заблагорассудилось счесть такую причину отказа убедительной и он нашел другую работу – переносить в кладовку иконы, сложенные в подлежавшей сносу часовне.
И эту работу батюшки выполняли по-своему. Они брали иконы, как берут их для крестного хода, и с пением молитв переносили через двор мимо служебного корпуса, около которого сидели и стояли жены тюремных служащих. Женщины провожали глазами необычную процессию, некоторые крестились. Во время одного из рейсов к Владыке, несшему запрестольный крест, подбежал небольшой мальчик и попросил:
– Дедушка, дай я Боженьку поцелую!
Конечно, это был исключительный случай. Вообще-то на дворе почти нечего было делать, а «основная работа» не ждала.
Большим облегчением для работающих было то, что в этом году их после работы водили купаться на Иргиз. Сопровождаемые лениво передвигающим ноги конвоиром, они проходили вдоль задней стены монастыря, пересекали проложенную вдоль крутого берега проезжую дорогу, спускались под откос, раздевались в кустах и мылись, и плавали, сколько хотели, даже стирали запачканную одежду. Конвоир в это время спокойно сидел наверху; ему тоже приятнее было сидеть так и дышать свежим воздухом, чем бродить взад-вперед за арестованными от одной вонючей ямы до другой, или ждать в дежурке какого-то нового приказания.
На дороге за углом стены к этому времени всегда собиралась стайка женщин. Тут можно было вблизи видеть всех своих, и сами они видели всех пришедших, можно было перекинуться несколькими словами. Даже иногда, пользуясь тем, что конвоир зазевался (случайно или намеренно – это другой вопрос), можно было сунуть не в очередь узелок с какой-нибудь снедью. Записок тут не передавали, берегли и своих, и конвоира, да и нужды в этом не было.
Еще с прошлого года, когда о. Сергий был один, он обнаружил в стене недалеко от ямы вынимающийся кирпич и за ним идущее в сторону углубление; Наташина рука уходила туда чуть не по локоть. Вероятно, не один человек потрудился над изготовлением этого тайника, может быть, и о. Сергий не сам нашел его, а кто-нибудь из уходящих передал ему свой секрет. Остальное зависело от себя. Нужно было, выйдя в первой паре или возвращаясь в последней, пока нет конвоира, открыть и обшарить тайник, сунуть туда свою записку, вложить кирпич на место и отойти, как ни в чем не бывало. То же самое должны были проделать девушки, когда процессия скрывалась во дворе. При этом существовала дополнительная трудность: тайник скрывали от всех, даже от самых близких. В это время пришлось на практике убедиться в том, о чем не раз говорил о. Сергий, что тайна, известная двоим, уже не тайна (свою семью они считали за одного человека). Они не без основания полагали, что, узнай кто о тайнике, им начнут пользоваться в дело и не в дело, и попадутся. В частности, так могло получиться, если бы этим занялась матушка Моченева, немолодая, недостаточно подвижная и недостаточно осторожная. Настолько неосторожная, что приходилось все время опасаться, чтобы она не выдала посторонним тайну встреч у ямы и на берегу Иргиза. Об этих местах знали только непосредственно заинтересованные, т. е. семьи о. Сергия, о. Александра, мать о. Николая, да как «родственницы» епископа Павла мать Евдокия и Клавдия-просвирня. Больше об этом никому не рассказывали, чтобы не привлечь любопытных. Но Софья Ивановна недооценивала, насколько это важно, и все порывалась взять с собой кого-нибудь из знакомых.
– Они такие добрые, так хорошо к нам относятся, так жалеют, – говорила она об очередных своих кандидатках.
О. Сергий строго предупреждал против этого:
– Если вы сами не выдержите и проговоритесь, не сохраните свою тайну, то чужие тем более не сохранят ее, говорил он. А если слух об этом распространится, сюда будут приходить столько людей, что узнают и те, кому не нужно знать. Духовенство совсем перестанут выпускать за стены и всем будет хуже.
Поэтому, когда у ямы был еще кто-то кроме девушек и эти кто-то уходили домой вместе с ними, им приходилось выискивать предлог, чтобы вернуться с дороги, а иногда даже лишний раз идти из дому. Так случалось и тогда, когда в записке был вопрос, на который хотелось ответить немедленно.
Девушки рассказывали матушке, что было можно, из записок о. Сергия, иногда передавали ей записки мужа, передавали кое-что и от нее, когда она просила, но секрета своего не открывали. Тем более, что и за собой замечали: стоило чуть-чуть ослабить узду, и хотелось говорить со всеми и обо всем.
– У них есть какой-то способ сообщаться, – сказала однажды Софья Ивановна Елене Константиновне Авдаковой, удивлявшейся, откуда они узнают новости. Стоявшая рядом Соня промолчала, словно это не ее касалось.
Официальные пятиминутные свидания потеряли большую часть своего значения. Пропуска давались уже не в Управлении, а прямо в тюремной конторе. Это, в сопоставлении с тем, что никого из пугачевского духовенства давно не вызывали на допросы, говорило о том, что их «дело» закончено, и они почти что приравниваются к осужденным.
Выдачей пропусков чаще всего занимался Апексимов, уже официально исполнявший обязанности заведующего канцелярией. Когда к нему подходил кто-нибудь из детей о. Сергия, он уже не спрашивал, к кому, а начинал писать, стараясь не глядеть в глаза. Но держал себя так не потому, что пробудилась совесть, наоборот, он еще недавно показал, что не забыл старых счетов и может продолжать вредить.
Зимой в Пугачев привезли Сергея Евсеевича. Дорогой с машиной произошла авария, во время которой Сергея Евсеевича покалечило – поломало ему ребра. Неизвестно, где его держали, пока не сочли здоровым, только после выздоровления работу ему дали неплохую – охранять контору, топить печи. Это значило, что ночевать он будет в теплой комнате, а не на морозе и не в камере. Но в конторе его увидел Апексимов. Увидел и узнал. После этого Сергея Евсеевича перевели на более тяжелую общую работу.
«Апексимов решил смыть со своей совести последнее чистое пятно», – сказал по этому поводу о. Сергий.
* * *
Мише написали, что можно ожидать скорой отправки и хорошо бы ему приехать повидаться с отцом, но он ответил, что в самый разгар полевых работ ему едва ли удастся вырваться. Его открыточку передали отцу Сергию и перестали ждать. И вдруг, около Петрова дня Миша явился. Бросил все и приехал. Конечно, в первую очередь ему рассказали о вечерних купаниях, и он пошел к тюрьме, едва начало вечереть. Пошел, по мнению сестер, слишком рано, но они понимали его нетерпение, понимали, что он может попытаться увидеть отца еще где-нибудь до того, как их поведут купаться.
А у Миши, оказывается, был свой план. Познакомившись предварительно с местностью, он заранее, пока кругом никого не было и его никто не видел, спустился вниз, разделся в самых густых, непроницаемых для глаза кустах и сел там ожидать. Вот наверху послышались знакомые голоса, вот посыпалась земля под осторожными шагами спускающихся по круче людей. Вот они разделись, вошли в воду. Миша нырнул и под водой подплыл к купающимся.
Отец Сергий только что окунулся. Руками он отвел от лица длинные волосы, с которых текла вода, застилала ему глаза, мешала смотреть. И в этот момент перед его лицом, прямо со дна речного, появился Миша.
Конвоир сверху безмятежно смотрел на мелькавшие в воде головы. Он не считал их, его дело было наблюдать, чтобы никто не подплыл к купающимся со стороны, и они не уплывали далеко. Ему и в голову не могло прийти, что там, в воде, происходит самое продолжительное и самое свободное из всех бывших за этот год свидание. Отец и сын стояли в воде, делали вид, что моются, и говорили, говорили… А на остальных напала охота купаться как можно дольше. Конвоиру пришлось несколько раз окликнуть их, пока они, наконец, не торопясь, по одному, начали выходить из воды и одеваться. А Миша опять «канул в воду» – нырнул и пропал. Сидя в своих кустах, в нескольких шагах от купальщиков, он слышал, как они пересмеиваются между собой, удивляясь, как он ловко исчез:
– Ну, куда он теперь делся? Вроде бы и нет его нигде!
Соня с Наташей, конечно, не выдержали и пришли посмотреть, как произойдет встреча. На берегу они застали матушку Моченеву и Авдакову и мать Евдокию, тоже уже знавших о приезде Миши. Все они стояли наверху и волновались. Где он пропадает? Что медлит? Он уже пропустил время, когда купальщики прошли на реку, вот они идут обратно, а его все нет.
Еще издали женщины заметили, что возвращающиеся очень весело настроены. Особенной радостью светилось лицо о. Сергия; он даже ничего не сказал проходя, только посмотрел счастливыми глазами.
Зато шедшие сзади о. Александр и о. Николай не выдержали, заговорили:
– Ну и Миша! Настоящий артист! Артистически выполнил!